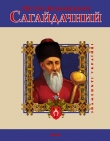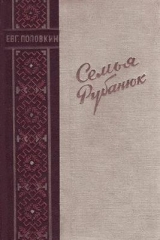
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 59 страниц)
Остап Григорьевич первый сошел с брички, размял затекшие ноги.
К воротам торопливо бежала мать. Она на ходу вытирала о фартук руки, поправляла выбившиеся из-под платка волосы.
Петро пошел ей навстречу, и она, добежав до него, прижалась головой к груди сына и застыла, не находя в себе сил оторваться. Петро гладил ее руки, волосы и вдруг почувствовал, что плечи матери под простенькой коричневой кофточкой вздрагивают от рыданий.
– Э, что ж это вы, мамо? – старался он успокоить ее, но и у самого застлало глаза.
Плача и смеясь, мать еще и еще прижимала его к себе. Только сейчас Петро заметил Василинку. Она жалась к заборчику и выжидающе глядела на брата. Петро улыбнулся ей, и Василинку словно сорвала с места незримая сила. Она бросилась к Петру, повисла у него на шее. Звонко целуя его в щеки, нос, ухо, она приговаривала:
– Братуня мой, братичек, ось тебе!
Задыхаясь, снова хватала его за шею, целовала в подбородок.
– А ну, хватит вам, – вступился за Петра Остап Григорьевич. – Как там, стара, с обедом?
Катерина Федосеевна вытерла фартуком глаза, побежала в хату.
Не выпуская руки брата, Василинка потащила его за собой умываться. Она сама вытерла ему руки свежим рушником, засматривая в глаза, спросила:
– Сорочку свою вышитую наденешь, Петрусь? Я ее тебе выгладила.
Разглядывая сестру, Петро удивленно пожимал плечами:
– Ну и повырастали вы все! Смотри, какая барышня!
– А ты б еще дольше не ехал.
– Хлопцы, поди, за тобой уже ухаживают?
– Нужны они мне как раз! – Василинка покраснела. – Скажет такое!
– Ну, сознайся, кто ухаживает? – смеялся Петро. – Наверно, Митька Загнитко? Он же тебе ровня.
– Совсем и не Митька.
– Ну, тогда Павка Зозуля?
– И не Павка. А ну тебя!
Василинка вдруг набросилась на кур, столпившихся около нее:
– Кш-ша! Вот вредные, так и ходят за мной.
Она держалась от Петра на расстоянии: слишком разгорелось ее лицо.
Мимо, прикрыв фартуком чашку, пробежала мать. Она улыбнулась, отвечая на улыбку Петра.
– Иди, Петрусь. Наголодал, верно, в дороге.
VIII
Какая мать после долгой разлуки с сыном не захочет накормить его обедом, каким никто нигде его не накормит! Кто не знает, как умеют встретить дорогого гостя на Украине!
На столе, накрытом по-праздничному в чистой половине хаты, появится холодец с хреном, янтарно-прозрачная капуста с зелеными стручками перца и яблоками, борщ, заправленный салом и забеленный сметаной, гусь или домашняя колбаса, скрючившаяся на жару. А потом гостя подстерегает еще немало новых испытаний: пампушки с чесноком или с медом, пирожки с капустой или с печенкой, вареники с творогом в масле и сметане, кисель вишневый и кисель молочный. И, венчая все это, над тарелками и мисками будет возвышаться бутылка с сургучной головкой.
…Негромко переговариваясь с женой, Остап Григорьевич помогал ей у стола: крупными ломтями резал пшеничный хлеб, доставал из шкафчика чарки.
– Ганька чего ж не идет? – спросил он, собрав крошки а ладонь и ссыпав их в тарелку.
– Прибежит. Управится – и тут будет, – ответила мать. Все сели за стол. Придерживая рукав пиджака, батько нацедил в граненые чарки светлую булькающую влагу:
– Ну, сынок, с прибытием! В родной хате.
– И за Ванюшку, – добавила мать. – Нехай ему легонько икнется с жинкой и хлопчиком.
Она незаметно утерла глаза: все дети дороги матери – а те, что с ней рядышком, и те, что где-то далеко.
Подняв чарку, Петро смотрел, как по ее щеке, удивительно еще свежей и разрумянившейся, скатилась слезинка, другая, и она, прикрыв кончиком платка дрожащий подбородок, смущенно улыбнулась.
– Холодцу, Петрусь, бери, – угощала она. – Ты ж его уважал.
– А вы совсем у нас молодая! – сердечно сказал Петро.
– Ох, сынок, какая там молодая! – вспыхнула мать. – Года – как вода…
После четвертой чарки лицо у отца стало красным и лоснящимся.
– Пей, Петро Остапович! Ешь! – вскрикивал он торжествующе. – Кто как, а Рубанюк своих детей в люди вывел. Ванюшка – подполковник, Петро академию прошел…
На мгновение он задумался. Потом стукнул кулаком по столу:
– Пей, Петро! Пускай и у других такие, дети будут!
– Что ты, человече добрый, разошелся? – остановила его Катерина Федосеевна.
– Гляньте на них! Чего это вы? – налетела на отца и Василинка. – Как маленькие.
Петро посмотрел на отца и засмеялся.
– Какие батьки, такие и дети, – сказал он.
– Ве-ерно! – вновь ударил по столу Остап Григорьевич. – Верные твои слова. Батьки еще свое покажут. За нашу богатую колхозную жизнь!
Он выпил, лихо обнял Катерину Федосеевну и чмокнул ее в смеющиеся губы.
– Та отчепись ты, старый! – отбивалась она. – Чего надумал! Как говорят: удастся бес, так выбей весь лес…
– Лес лесом, а бес бесом, – договорила Василинка под общий смех.
На столе уже появилось жаркое из гусятины, когда пришла Ганна с мужем, Степаном Лихолитом. Она мягко обняла брата, поцеловала его в щеку и уселась рядом. Расшитая цветным шелком, накрахмаленная сорочка туго облегала ее грудь, полные плечи и руки. Петро про себя дивился, как изменило сестру замужество.
Ганна тянула мужа за рукав к столу.
– Садись, Степа. Ну, чего ж ты стесняешься? Петро, ты ж его знаешь?
Петро отрицательно покрутил головой, засмеялся:
– На свадьбе не гулял, стало быть не знаю.
– Ну как же не знаешь?
– Шучу, шучу. Как же мне его не знать?
Остап Григорьевич громко командовал:
– Василинка, еще чарки! Стара, угощай зятька! Степан, тракторист МТС, высокий, крупный, сел между женой и Василинкой. В аккуратно отглаженной рубашке с отложным воротничком и галстуком он чувствовал себя как-то неловко.
Степан и его старший брат Федор, такой же медвежастый и молчаливый, славились как очень работящие хлопцы. До женитьбы Степан со своей гармонью был на всех посиделках желанным гостем.
Петру вспомнилось, что Ганне нравился другой – молодой фельдшер из соседнего села, и она даже собиралась замуж за него. «За эти годы, – думал Петро, – здесь все так переменилось! Не скоро разберешься, что к чему».
Он присматривался к лицам родных, отмечая происшедшие в них перемены, и ему вдруг очень захотелось увидеть, как изменилась Оксана. Но вспомнились слова Сашка́, и Петро помрачнел.
Не поддаваясь щемящему чувству, грозившему отравить радость встречи с семьей, он болтал с сестрами о пустяках, шумно чокался с батьком и Степаном.
Мать и сестры не знали, как угодить ему, чем еще угостить. Остап Григорьевич широко раскрыл окна: невинное тщеславие старика требовало, чтобы все соседи знали, как у Рубанюков встречают сына.
Петро растроганно, с благодарностью глядел на сияющие лица родных.
– Давайте выпьем, – сказал он дрожащим от волнения голосом, – за наших дорогих отца и мать. За то, что воспитывали нас, учили. Чтоб были наши тато и мамо счастливыми, чтоб хорошо прожили свою жизнь!
Остап Григорьевич поспешно поднес к глазам рушник: не сдержался и от избытка радостных чувств заплакал.
Петро почувствовал, что пьянеет, и отставил вновь налитую ему отцом чарку. В хате было душно от смешанных запахов еды, примятой ногами травы, вянущих листьев клена. Он вышел на воздух, в сад, и прилег на траве.
Уже совсем стемнело. Искрящимся от края до края пологом неба ночь укрыла село. Над землей текли пьянящие ароматы свежескошенного сена, акации, ночных фиалок.
Петро расстегнул сорочку и подставил разгоряченную грудь ветерку, тянувшему с луга. Ночные запахи, сухой треск кузнечиков вызвали в его памяти другой вечер – накануне его отъезда в Москву после каникул.
…Впервые он тогда засиделся с Оксаной допоздна. Она несколько раз порывалась уходить; смеялась и сердилась, но Петро не отпускал ее. Ему нужно было многое сказать ей. Он раньше и виду не подавал, что она ему нравилась, а перед отъездом пошел к Девятко, вызвал Оксану в садок.
Месяц лил тогда такие потоки света, стояла такая тишина, что была отчетливо видна плывшая в воздухе паутинка. Ее Петро помнит до сих пор. Вместе с Оксаной они смотрели на мерцавшую шелковинку, пока она не исчезла в тени тутовника.
Расставаясь, Петро долго вглядывался в озаренное луной лицо Оксаны. Пунцовая астра в ее волосах казалась голубой. Петро наклонился к ней, приблизил губы к ее губам. Оксана отшатнулась, молча стиснула его руку, задержала в своих теплых ладонях. Достала из-за рукава шелковый платочек, волнуясь, положила в карман Петру. Потом, не оглядываясь, убежала в хату…
Закинув руки за голову, Петро смотрел в мерцающее небо. На ум пришли слова об Алексее. «Три года – не пустяк, – оправдывал он Оксану. – Какая дивчина устоит?» Но как ни старался Петро уговорить себя, желанное успокоение не приходило.
В саду зашелестели раздвигаемые чьей-то рукой ветки.
– Братунька, где ты? – звала Василинка.
Петро откликнулся. Василинка подошла, опустилась рядом. Несколько минут они сидели молча.
– Василинка!
– А?
– Давай с тобой поругаемся, а то скучно.
– Ты чего такой смутный, Петрусь?
– Голова разболелась.
Василинка потрогала рукой его лоб, сочувственно разглядывала белеющее в темноте лицо брата.
– Чего ж ты про Оксану ничего не спрашиваешь?
– А чего спрашивать?
Василинка оживленно принялась рассказывать:
– Знаешь, Петрусь, как узнала Оксана, что едешь, так покраснела. Она дуже хотела тебя видеть.
– Хотела?
– Ага. Давай пойдем. Я до Настуньки собиралась, да одной неохота.
Петро поднялся, сел. Что ж, ему ведь весь вечер недоставало Оксаны. Он потер пальцами лоб, застегнул сорочку.
– Вынеси мне фуражку, – сказал он. – Сходим повидаемся.
IX
Яркие в ночной синеве полосы от ламп неровно ложились на улицу. Под хатами, на завалинках и дубках, – приглушенные голоса, журчанье балалаек, смех.
За бугром небо посветлело: собиралась всходить луна. На углу переулка чистый и сильный девичий голос завел:
Сонце заходыть, а мисяць сходыть,
Тыхо по морю човэн плывэ.
Невидимые в темноте девушки хорошо спевшимися голосами подхватили:
В човни дивчина писню заводыть,
Козак почуе, сэрдэнько мрэ…
Петро замедлил шаг, слушал, как песня отдавалась эхом далеко за рощей. В разных концах села послышались новые девичьи голоса. Песни заполнили теплый пахучий воздух, поднимались к высокому звездному небу, плыли над улицами и левадами, над черно-глянцевым сейчас Днепром, его песчаными отмелями и прибрежными перелесками.
Давно ли Петро вот так же сидел по вечерам с хлопцами и дивчатами под чьей-нибудь хатой? Или, повесив за плечо гармонь, шел с друзьями-комсомольцами на чужой куток[4]4
Куток – буквально: уголок. В тексте – дальняя улица, часть села (укр.).
[Закрыть]. Звонкие переливы трехрядки собирали молодежь со всего села, и тогда Петро, комсомольский вожак, овладевал посиделками, умело завязывал беседу о работе в колхозных бригадах, о лучших стахановцах, о том, какой станет Чистая Криница, как расцветет она, если каждый будет работать честно, с огоньком…
По дороге Петро расспросил Василинку о своих бывших друзьях. Почти никого не осталось в селе. Следом за Петром подались в техникумы и институты и Степа Усик, и Йосып Луганец, и Миша Сахно. Гриша Срибный приезжал зимой в отпуск в форме летчика; он окончил авиационную школу и летает где-то на Дону. Яким Горбань ушел служить в армию и остался на сверхсрочную.
Воспоминания о товарищах юности всколыхнули в памяти многое. Петро шел, испытывая такое чувство, словно он только вчера расстался с селом. Но незнакомые, по-мальчишечьи хрипловатые голоса под хатами напоминали о том, что уже подросло, вступило в свои права новое поколение.
За балочкой начиналась улица, где жили Девятко. Петро сразу различил хату, о которой так много думал эти годы. Окна ее, с тенями цветов на занавесках, казалось, светились не так, как в других домах.
К калитке с басовитым лаем кинулась собака. Кто-то скрипнул дверью, вышел на крыльцо. Василинка позвала:
– Тетка Палажка, это вы? Придержите Серка.
– Добре, племянница, – откликнулся смеющийся голос Настуньки.
Прикрикнув на собаку, она подбежала к воротам.
– Проходьте, пожалуйста, – засуетилась она, узнав Петра. – Ходимте в хату.
– Кто дома, Настуся? – прижимаясь к подружке, спросила Василинка.
– Никого. Маты пошли до бабы ночевать. Батько еще не приходили.
– А Оксана?
– Скоро будет. Нюську побежала провожать.
Настя пропустила Петра и Василинку в хату, забежала в свою комнатку причесаться.
Худенькая, с шапкой белокурых волос, буйно вьющихся над бойким личиком, быстроглазая и подвижная, она была в той девичьей поре, когда уже пробуждается интерес к мужчинам. Может быть, именно поэтому она держалась с парнями подчеркнуто насмешливо, мальчишек-сверстников беспощадно передразнивала и всячески выказывала им свое презрение. Только к Петру Рубанюку она относилась по-иному – и не без причины. Как-то раз, девятилетней девочкой, шаля с подружками на Днепре, Настя сорвалась с берега в воду и стала тонуть. Петро, переправлявшийся на лодке, вытащил ее и откачал. После он частенько подшучивал над ней по этому поводу, но она никогда не обижалась.
Петро помнил Настуньку девчонкой-озорницей, с измазанными чернилами пальцами. Сейчас она вошла смело и уверенно, совсем взрослая девушка, и, усевшись на скамейке, лукаво глядела на Петра.
– Мать родная! – весело произнес он. – Еще одна невеста подросла.
– Невеста без места, – засмеялась Настя.
Она переглянулась с Василинкой. Подружки, видимо, вспомнив что-то свое, дружно фыркнули.
– Вы чего?
Василинка, прыская, принялась рассказывать, как почтарь Малынец, напившись пьяным, шутливо сватался за Настю.
Петро слушал ее рассеянно. В чертах Настиного лица он отыскал то, что напоминало ему Оксану, и не сводил с нее глаз, Когда Настунька смеялась, на щеках ее появлялись такие же мягкие ямочки, так же широко открывались белые, блестевшие маленькие зубы.
– Что ж до сих пор нет Оксаны? – спросил он.
– Должна б уже вернуться. Подожди, Петро, я сбегаю. – Настя предупредительно вскочила.
– Сиди, – остановил ее Петро. – Лучше водичкой холодной угости.
Он пил крупными, жадными глотками и, услышав, как звякнула щеколда калитки, вздрогнул.
– Тато пришли, – сказала Настя, убирая кружку.
Кузьма Степанович, покашливая, переступил порог. Поздоровавшись, вопросительно посмотрел на Петра.
– Щось не признаю, – сказал он, загораживая рукой свет от лампы и вглядываясь.
– Богатый буду, – улыбнулся Петро.
– Петра не узнаете? – упрекнула Настя.
Кузьма Степанович, кряхтя, присел у стола, вытащил очки. Он остался таким же, каким видел его Петро последний раз. Выпуклый блестящий лоб с кустиками седых волос у висков, короткие, остриженные усы.
– Разве ж его признаешь? – оправдывался он, поблескивая очками в сторону Петра. – Вон какой стал! Ну, ну, будь здоров, Остапович! С благополучным прибытием!
Кузьма Степанович подсел ближе, приглаживая ладонями волосы. Поговорить со знающими людьми было его страстью.
– Что же там, в нашей столице, новенького? Воевать скоро придется? – осведомился он. – Ты теперь человек ученый. Хочу тебя спросить вот о чем. Все ж таки мы вроде как в союзе с Германией. Это ж большая сила, а? Теперь кто хочешь побоится. Может, войны и не будет?
Кузьма Степанович напряженно и пристально смотрел, ожидая ответа. Петро понял, что этот вопрос очень тревожил старика.
– Что вам сказать? – подумав, ответил он. – Договор-то у нас есть о ненападении. Может быть, нас и побоятся трогать.
– Ох, нет, – с сомнением покачал головой Кузьма Степанович. – Ближняя собака скорей укусит.
Он еще долго выпытывал у Петра новости – о приезде в Москву японского министра, о последних опытах ученых Тимирязевской академии. Постепенно разговор перешел на хозяйственные дела. Петро все время чутко прислушивался к каждому звуку, доносившемуся со двора. И когда под окнами прошелестели быстрые, легкие шаги, он на полуслове осекся и обернулся к дверям.
Оксана остановилась на пороге. Неестественно громким и веселым голосом она поздоровалась с Петром. Тот поднялся навстречу, молча сжал ее пальцы. Рука ее, теплая и мягкая, чуть заметно дрожала. Василинка и Настя перестали шушукаться, с откровенным любопытством смотрели на обоих. Оксана, покосившись на них, потянула Петра за собой:
– Пойдем, посидим у меня в комнатке.
X
Оксана прибавила в лампе огонь и задернула занавеску на окне.
– Какой ты у нас москвич, показывайся, – сказала она, поглядывая на Петра блестящими глазами.
Петро стал у окна. С плохо скрываемым волнением наблюдал он, как Оксана прикалывала к волосам красную гвоздику.
– Это чтобы понравиться, – сказала она, чувствуя на себе его пристальный взгляд и за шуткой стараясь скрыть растерянность.
– А если не поможет? – посмеиваясь, спросил Петро.
От него не утаилось, что девушка взволнована: ее выдавали побледневшие щеки, дрожащие пальцы, которыми она закалывала цветок. Но, несмотря на волнение, она держала себя свободно. «Это уже не та девчонка, которая с такой наивной робостью дарила платочек», – подумал Петро.
Он всматривался в черты ее лица. Оксана была даже лучше, обаятельнее того образа, который за время разлуки создало воображение Петра и с которым он так свыкся.
– Ну, Оксана, – произнес он, шагнув к ней и положив руки на ее плечи, – здравствуй!
Оксана отстранила щеку от его губ, с силой сбросила руки.
– Ты что это, Петро?!
В голосе ее слышались негодующие слезы, лицо выражало такую обиду, что Петро растерялся и удивленно отступил к столу. Он не понимал, что могло быть плохого в его дружеском порыве. Резкость Оксаны оскорбила и огорчила его.
Оксана, видимо, хотела сказать еще какую-то колкость, но, мельком посмотрев на него, только пожала с досадой плечами.
С минуту они сидели молча.
– И что это за мода у хлопцев? – сказала Оксана беззлобно. – Ты же не знаешь – может, у меня есть… кому обнимать.
– Знаю, что есть, – голос Петра дрогнул. – Я просто рад, что вижу тебя. И поцеловал бы от души. С чистым, сердцем.
Оксана посмотрела на него исподлобья.
– Что ты знаешь?
– Слышал, что жених есть.
– Уже успели… Как это ты надумал приехать? Даже не верится.
– Приехал, – коротко ответил Петро.
– Прямо записать где-то надо…
Петро, скорей по ее насмешливому взгляду, чем из слов, понял горький намек. Но он был слишком задет холодным приемом и поэтому круто переменил разговор.
– Расскажи, Оксана, как ты живешь?
– Что о себе рассказывать? Кончила десятилетку, ты знаешь. В институт поступила.
– Нравится в медицинском?
– Очень интересно. Ну, а ты? Помнишь, писал, что хочешь карту садов составить.
– Думаю здесь заканчивать.
Петро отвечал на вопросы Оксаны о московской жизни, о практике на мичуринских станциях, но вскоре заметил, что она слушает рассеянно, с невеселым лицом.
– Что ты такая? – спросил он.
– Какая?
– Скучная. Надоели тебе мои рассказы?
– Нет, нет. Говори. Я даже голос твой забыла.
– Но все-таки непонятная ты.
– Почему?
– Вот ты меня так… недружелюбно встретила. А почему?. Помнишь, когда мы расставались, что ты говорила?
– Помню.
– А паутинку помнишь?
– Какую?.. А!
Оксана перевела взгляд с его лица на окно. Из-за шелестевшей верхушки каштана серебрился край ущербленной луны.
– Тогда было светлей в саду, – сказала Оксана. – И ветра совсем не было.
Она склонила над столом голову, медленно разглаживала рукой складки полотняной скатерти. Волосы ее чуть слышно тонко пахли ромашкой.
– А ты?.. – тихо спросила она. – Неужели у тебя не было дивчины? Не верится, Петро.
– Друзья девушки были и есть. А любил и… люблю я одну…
На крыльце кто-то переговаривался. Оксана поднялась, но я эту минуту в дверях показалась голова Насти.
– Петро, – шепотом позвала она, – Лешка тебя ищет.
– Ну, позови его. Мы ж еще не видались с ним.
– Я сбрехала… сказала, что никого нет. А он такой настырливый. Не верит. И чего это он на ночь глядя приперся!
– Покличь его, – сказала Оксана. – Зачем ты обманываешь?
Алексей ворвался в комнату шумный и оживленный. Радостно поздоровавшись с Петром, он сел против него на краю постели.
– Я с бригады прямо до вас побежал, – говорил он, скручивая цыгарку и не спуская с Петра глаз. – Батько твой сюда меня направил. Наших хлопцев, слыхал наверно, никого в селе не осталось.
– Знаю.
– Погостевать приехал, Петро?
– Нет, работать.
– Вот это добре! Мы тут скучали за тобой.
Прикрывая цыгарку пригоршней и обволакивая себя клубами едкого желтого дыма, Алексей скороговоркой выкладывал сельские новости, и было видно, что он, хотя и насторожился, все же искренне обрадован приездом школьного товарища.
Петро слушал его, украдкой посматривая на Оксану. Она, подперев щеку ладонью, молча глядела то на Алексея, то на Петра, и по задумчивому лицу ее нельзя было определить, слышала ли она, о чем идет речь, или думала о своем.
Алексей вдруг обратился к ней:
– Ты, Оксана, хочь угостила Петра?
– Да я сейчас наугощался, – сказал Петро. – Спасибо, ничего не надо.
– Как это не надо? – закипятился Алексей, – Оксанка, ступай неси чего-нибудь закусить. Наверно, и по чарочке найдется?
Петро, удержав вскочившую с места Оксану, сказал Алексею:
– Хорошим друзьям при встрече и без вина должно быть весело. Верно?
– Как же это не угостить гостя! – сокрушался Алексей. – До меня пойдем, так у моей матери целый литр припрятан.
– Ладно, успеется.
Засиделись за разговорами до полуночи. Вразнобой закричали первые петухи, когда Петро с Алексеем собрались по домам. Оксана накинула на плечи платок, вышла проводить до ворот.
У калитки Петро сказал:
– Мы с тобой еще не обо всем поговорили, Оксана.
– Всего никогда не переговоришь, – ответила она и мельком посмотрела на Алексея.
– Побалакай с хлопцем, чего ты, – свеликодушничал тот.
– Ох, уже не рано.
– Ну что ж, будь здорова! – сказал Петро, пожимая ей руку.
Алексей проводил его до самых ворот и ушел лишь после того, как Петро пообещал посидеть с ним завтра вечерком.
XI
В субботу, чуть забрезжил рассвет, Остап Григорьевич собрался на остров. Перед уходом, тихонько ступая на носках, он заглянул в чистую половину хаты, к сыну.
Петро, сидя на кровати, натягивал сапог.
– Что так рано? – удивился отец. – Маловато спишь.
– Хочу с вами в сад пойти. Вы как добираетесь до сада? Паромом?
– Паромом… А если есть желание, можем лодкой. Хорошую справили.
– Лучше лодкой.
Петро перекинул через плечо полотенце, вышел во двор. Он снял с себя нижнюю сорочку, плеснул на грудь черпак ключевой воды. Вода была ледяная. Петро, жмуря глаза и шумно отдуваясь, быстро растирал грудь, руки, шею.
Мать несла мимо подойник с парным молоком. Поставив в погреб молоко, она вернулась, чтобы помочь сыну умыться.
– Повидался, Петрусь?
– С кем?
– Ты же вчера до Девятко ходил.
Он ответил неохотно:
– Повидался.
– Иди снидать, Петрусь, – позвала Катерина Федосеевна, когда он кончил умываться.
– Куда в такую рань?
– Хоть молочка выпей, – настаивала мать. – Свеженького.
– Поешь, вернемся не рано, – посоветовал отец.
– Ну, добре.
Наскоро позавтракав, Петро взял весла и пошел следом за отцом к Днепру.
Утро расцветало в необычайной тишине. Застывшие в безветрии листья деревьев, молодые сосенки, стебли трав искрились на солнце жемчужной россыпью росы. Над зеркальной гладью воды поднимался нежно-розовый пар.
Петро дошел до Днепра, остановился, любуясь зеленеющим островом. Оба берега – отлогий, с редким сосновым молодняком на песчаных бурунах, и крутой, с могучими дубами, простершими над яром широкие ветви, – были залиты чистым утренним светом.
Петру вспомнилось, как он, готовясь в Тимирязевку, часто приходил сюда, на берег, и засиживался с книжками подчас дотемна. Днепр был то прозрачно-зеленым в ясный летний день, то синим перед грозой, на закате пламенел; сколько дум передумал тогда Петро, глядя на его волны, спокойно катившиеся к морю! Временами ему казалось, что из его затеи поступить в Тимирязевку ничего не получится. Знания у него были невелики, и надо было отказаться от гулянок, развлечений, отдыха, чтобы успеть пройти большую и трудную программу. Но в минуты сомнений Петро вспоминал крепко врезавшиеся в память слова старшего брата, Ивана: «Тебе и мне, Петрусь, все родина дала, чего батьки наши в своей жизни не имели. Пока молод, память хорошая, учись, набирайся побольше знаний. Сторицей надо вернуть все, что дала нам советская власть!»
И вот позади и бессонные студенческие ночи, и томительные годы разлуки с семьей, с любимой девушкой. Два-три денька на отдых, и – за работу!
…По узкой тропинке на противоположном берегу поднимались от парома в гору женщины с тяпками на плечах.
– Ганькин участок за садом недалеко, – сказал Остап Григорьевич, отвязывая лодку. – Добрые у них этот год бураки.
Петро приладил весла, засучил рукава рубашки. Отец оттолкнул лодку, сел на корму. Пахло рыбой и мокрыми корягами. «В воскресенье пойду порыбалить», – мысленно решил Петро.
– Хорошо ловится рыба? – спросил он.
– Неплохо.
Остап Григорьевич набил трубку, но раскуривать не торопился: уж очень чистый воздух стоял над водой.
– Немножко освобожусь, порыбалим на неделе, если интересуешься, – сказал он.
– На неделе, тато, вряд ли выйдет. В понедельник поеду.
– Куда?
– В район. Надо за дело браться.
– Ты ж дома совсем мало был.
– Буду наезжать. Теперь недалеко.
– Погуляй три-четыре денька. Мать обижаться будет.
– Не смогу я… без работы.
– Ну что ж, – обиженно, разглядывая мозоли на руках, сказал Остап Григорьевич. – Делай, как твоя совесть приказывает…
В старом фруктовом саду было тихо, безмолвно. Под неподвижными кронами деревьев, вокруг поздно зацветших зимних яблонь вились пчелы, мелькали яркокрылые бабочки. В прохладной тени серебрилась влагой трава.
Петро знал здесь каждое деревцо. Когда-то он был неплохим помощником отца в его садоводческом деле.
Остап Григорьевич повел сына мимо питомника, к двух– и трехлетним посадкам. Ровными, под шнурок, рядками в аккуратных лунках стояли новые сорта яблонь, груш, слив, персиков.
Поглядывая украдкой на Петра, старик говорил деланно-равнодушным тоном:
– Ты по садам поездил, посмотрел, что у людей есть. А мы тут потихонечку…
– Э, да сколько же тут сортов слив! – дивился Петро. – Даже «королева Беатриса» есть.
– Завелась и «королева», – поглаживая усы, хвалился Остап Григорьевич. – «Ажанская сладкая» есть, «ренклод», «яичная желтая» вон подрастает, «персиковая», «антарио»…
Он повел к деревьям-рекордистам. За черенками их приезжали откуда-то, чуть ли не с Черниговщины.
Осмотрев сад и питомник, Петро собрался уходить. Смутно было у него на душе. Шагая по саду за отцом, он вспоминал, как встретила его Оксана, как держалась весь вечер, и воспоминания эти наполняли его сердце тяжкой болью и тоской.
– Давай перекурим, – сказал Остап Григорьевич. – А потом пойдешь к сестре.
Они сели в холодке у шалаша. Петро протянул отцу портсигар.
– Э, нет! Я своего.
Старик полез в карман, с заметным холодком сказал:
– Ты думаешь, мне легко эти дерева доглядать?
– Нет, я этого не думаю. Откуда вы взяли?
– Сколько я горя хлебнул, пока это с земли все поднялось, – продолжал тем же тоном отец. – Другой плюнул бы и не морочил себе голову. Людей Девятко не давал, все на поля да на огороды. Пока допросишься инвентаря или химикатов, слезьми изойдешь. Один ответ: «Нету средств». Послухаешь такое раз, другой – думаешь: ну вас к дядьку лысому! А сердце ж, оно болит. Не об себе хлопотал. И снова идешь, копаешься…
Движением руки он остановил Петра, собиравшегося что-то сказать.
– А в этом году, – продолжал Остап Григорьевич, – с одного сада дохода тысяч шестьсот возьмем. Теперь и Девятко за мной следом бегает: «Чего еще, Григорьевич?» Говори, мол, все сделаем…
– Почему вы, тато, разговор об этом завели? Я же знаю, не легко вам.
– А ты думал, не приметил я, какой ты ходишь? Батько свои достижения показывает, а у тебя свои думки… Ты ж, сынок, китайку с жерделой спутал. Это как? Я промолчал, а сейчас все тебе выкладаю…
Петро сокрушенно покрутил головой. С выжидающей улыбкой смотрел он на отца.
– Ты не смейся, – с неожиданной суровостью сказал Остап Григорьевич. – Ты слухай, что тебе батько говорит.
– Слушаю, тато.
– Что это, скажи, за беда такая приключилась, что батькова хата тебе не милая? С матерью еще и не переговорил как следует, а уже ходу!
Петро молчал, ероша чуб, из одного уголка рта в другой перекидывая папиросу.
– Если девка глупая, туда-сюда шатается, – помолчав, продолжал отец, – так, значит, весь свет на ней сошелся? Лучшую, что ли, себе не найдешь? Гордости в тебе нету, сынку.
– Тут, тато, дело тонкое, – чужим, охрипшим голосом ответил Петро.
– Ты еще за юбку материну держался, – сказал отец, – а я глядел на тебя и в думках держал: «Добрый казак растет. Этот в жизни дорожку пробьет». Боевой рос, настойчивый. Ванюшка, тот помягче был. А теперь, выходит, тебя девка – и та может подкосить…
Петро отлично понимал, почему отец затеял этот разговор. Старик не мог простить Оксане, что она предпочла Петру кого-то другого.
– Раз вы об этом заговорили, – он повернулся к отцу, – я вам вот что скажу. Настойчивость тут ни при чем. Ее у меня хватает.
– Во, во! Верные слова.
– Нравится она мне, не скрываю. Жениться думал…
– Девка как девка, – пренебрежительно перебил Остап Григорьевич.
– …но заставить любить силой да настойчивостью еще никому не удавалось. И обвинять ее не в чем, тато. А дивчина она хорошая, напрасно вы о ней так отзываетесь.
– Ну и тебе печалиться нечего. Смотреть на тебя, такого, тошно.
Остап Григорьевич поднялся, выколотил о чурбак пепел из трубки.
– До Ганьки пойдешь?
– Пойду.
Разговор с отцом оживил Петра. «А и дотошный, – думал он, уходя из сада. – Старый, старый, а ничего не пропустит».
Он с облегчением вздохнул и, вспомнив суровое лицо отца, рассмеялся.
XII
На свекловичных полях было многолюдно, но звено сестры Петро разыскал без труда.
Ганна заметила брата издали. Оторвавшись от работы, она сказала что-то своим подругам и помахала рукой.
Обойдя межой зеленые рядки, Петро подошел к работающим, весело шевельнул бровями:
– Бог помочь, дивчата!
Девушки разглядывали его, не стесняясь, с откровенным любопытством. Одна из них, с закутанным от солнца лицом, блеснула глазами из узенькой щелочки в платке и откликнулась певучим, грудным голосом:
– Богы казалы, щоб и вы помогалы.
Ганна отложила мотыгу.
– Отдохнул, братуня?
– Отдыхать пока мне, Ганя, не требуется.
– У батька был?
– Заходил.
Дивчата проворно орудовали мотыгами, вполголоса переговариваясь меж собой и пересмеиваясь.
Ганна вытерла пот на загорелом лице, оглядела пройденную загонку; пышные рядки ботвы протянулись изумрудными лентами по взрыхленной угольно-черной земле. Увядали на солнце срезанные в междурядьях и примятые ступнями босых ног бледно-розовые стебли бурьяна.
– Хороший бурак, – похвалил Петро. – Видно, трудов не пожалели.
– А как же! Знаешь, сколько трудов? Мы ж и пахали глубоко, подкармливали. Сколько раз поливали. Это только сказать легко. Воду с Днепра ведрами таскали.