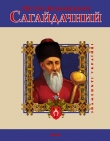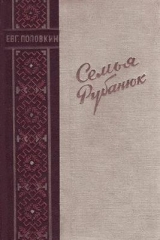
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 59 страниц)
Остап Григорьевич присмотрелся, разглядел бороду и чуть не ахнул:
– Товарищ Бутенко! Игнат Семенович!
– Я не Игнат Семенович, – с усмешкой откликнулся Бутенко. – Понял, господин Рубанюк? Что ж… Пойдем в сад, потолкуем.
Часть четвертая
I
В начале октября Петра выписали из госпиталя. Начальник хирургического отделения в последний раз осмотрел его ногу.
– Ну, старший сержант, теперь ты на коне. Езжай, бей фрицев, – сказал он с грубоватой лаской.
Петро получил документы, попрощался с врачами, нянями и сестрами и вышел за ворота.
Над городом, окутанным сизой дымкой, догорал закат, серебристо розовели в поднебесье аэростаты воздушного заграждения. Надвигались московские сумерки. Идти на пересыльный пункт было уже поздно. В госпитале задерживаться Петру не хотелось, и он стал перебирать в памяти адреса знакомых москвичей – к кому бы поехать.
На трамвайной остановке ждали вагона врач-майор, несколько женщин и юная сандружинница из хирургического корпуса госпиталя, где лежал Петро. На концерте для раненых девушка эта читала с большим чувством стихи одного фронтового поэта. Правда, читая, она дважды сбилась, но раскланивалась, как настоящая актриса, и ей хлопали дружелюбно и весело.
Петро подошел к ней.
– Совсем покидаете нас? – спросила она.
– Пора.
– Куда же теперь?
– У солдата один путь. На фронт.
– Нет, сейчас куда?
– В город. Поищу старых друзей.
Улыбаясь, Петро осторожно снял пальцем снежинку с белокурой прядки ее волос. Он вспомнил, как называли раненые девушку, и добавил:
– Ясно, Машенька?
– Не Машенька, а Мария… А вас зовут Петром. Я знаю.
Мария нагнулась, поправила металлическую застежку на резиновых ботах и сказала просто, как старому знакомому:
– Никаких друзей вы разыскивать не будете. Глупости! С больной ногой! Поедете к нам.
– Не стесню?
– Что вы! Мы вдвоем с мамой. Конечно, не стесните. Мало приятного бродить ночью по затемненной Москве.
Они с трудом вошли в переполненный трамвай.
– У Арбата сходить! – крикнула Мария, разыскав его глазами.
Мимо проплывали окраинные домики, пустыри, корпуса фабричных зданий. Петро разглядывал противотанковые рвы, проволочные заграждения, надолбы и стальные ежи, раскиданные на перекрестках дорог. Он видел их впервые, и то, что все это было построено в самой Москве, угнетало его.
Женщина с судками монотонно рассказывала старухе в большом шерстяном платке:
– Кончаю работу в половине шестого. Детишки сидят дома голодные. А столовая для детей фронтовиков – во Всехсвятском. Закрывается в шесть… Спешишь. Лезешь в трамвай через переднюю площадку, чтобы суп не расплескать. Ругаются, ну, и ты огрызаешься.
– Милая! – вздохнув, сказала старуха. – Им на фронте разве легче?
– Не к тому, что легче. Мой с первого дня там. Ни одного письма… Наверно, и нету его уже.
Женщины всю дорогу говорили о дровах, которых нет, о баррикадах на Ленинградском шоссе, о детских ботинках, которых уже целых два месяца нигде не купишь! На плечи женщин война взвалила столько тягот! Эти женщины рыли глубокие противотанковые рвы, закапывали в мерзлую землю бетонные надолбы, гасили пожары от «зажигалок».
…На трамвайной остановке Мария сошла раньше. Она хотела помочь Петру, но он отвел ее руку.
– Надо учиться ходить. Там, на передовой, помощников не будет.
Они шли неуютными затемненными улицами. Петро впервые видел военную Москву и дивился тому, как она изменилась. Мешки с песком у подвальных окон и витрин, глухой синий свет в подъездах. Даже милиционеры пользовались не яркими веселыми светофорами, а фонариками с зелеными я красными стеклами, за которыми тускло мерцали свечи. Петру казалось, что он идет по большой пустынной деревне.
Они уже приближались к темному многоэтажному дому, где жила Мария, когда протяжно загудели сирены и заводские гудки. В подъездах захлопали двери, торопливо зашаркали ноги по тротуарам..
– Мы в бомбоубежище не пойдем. Ладно? – сказала Мария.
– Хорошо, – ответил Петро рассеянно.
Его внимание привлекли два мальчугана, мчавшиеся во весь опор в сторону метро. Старший, лет восьми, крепко держа за руку младшего, перебирал ногами так проворно, что карапуз задыхался.
Петро, раскинув руки, остановил ребятишек:
– Спокойнее, спокойнее, мальцы. Вы почему одни, без мамки?
– Она дежурит у ворот, – ответил старший, часто дыша.
Петро поднял меньшого на руки. Сердечко билось у него, как у пойманного зайчонка, и Петро успокаивающе произнес:
– Успеете, не торопитесь. А главное, не бойтесь. Вы же все-таки мужчины.
Парнишки, оглядываясь поминутно на старшего сержанта с вещевым мешком за плечами, сделали несколько чинных шагов, снова взялись за руки и побежали еще быстрее. Сирены и заводские гудки продолжали тревожно завывать.
Петро и Мария поднялись по едва освещенной лестнице на третий этаж. Мария открыла обитую клеенкой дверь, ввела Петра за руку в темную прихожую, захлопнула дверь и только тогда включила свет.
В прихожей стоял смешанный запах нафталина, духов и кухонного чада. Перед высоким трюмо, на столике и сундуках была свалена верхняя одежда.
Мария пригласила Петра в комнату.
– Я сегодня дома впервые за неделю, – словно извиняясь за беспорядок, сказала она. – Мама тоже бывает редко. Почти не выходит с завода.
Она зажгла настольную лампу под зеленым шелковым абажуром, достала кипу старых юмористических журналов:
– Займитесь. Я хоть немного уберу.
Петро разглядывал журналы и не сразу расслышал, когда Мария его окликнула. Она стояла в дверях уже переодетая, кокетливо причесанная. Петро удивленно отметил, что без госпитального халата и белой повязки девушка утратила свой юный вид; перед ним стояла совершенно иная Мария.
– Товарищ больной, – шутливо сказала она, – идите принимать пищу.
Где-то невдалеке бухали зенитки, дребезжали в окнах стекла. Мария набросила темную шаль на лампу и повторила приглашение.
В столовой уже был накрыт стол: хлеб, коробка консервов, ломтики колбасы на тарелке.
Мария с удовольствием наблюдала, как ел Петро. Самой ей не хотелось есть.
– Может, хоть вы мне расскажете, как там, на войне? – спросила она. – В госпитале от больных ничего не добьешься.
– На войне – как на войне, – уклончиво сказал Петро.
– Нет, я серьезно! Мне очень хочется в пулеметчицы. Есть же девушки на передовой линии?
– Я воевал мало. Наверно, есть и девушки.
– Ничего себе! Знамя у фашистов отобрал, дважды ранен – и «воевал мало»! Скромник!
Петро нахмурился.
– Вы ошибаетесь. Никогда я знамени у фашистов не отбирал. И вообще никаких таких заслуг у меня нет.
Он действительно был убежден в том, что им на фронте сделано не так уж много, чтобы об этом распространяться. Стараясь изменить тему разговора, Петро спросил:
– Вы вдвоем с мамой живете?
– Да. Бабушка эвакуировалась.
– А отец?
– Папа на Урале с заводом.
– Что он там делает?
– Директор.
Мария назвала фамилию отца. Петро часто встречал ее в газетах. Ему хотелось расспросить девушку об отце подробнее, но она перебила его:
– Объясните мне, почему такая несправедливость? Об Анке, которая была у Чапаева пулеметчицей, все вспоминают с уважением, в книгах о ней пишут. А как только наши девушки заикнутся, что хотят на фронт, их высмеивают: «Девчонки! Куда вам!» Все равно меня не удержат! Мы еще с вами на фронте встретимся.
Петро покосился на раскрасневшееся лицо Марии, на ее сердито подрагивающие ноздри. «Девушка с характером», – мысленно одобрил он.
– Что же вы собираетесь делать на передовой?
– То есть как «что»? То, что все делают. Стрелять, в разведку ходить, раненых перевязывать.
– А стрелять умеете?
– Научусь! Вы ведь тоже не с пеленок это умели.
– Резонно… Прочтите, Машенька, стихи. У вас это здорово получается.
– А вы, я вижу, любите подтрунить, Петя.
– Что вы, Машенька!
– Мария, а не Машенька… Серьезно хотите, чтобы я почитала?
– Очень! На фронте вас за хорошие стихи самые отчаянные разведчики боготворить будут. Наш солдат ведь только внешне грубеет, Мария. А чувствует он все как-то тоньше, острее, что ли? Испытания облагораживают, выражусь так… Может быть, потому, что сражаемся мы за самое прекрасное, что есть у человека, И к этому прекрасному наши бойцы тянутся тем сильнее, чем суровее им приходится поступать с врагом. Понимаете, Мария, мою мысль?
– Очень хорошо. Так что же вам прочесть?
– Что хотите.
Мария прислонилась к окну и, откинув со лба грациозным движением прядь волос, стала читать:
Не весна как будто и не лето,
Что-то холоден небесный шелк.
Письмоносец с пачкою конвертов
К нам во двор с пакетами пришел.
Я взглянула, напрягая нервы,
На скрепленный марками конверт:
– Гражданин, скажите, в номер этот
Неужели писем еще нет? —
С высоты своей воздушной крыши
Солнце бросило лучи в глаза.
– Не волнуйтесь, милая, вам пишут, —
Письмоносец на ходу сказал.
И ушел. У всех работы много:
Друг писать сейчас не может мне.
Много дней письмо пройдет в дороге,
Да всего не выскажешь в письме;
И к себе, в остывшую квартиру.
Письмоносца я не буду ждать,
Буду в самом лучшем командире
Образ твой любимый узнавать.
Дни пройдут, и с теплою улыбкой
Вновь небесный развернется шелк.
Станет жарко. Сердце стукнет сильно.
Ты войдешь и скажешь: «Я пришел».
Стихи были наивны и далеки от совершенства, но Петра покорила та горячая искренность, с какой они были прочитаны.
– Кто написал эти стихи? – спросил он.
– Вы знаете, Петя, даже не помню, – сказала, смущенно улыбнувшись, Мария. – Они нравятся раненым, я их и записала. Когда в госпитале читаешь, я по глазам вижу, что каждому хочется, чтобы его ждали.
– Вы чудесная девушка!
– Обыкновенная.
Она посмотрела на часы и пошла в отцовский кабинет готовить для Петра постель.
– Если что будет нужно, я рядом, – строгим, как в госпитале, голосом произнесла она и, прощально махнув рукой, плотно прикрыла за собой дверь.
Петро уснул сразу и так крепко, что не слышал ни близких разрывов фугасок, ни тревожной беготни людей по лестницам. Очнулся он оттого, что ощутил на своем лбу горячую руку.
– Разве можно так спать! – дрожащим голосом говорила Мария. – Очень уж близко они швыряют… Одевайтесь, я уйду.
Петро быстро оделся, натянул сапоги. За окнами послышался воющий, быстро нарастающий звук. Грохот потряс стены, послышался звон стекла. Бомба, видимо, разорвалась на соседней улице.
– Пятисотку швырнул, – определил Петро.
– Знаете, – доверчиво сказала Мария, – когда чувствуешь, что можешь каждую секунду погибнуть, жалеешь только об одном…
– О чем?
– Что жизнь обрывается в самом начале. Старикам не так должно быть обидно. Я ведь ничего хорошего еще не успела сделать. Молодость, Петя, и замечательна тем, что у нее есть будущее. Правда? Все впереди! Еще неизвестное, но обязательно интересное и хорошее. И работа, которую выберешь себе, и… парень, которого полюбишь. У вас есть любимая девушка?
– Есть жена.
– Да? Как ее зовут?
– Оксана.
– Красивое имя. В пятьсот шестнадцатом эвакогоспитале, где я раньше работала, была медсестра Оксана. Хорошенькая украинка.
– Как ее фамилия? – спросил Петро, чувствуя, как быстро забилось его сердце и перехватило дыхание.
– Не помню, мы называли друг друга по именам.
– Ну какая она из себя?
– С длинными темными волосами, синеглазая.
Петро вскочил с дивана.
– Знаете, Мария, это она!
– Думаете? Погодите, у меня где-то фотография была. Мы группой снимались…
Мария ушла в свою комнату и вернулась с толстым альбомом. Она зажгла свет и среди портретов благообразных старушек, тетушек в старомодных пенсне, усатых и безусых мужчин отыскала тусклую любительскую фотографию.
Петро узнал Оксану сразу. Она сидела среди госпитальных работников, улыбающаяся, похорошевшая.
Белый халат и косынка медсестры были непривычны, но Петро видел только бесконечно дорогие, неповторимые черты ее лица, присущее только Оксане выражение ясных глаз, только ей одной свойственную улыбку, по которым Петро отличил бы ее от всех других, какой бы разлука ни была долгой.
– Оксана, – прошептал Петро, жадно разглядывая фотографию.
– Теперь я убедилась, что это она, – усмехнулась Мария. – По вашему виду.
– Расскажите о ней все, что знаете, – попросил Петро. – Где этот госпиталь?
– Был в Лефортове… Я дам адрес почтовой станции. А вообще… я плохо знаю вашу жену. Слыхала, что хвалили ее как хорошую сестру.
Налет прекратился. Мария пожелала Петру спокойной ночи. Шлепая комнатными туфлями, она ушла к себе, а он так и не смог уснуть до утра.
Встал Петро, когда за окнами было еще темно. Мария уже возилась на кухне. Услышав, что Петро проснулся, она быстро приготовила завтрак, заставила Петра поесть и выпить чаю. Она сидела за столом, устремив на него свои блестящие карие глаза.
– Что вы меня так, рассматриваете, Машенька?
– Так… – Она смутилась и, покраснев, отвернулась.
Записав адрес Оксаниного госпиталя, Петро надел шинель, фуражку, взял вещевой мешок.
– Зайдете, если будете в Москве? – спросила Мария, заметно волнуясь.
– Обязательно.
Мария, накинув на голову пушистый белый платок, вышла проводить его на лестничную площадку. Она протянула ему руку и, пристально посмотрев снизу вверх в его глаза, поспешно отвернулась. На ее ресницах Петро заметил слезинки.
– Что вы, Мария?
– Ничего!
Она выдернула руку, закрыла лицо платком и, не оглядываясь, побежала к двери.
II
Петра и еще двух красноармейцев, также выписанных из госпиталя, направили в Волоколамск, в стрелковую часть.
У контрольно-пропускного пункта они сели на одну из попутных автомашин со снарядами, и вскоре подмосковные пригороды остались позади.
Водитель, молчаливый парень, с такой широкой грудью и могучими плечами, что на нем еле сходился полушубок, вел пятитонку на предельной скорости, обгоняя другие машины и заставляя регулировщиц испуганно отскакивать с пути.
По сторонам шоссе мелькали обставленные свежесрубленными елками контрольные будки, фанерные щиты с надписями: «Убей оккупанта!», «Водитель, гаси свет!», «Все силы – на разгром врага!»
У одного из поворотов Петро прочитал на огромном деревянном щите:
СТАНЕМ НЕРУШИМОЙ СТЕНОЙ
И ПРЕГРАДИМ ПУТЬ ФАШИСТСКИМ ОРДАМ
К РОДНОЙ И ЛЮБИМОЙ
МОСКВЕ!
Петро не спускал глаз с плаката, пока его броские черные буквы не слились, а потом вовсе исчезли из виду. Петро знал, что фашистские захватчики находились уже в Гжатске и Юхнове, подошли к Туле и Калуге, угрожали Можайску. Мысль о том, что они прорвались так далеко вглубь страны, наполняла сердце острой тревогой.
Холодный, резкий ветер гнал по асфальтовой глади шоссе колючие снежинки и обожженные первыми морозами сухие листья. Вот такой же ветерок с морозцем гулял над Богодаровским шляхом, когда Петро лет семь назад вел по нему хлопцев из Чистой Криницы в районный центр на комсомольскую конференцию.
На мгновение с особенной ясностью вспомнилась его прежняя жизнь… Отец в белых домотканных шароварах, поющая Василинка… Волны у песчаного берега Днепра от проходящих пароходов… Дед Довбня, угощавший свежим медом на пасеке… Блестящие после дождя колеи степной дороги…
Все время на фронте Петро мечтал о том, как, наконец, будет он гнать гитлеровцев с Киевщины и, если посчастливится, ворвется с товарищами в Чистую Криницу. Об этом он думал и в первом бою, и когда шел из окружения, и когда лежал в госпитале. Вера в то, что так будет, поддерживала его в тяжелые дни отступления. Лишь бы скорее был дан приказ наступать! Этого он ждал с мучительным нетерпением, как ждали все фронтовики. Но войска по-прежнему отходили, цепляясь за каждую пядь земли, заливая ее вражеской кровью. Оккупанты бросали в бой все новые и новые части и двигались вперед. Вот уже далеко позади остались родные места: полонены врагом Чистая Криница, Винница, Корсунь, и Канев с могилой великого Кобзаря, и древний Киев. Захватчики уже в подмосковных лесах и деревушках…
Раненая нога озябла. Петро уселся спиной к ветру, пытаясь согреть ногу. Озабоченный тем, чтобы не отморозить ее, он даже не обернулся, когда пятитонка остановилась в хвосте машин.
Уже после того как они отъехали от контрольно-пропускного пункта, он вдруг заметил девушку в военной шинели, очень похожую на Оксану. Девушка стояла возле санитарной машины и провожала глазами шедшие к фронту автоколонны. Ее взгляд скользнул по фигуре Петра, но она отвернулась и заговорила с шофером.
– Оксана! – отчаянно закричал Петро.
Он вскочил и яростно забарабанил кулаком по крыше кабины. Водитель затормозил.
– Жену встретил! – крикнул Петро.
Он схватил вещевой мешок, соскользнул на шоссе и торопливо махнул водителю рукой:
– Слыхал? Жинку нашел! Поезжай!
Не спуская глаз с санитарной летучки, он, прихрамывая побежал обратно к контрольному посту. Девушка стояла все так же, задумчиво поглядывая вокруг. Она, она! Оксана!
– Оксана!
Навстречу ему шел густой поток груженых машин, сзади, фырча моторами, торопились автомашины с ранеными. У поста регулировщики переругивались с водителями. Но до сознания Петра все это доходило как в тумане.
– Оксана! Слышишь?!
Петро вытер рукавом губы. Правая щека его от волнения задергалась. Стало жарко, он опустил воротник шинели.
Оставалось пробежать еще немного. Но в эту минуту шофер опустил крышку капота, и девушка уселась в кабину. Петро опять крикнул:
– Оксана, это я! Петро!
Но его голоса не услышали. Машина тронулась.
В первую минуту Петро опешил. «Нет, надо догнать. Во что бы то ни стало!» – подумал он.
Добежав до контрольно-пропускного пункта, он вскарабкался на попутную пустую полуторатонку.
От контрольной будки подошел красноармеец с красной повязкой на руке. Молодцевато козырнув и резко опустив руку, он предложил Петру предъявить документы.
– С документами у меня в порядке, – поспешно сказал Петро. – Ты, милок, не задерживай. Жену потеряю, честное слово.
– В порядке, так в порядке, а показать надо, – строго сказал красноармеец.
По его тону и холодному взгляду чувствовалось: попадись ему сейчас родной отец или брат – он и их не признает, пока не проверит документов.
Петро дрожащими от нетерпения пальцами расстегнул шинель, достал командировочное предписание, справку из госпиталя о ранении. Зеленый кузов санитарной машины быстро уменьшался.
– Где лежали в госпитале, товарищ старший сержант? – спросил красноармеец смягчившимся голосом.
– В Москве.
– А сейчас где ваша часть?
– В Волоколамске.
– Почему же не в часть, а обратно едете?
– Говорю же, увидел жену. Догнать хочу. Пойми, ничего о ней не знал. Опять потеряю.
Красноармеец пристально посмотрел в лицо Петру. Искренний и горячий тон, а больше всего справка о ранении убедили его. Он наклонился к водителю и сказал:
– Сержант жену свою нашел. Дай-ка газку, пущай нагонит.
Но «дать газку» было трудно. В обе стороны по шоссе нескончаемым потоком катились машины, шли маршевые роты.
Санитарная машина, качнувшись на ухабе, скрылась за деревьями, и когда полуторатонка добралась, наконец, до поворота, заветная зеленая машина уже потерялась из виду.
От шоссе тянулся к лесу деревянный настил, проложенный вместо дороги, чуть поодаль, в другую сторону, уходила просека.
Водитель ехал дальше, к Москве. Петро слез, осмотрелся. С трудом наскреб в кармане махорку, свернул цыгарку.
«Все же теперь я знаю, что Оксана рядом. Разыскать будет легче», – утешал себя Петро.
Он сел в первую попутную машину и поехал в сторону фронта.
К обеду Петро добрался до второго эшелона армии. Он долго плутал между избами деревни, пока разыскал нужного ему штабного работника. Настоял на том, чтобы его опять направили пулеметчиком, и, разузнав, где искать свою часть, направился туда.
Нога еще побаливала, и даже налегке идти Петру было трудно. Через шесть километров он свернул к небольшой деревушке, решив здесь переночевать, а с рассветом отправиться дальше.
Деревушка насчитывала около десятка дворов, все избы были переполнены военными. К своему великому удовольствию, Петро узнал, что здесь как раз и расположилась часть, которую он разыскивал.
Младший лейтенант Моргулис, командир пульвзвода, простой и жизнерадостный парень, с двумя золотыми зубами, которые сверкали каждый раз, когда он улыбался, дружелюбно протянул Петру руку.
– Блиндажей у нас еще нет, – сказал он. – Так что переспим сегодня в Быковке. Забирайся в любую избу, кроме крайней с северной стороны. Там комбат капитан Тимковский поместился со своим штабом.
III
После почти двухмесячного пребывания в госпитале Петро снова обрел фронтовую солдатскую семью.
Он пошел к ближней избе, поднялся на крыльцо и потянул на себя дверь. В лицо ударил спертый запах прелой соломы, махорочного дыма, сушившихся портянок.
У самого порога и дальше на полу, на полатях и лавках сидели и лежали вповалку бойцы. Тусклый свет коптилки освещал только ближайших к двери, но по непрекращавшемуся натужному кашлю и хриплым голосам Петро понял, что людей набилось в избу очень много. «Тут если и знакомые есть – не разглядишь», – подумал он, осматриваясь.
Шагнув к свободному местечку, он задел ногой лежавшего на спине с самокруткой в зубах бойца.
– Куда прешь?! – крикнул тот зло. – Ты еще на лицо мне наступи.
– Подвинься трошки, – спокойно сказал Петро. – Да не ругайся, а то и я умею быть сердитым.
– Двери, Прошка, заложи! – крикнули из темноты. – Будут тут до ночи шляться. И так дыхнуть нечем.
– Это ты и есть Прошка? – спросил Петро злого бойца. – Ну-ка, принимай в соседи.
Прошка буркнул что-то и нехотя подвинулся. Петро снял вещевой мешок, положил его в головах и, опустившись на солому, стал стаскивать сапог. Раненая нога ныла, и он стал растирать ее.
Ему хотелось есть, но ничего съестного в вещмешке не было.
– Сухарик не завалялся у тебя? – спросил он сердито посапывающего Прошку.
– А если и завалялся? – вызывающе сказал тот. – Што я, специально для тебя носил?
– Скорей у курицы молока выпросишь, чем у Прошки чего-нибудь вымолишь, – вмешался лежавший сбоку Петра пожилой красноармеец.
Он приподнялся, порылся в своих вещах и протянул Петру краюху хлеба и кусок колбасы.
В разных углах избы раздавался громкий храп. На печи не умолкал тихий разговор. Там лежал с красноармейцами старик хозяин; он остался один, семья его эвакуировалась в тыл.
Дед вполне освоился со своим холостяцким положением. Ворчал на бойцов, забывавших закрывать двери, охотно пользовался их табачком, харчами и, страдая бессонницей, всю ночь напролет готов был толковать о войне, о разных житейских делах.
Насытясь и попив из ведра ледяной воды, Петро намеревался заснуть, но разговор на печи его заинтересовал, и он прислушался.
– …Как ты ни оправдывайся, отец, плоховато вы тут живете, – говорил насмешливый, по-мальчишески ломкий голос. – Ни электричества в курене, ни фруктового сада на подворье. Ты бы к нам приехал, поглядел…
– Куда это к вам?
– На Кубань. Вот где житуха!
Старик тягуче закашлялся, потом уселся, подогнув под себя ноги, принялся сворачивать цыгарку. Сиплым голосом сказал:
– Вот сколько народу идет, ночует, а никто не скажет: цела выставка эта… хозяйственная… или нет?
– Сельскохозяйственная, что ли? Зачем она тебе?
– Как это «зачем»? Думаешь, мы не были на ней?
– И ты был? – с недоверчивой ухмылкой спросил чей-то сонный голос.
– А чего мне не быть? Внучка-то моя за главную доярку. Ее коровенок на выставке этой дипломом вознаградили.
В голосе старика послышались горделивые нотки. Управившись с цыгаркой, он продолжал:
– Если бы не война, наша деревня еще не то бы перед людьми выставила. Тебе вот, служивый, электричество поперек стало. А оно не везде сразу…
– Нет, дед, – весело перебил его парень, видимо нарочно подзадоривавший старика, – некультурно живете.
– Поживи-ка с мое, – рассердился дед. – Мне-то за восемьдесят. Ты-то не помнишь, как в белокаменной нашей этого электричества и в помине не было. Масленками светили да керосином. Конка по улицам ходила… А нонче какой город! Видал? Наш человек, русский, подмосковный, строил. Два зятя у меня в инженерах. Оба наши, быковские… Ты сам-то, чай, не с Москвы?
– Нет, я издалека. С Кубани.
– Ага! А пришел за Москву воевать? И правильно! В Москве вся она, наша жизненность, заключается…
Под разговоры на печи Петро незаметно уснул. Уже под утро он услышал сквозь сон громкий стук в дверь. На крыльце и под окнами разговаривали, перекликались чьи-то сиплые голоса.
Прошка поднял голову и лениво крикнул:
– Чего стучишь? Нету места.
– Ты человек? – вопрошали за дверью. – Ну, и я человек.
– Не гавкай, – равнодушно откликнулся Прошка и снова улегся.
Дверь яростно затряслась. Петро встал, перешагнув через спящих, отодвинул засов. В избу, впуская клубы пара, стали втискиваться бойцы. Подшлемники, брови, ресницы их были белыми от инея.
По отрывкам фраз Петро догадался, что это сибиряки. В госпитале говорили о них много похвального. Он доброжелательно наблюдал, как, словно на подбор, крепкие, коренастые парни умудрялись расположиться в набитой до отказа избе, охотно помогали друг другу.
– Много вас таких идет? – спросил Прошка одного.
– Хватит! – уклончиво ответил тот.
Петру ответ понравился. Несмотря на новенькое снаряжение и оружие, сибиряки не произвели впечатления новобранцев, новичков в военном деле. К фронту их шло, очевидно, много (за окнами не стихал гомон), и Петро с радостным облегчением подумал о том, что с такими вот ребятами непременно удастся здесь, под Москвой, погнать захватчиков.
– Вы, хлопцы, поудобней располагайтесь! – приглашал он, убирая свой мешок к стенке и подгибая под себя ноги. – Отдыхайте.
Но едва сибиряки успели отогреться, за окнами властный голос закричал: «Выходи-и-и строиться!»
Бойцы загремели котелками, оружием, и вскоре в избе стало просторнее.
Дед слез с печи, вышел на крыльцо, постоял, громко зевая, затем снова забрался на свое место.
– Заснул, что ли? – спросил он своего собеседника.
– Заснешь, как раз!
Дремля, Петро слышал, как дед еще долго вполголоса рассказывал о Москве, о невестках и сыновьях, о льне, который брали из колхоза на выставку «для примера».
Проснулся Петро, когда бойцы разбирали свои пожитки и один за другим выходили во двор. В окно глядел пасмурный зимний рассвет.
Петро вышел, умылся снегом. Одевшись и приладив за плечами вещевой мешок, – он пошел к командиру пульвзвода.
Моргулис, выбритый, свежий, встретил Петра как старого знакомого. Он долго расспрашивал, что делал Петро до войны, где воевал, как был ранен.
– Я ведь тоже институт закончил, – сообщил он. – В Ростове. Паровозы собирался делать, а стал пулеметчиком.
Он подозвал проходившего мимо чернявого, горбоносого красноармейца.
– Вот, Арсен, знакомься, – представил он ему Петра. – Старший сержант Рубанюк. Из госпиталя. Будет командовать вашим отделением.
– Есть! Очень приятно.
– А это Арсен Сандунян. Наводчик.
Сандунян изучающе посмотрел на Петра и козырнул.
– Выдают взводу продукты? – спросил Моргулис.
– Выдают, товарищ младший лейтенант.
– Проводи сержанта к старшине. Пусть зачисляет.
– Есть!
Петро поднялся. Моргулис, понизив голос, сказал ему:
– Неприятные вести. Сдали Калинин.
IV
Батальон капитана Тимковского держали три дня во втором эшелоне.
На центральном участке Волоколамского укрепленного района было затишье. Левее, со стороны Осташева и на правом крыле Западного фронта, время от времени погромыхивала канонада, а с утра 19 октября бои вспыхнули с новой силой и ожесточением. Возобновив наступление, гитлеровцы предприняли попытку выйти из района Осташева в тыл Волоколамскому укрепленному району, а на Можайском и Подольском направлениях – прорваться в глубину обороны укрепленных рубежей.
Накануне утром Тимковский собрал всех командиров рот и взводов.
Моргулис вернулся от него возбужденный и довольный.
– Расчет весь в сборе? – спросил он, протискиваясь в тесный блиндаж.
– Все на месте, товарищ младший лейтенант, – доложил Петро, вытягиваясь.
Сандунян пришивал пуговицу, помощник наводчика Марыганов и подносчик Прошка Шишкарев делили махорку. Махорка попалась сухая, с едкой пыльцой. Прошка тер немытыми пальцами покрасневшие веки, нарочито громко чихал и фыркал.
– Будем отрабатывать сегодня тему «Пульвзвод в наступательном бою», – сказал Моргулис, обращаясь к Петру. – Понятно?
– Нет, не совсем.
– Как это?
– Разве задача переменилась? Нам не в обороне сидеть?
Моргулис опустился на деревянный обрубок, обежал лица пулеметчиков загадочно улыбающимся взглядом.
– Не всю же войну только обороняться да запасные позиции рыть!
Он достал из кармана потертой, видавшей виды шинели бумажку, насыпал в нее щепоть махорки.
– Комбат приказал проверить, как мы умеем фрица гнать.
– Абы приказ, – вставил слово Прошка. – Аж засвистит той фриц.
– Это поглядим. Будем сегодня скрытно переползать, штурмовать опорный пункт.
– Есть! – с готовностью ответил за всех Петро.
Такие занятия были по душе. О наступлении мечтал каждый, и, судя по всему, оно было не за горами.
Еще больше поднялось настроение у пулеметчиков после посещения их блиндажа парторгом роты Василием Вяткиным. Он пришел вскоре после Моргулиса.
– Эй, орлы! – громко окликнул он, приподняв край плащпалатки и просунув голову в рыжей ушанке. – Не обросли еще окопным грибком? Комбат проверить собирается.
– Заходи, Вася, – пригласил Марыганов.
С Вяткиным они были земляки.
Парторг шагнул в блиндаж. Широкоплечий, светло-русый, с блестящими веселыми глазами, он обладал, как это сразу же определил Петро, таким запасом энергии, которого с избытком хватило бы на несколько человек.
– С тобой еще не встречались, кажется, – сказал парторг, здороваясь с Петром за руку. – Вяткин.
Его взгляд изучающе скользнул по лицу Петра, обежал других и задержался на Прошке.
– Что это вид у тебя такой, Шишкарев? – спросил он.
– Какой?
– Не геройский, прямо скажем…
Только сейчас все заметили, что Прошка действительно выглядел неприглядно: он был небрит, одет неряшливо.
– Знаешь, что когда-то Чехов писал? – продолжал Вяткин, обращаясь к Прошке, но поглядывая на всех, кто был в блиндаже. – Он писал, что в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. И верно! Как, Шишкарев?
Прошка угрюмо молчал, и Вяткин, щадя его самолюбие, переменил разговор:
– Я вам, товарищи, «боевой листок» оставлю. Почитайте и потом передадите дальше.
Он извлек из-за пазухи полушубка лист бумаги, испещренный рисунками, цветными заголовками. Над короткими заметками, написанными карандашом, крупно был выведен лозунг: «Наше дело правое. Победа будет за нами!»
– Фрица скоро погоним, Вася? – осведомился Марыганов. – Ты все-таки к начальству поближе.
– А это от вас зависит.
Глаза Вяткина улыбались лукаво и многообещающе. Он, несомненно, что-то знал, о чем говорить было преждевременно.
Покурив с пулеметчиками и еще раз напомнив о том, что предстоящие занятия должны показать, «не засиделись ли в траншейках», он ушел.