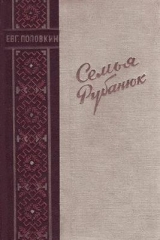
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 59 страниц)
Фон Хайнс, усомнившись в болезни председателя колхоза, прислал из лазарета фельдшера. Тот осмотрел старика и заключил: «Застарелый ревматизм».
Криничане, то один, то другой, ежедневно приходили к Кузьме Степановичу. Не тая своих сокровенных дум, выспрашивали:
– Как там, Степанович?.. Не слыхать про Червоную Армию? Скоро погонит она наших «освободителей»?
С близко знакомыми надежными колхозниками Кузьма Степанович не считал нужным таиться.
– Точно сказать не берусь, – отвечал он, – а что погонят, вы не сумлевайтесь. На морду нашего старосты, Микифора, поглядывайте… На ней, как на бумаге, все прописано…
Малынец действительно, как только немецкие газеты сообщали об отходе войск, на зимние квартиры или начинали расписывать необходимость сокращения линии фронта, лебезил перед криничанами, юлил… Если же гитлеровцы наступали, он пыжился, глядел на односельчан свысока.
Варвара Горбань спросила как-то Малынца:
– Где ж та мануфактура, пан староста, что вы обещали? Говорили, целые поезда в Богодаровке разгружаются, а ни на юбку, ни на кофточку достать негде.
– Эт, глупая! – сердился Малынец. – Нехай же война кончится. У германских управителей только и хлопот, что про твою кофточку думать? Других дел нету? Глупая ты, Варька, пустые и вопросы ставишь…
Но он помнил, что сам раззвонил на все село об эшелонах с товарами, которыми немцы сулили завалить весь район, и, покрикивая на Варвару, отводил плутоватые глаза в сторону. Стараясь замять неприятный разговор, Малынец вдруг торжественно заявил:
– Скоро чудеса будете глядеть! Гебитскомиссар уже теперь в Богодаровке новый Берлин планует…
– Слыхали! – кратко сказала Варвара. – Нам в том новом Берлине не жить, а пока что этот гебиц рамы с окон та железо с крыш домой отправляет… в старый Берлин… Скупердяги ж такие, черт их принес!..
Малынец посмотрел на Варвару выпученными глазами и, махнув рукой, пошел прочь. Он бы загнул словечко по ее адресу, но знал, что в долгу она не останется. А старосте как-никак не подобало связываться на улице с бабой.
Чем ближе было к весне, тем Малынец держался заносчивей и самоуверенней. К началу марта сводки с фронта ничего угрожающего для гитлеровцев не содержали, партизаны в окрестностях тоже не появлялись.
Майор фон Хайнс добился отпуска и, временно передав дела другому офицеру, отбыл в Германию.
За два дня до его отъезда Малынец вызвал в «сельуправу» Александру Семеновну Рубанюк.
– Так что время и на должность определяться, – сказал он, не здороваясь и не предлагая ей сесть.
– Куда же?
– Покудова в солдатский лазарет.
Александра Семеновна возмущенно уставилась на него. Она, жена советского командира, будет ухаживать за вражескими солдатами!
– Нет! – твердо произнесла она, бледнея: – В лазарет не пойду!
– Придется иттить. Майор Гайнц дал такое распоряжение.
– Да я ничего и не понимаю в этом деле.
– Чего ж тут понимать? Миски, ложки перемывать, ведерко вынести, – снисходительно пояснил Малынец. – Докторского образования не требуется…
– Значит, судомойкой?
– Во-во! При кухне.
Александра Семеновна смотрела на Малынца с трудно сдерживаемым гневом. Она поняла, что фон Хайнс придумал для нее занятие, которое унизило бы ее, оскорбило ее достоинство.
– Нет, в лазарет я не пойду, – решительно повторила она.
– В понедельник выходите на работу, и никаких балачек больше слухать не хочу! – закричал, размахивая руками, староста.
Александра Семеновна почти выбежала из «сельуправы» и, не заходя домой, направилась к Кузьме Степановичу. Она ходила к нему и раньше с просьбой помочь уйти к партизанам, но он советовал подождать.
Девятко внимательно выслушал ее взволнованный рассказ о стычке с Малынцом и неожиданно повеселел.
– Это ж добре все складывается, – сказал он.
Александра Семеновна удивилась и даже обиделась:
– Не понимаю: почему?
Лицо Кузьмы Степановича снова стало озабоченным. Он встал, плотнее закрыл дверь в сени; вернувшись к столу, сказал:
– Надо браться за работу, Семеновна. Ой, как надо! Вы женщина грамотная, с понятием, можете большую пользу принести. Правду о том, что делается сейчас на свете, люди наши не знают, а задание такое…
Кузьма Степанович сообщил о том, что в надежном месте спрятан радиоприемник и остановка лишь за аккумуляторами для него.
– Одна женщина подходящая есть, дозволяет приемник у себя поставить, – добавил он. – И как раз недалечко возле лазарета живет. Согласны взяться?
– Согласна, – решительно сказала Александра Семеновна.
Но, вспомнив о предстоящей работе в лазарете, она снова помрачнела.
– Мне ничего не страшно, кроме одного, – сказала она, похрустывая суставами тонких пальцев: – работать на врагов. Этого я не смогу…
– Думаете, мне состоять в председателях сейчас легко? – хладнокровно возразил Кузьма Степанович. – А свекру вашему в старостах было добре ходить? Это небольшая беда, что придется там котелки, миски перемывать. Иначе они вам не дадут разрешения оставаться в селе… А так и пропуск получите и в курсе будете, о чем они там меж собой балакают.
– Я в лесу, у наших, любую бы работу делала, – сказала Александра Семеновна после долгого молчания. – Не была б обузой.
– Тут, в селе, ваши труды сейчас нужней.
Кузьма Степанович промолчал о том, что связи с отрядом Бутенко у него не было с тех пор, как в селе расположился эсэсовский гарнизон. Уже дважды ходили в лес надежные люди, но вернулись ни с чем.
Думать о том, что Бутенко ушел куда-нибудь из приднепровских лесов, было тяжело. Пусть партизаны не могли сейчас бороться с гарнизонами, стоящими в Чистой Кринице, Песчаном, Сапуновке, Богодаровке, – факт существования партизанского отряда в районе ободрял людей, придавал силы, чтобы выдержать, устоять в борьбе с оккупантами.
«Придется самим посмелее за дела браться, – думал Кузьма Степанович, когда Александра Семеновна ушла. – Навряд хлопцы смогут в скором времени в село заявиться…»
Но Кузьма Степанович ошибся. Спустя сутки, в глухую полночь, пришел из леса Остап Григорьевич.
Он еще издали разглядел часовых на своем подворье и, обойдя родную хату стороной, направился огородами к Девятко.
На тихий стук в оконце вышла Пелагея Исидоровна.
– Принимайте гостей, свахо, – вполголоса сказал Остап Григорьевич, переступая порог.
Пелагея Исидоровна всплеснула руками:
– Сват!
Спустя минуту Остап Григорьевич и Девятко сидели у тусклого светильника друг против друга.
Рубанюк заметно сдал за время пребывания в, лесу. В свисающих усах его (он и теперь подстригал их с прежней тщательностью), в бровях было больше седых волос, чем раньше, лысая голова отливала желтизной, взгляд светло-серых глаз его, прежде живых и веселых, стал строгим и холодным.
– Мы до вас связных два раза посылали, – сказал Кузьма Степанович. – Говорят, нету на старом месте.
– Место сменили. А для связи думаем, сват, Сашка́ нашего приспособить.
– Не мал?
– Зато шустрый. Такой продерется там, где взрослому никогда не пройти… Ну, а как в селе тут?
Кузьма Степанович рассказал. Рубанюк слушал, не отводя от него внимательного взгляда, покручивая кончик уса коричневыми от самосада пальцами.
– Крепенько петлю они на шее затянули, Григорьевич, – говорил Девятко. – Ох, крепенько! Дыхнуть людям нечем. Никакого интересу ни к работе, ни к чему другому. Я вот и сам проснусь ночью: «Надо б, думаю, инвентарь какой к посевной до кузни собрать, плужки-бороны проверить…» Вспомню!.. Эх! Лежишь так до самого ранку… От думок голова пухнет…
– А я акурат об этом собирался иметь балачку с вами, сват, – сказал Остап Григорьевич. – Товарищ Бутенко приказал.
– Как он? Жив-здоров?
– Все расскажу. Дела оборачиваются так, что будем уходить из Богодаровского леса, видать по всему – далеко. Так вот Игнат Семенович приказал вам о посевной крепко подумать.
– Сеять заставят, как не крутись. А зерна ничего они не возьмут. Не будет им зерна!
– Это так. А если наша власть вернется? Бои сильные идут – глянь, погонят.
– То дело другое. У нас на посевную свой план доведен до каждой бригады. Игнату Семеновичу так и передайте. Надо будет – соберем урожай. Не надо – ни зернинки не дадим. Настроение у людей правильное…
Кузьме Степановичу было очень приятно беседовать с верным человеком смело, не таясь, и он торопился выложить все, что у него накопилось за это время.
– Ульяну, старшую невестку деда Дабанца, помните? Больше, чем она, никто на власть раньше не ворчал. И за мануфактуру и за селедки, когда их вволю не хватало… Недавно встречает! «Скоро, спрашивает, панам и старостам конец будет?» – «А тебе что, говорю, и эти надоели? Ты ж радянськую власть не дуже почитала». – «Вы, говорит, товарищ председатель, – так и сказала: „товарищ председатель“, – вы, говорит, об этом теперь не вспоминайте. Промеж своих всякое бывает. И в семье ругаются, когда недостатки какие есть. Так то ж своя власть была, она нас уму-разуму учила». – «Поняла теперь?» – «Ой, как поняла, говорит, товарищ председатель! Придут наши, первой стахановкой буду!» Вот такие настроения, сват, у людей!
– Это добре!
– Люди теперь в политике разбираться лучше стали.
– А Игнат Семенович наказал мне: «Сходи, передай от меня, от партии нашей просьбу дедам и жинкам. Мы, может, не скоро в Богодаровские леса вернемся, путь у нас дальний, так нехай люди без нас крепко держатся. Хоть и трудно, а надо держаться, покуда большую силу наберем, чтоб погнать фашистов этих распроклятых…»
В окна уже глядел неяркий зимний рассвет, а старики никак не могли наговориться.
Часов около семи утра Кузьма Степанович, упрятав гостя в темном чулане, послал жену за Катериной Федосеевной. Вернуться в отряд Остапу Григорьевичу можно было только поздним вечером.
Катерина Федосеевна, узнав, что ее муж в селе, покинула топившуюся печь на Сашка́ и как была – в латаной кофте и холстинной юбке – выбежала из хаты, уже на ходу надевая мужнин кожушок. Пелагея Исидоровна, осторожности ради, решила вернуться домой позже и осталась в ее коморке.
Катерина Федосеевна, думая только о том, что сейчас увидит мужа, шла по улице с такой торопливостью, что встречные криничане стали обращать внимание и на ее раскрасневшееся, возбужденное лицо и на необычную для ее возраста резвость: «Куда это Рубанючиха так поспешает?»
Лишь заметив офицера, который стоял около усадьбы МТС, Катерина Федосеевна умерила шаг и свернула в переулок, хотя ей нужно было идти в противоположном направлении. Она даже зашла сперва к соседям Девятко, сочинив тут же какой-то предлог, а потом уже направилась к хате Кузьмы Степановича.
Девятко встретил ее в сенцах, пригласил в кухню и, надевая кожух, сказал:
– Пойду на приступочках посижу. Покараулю, чтобы кто случаем не наскочил.
– Ну, не приведи, господь, полицаев принесет! – со страхом прошептала Катерина Федосеевна. – Это ж и вам тогда…
– На чердаке свата спрячем, – сказал Кузьма Степанович. Там потайное местечко есть. Никакой нечистый не найдет…
Он повязал рушником горло и, покашливая, совсем больной и немощный с виду, пошел из хаты.
Остап Григорьевич появился на пороге почти неслышно. К рукаву его пиджака, к треуху прилипла паутина, шаровары на коленях были испачканы мукой. Он шагнул вперед, к столу, за которым сидела жена, и негромко произнес:
– Ну, здравствуй, Катя.
Только в первые годы женитьбы, давным-давно, называл он ее так, уменьшительно-ласковым именем, и Катерина Федосеевна, слегка порозовев, поднялась с места, да так и осталась стоять. Она глядела в постаревшее, родное лицо мужа и в этот миг чувствовала только одно: не было на свете таких тяжких, суровых испытаний, которых бы она не выдержала ради него, отца ее детей, человека, с которым дружно и ладно было прожито столько долгих лет…
Остап Григорьевич снял треух, держа его в руке, опустился на лавку.
– Садись, стара, потолкуем, – сказал он. – Повидаться теперь доведется нам не скоро…
Пелагея Исидоровна, вернувшись домой через час, заглянула на кухню. Рубанюки, увлеченные разговором, сидели все так же, рядышком.
Через минуту следом за женою вошел Кузьма Степанович. Они пошептались о чем-то возле печи, и Пелагея Исидоровна стала доставать из шкафчика миски, ложки.
– Поснедайте с нами, свахо, – сказала она, заметив, что Катерина Федосеевна поднялась.
– Ой, свахо, не такое теперь время, чтоб засиживаться, – сказала та, опасливо поглядывая на окна. – Наскочат полицаи – беды не оберемся.
– Верно, нехай идет, – поддержал Остап Григорьевич.
Катерина Федосеевна, медленно повязывая на голове теплый платок, смотрела на мужа пристальным, тревожным взглядом. Никто не мог ей сказать, увидит ли она его еще когда-нибудь.
– Вы, сват, не забывайте моих, – говорил Рубанюк Кузьме Степановичу. – Случаем помочь в чем придется – помогите. Вернусь – в долгу перед вами не останусь. Ну, иди, Катерина. Да Сашка́ потеплей в дорогу одень…
XXV
Утром, когда Александра Семеновна, хмурая и подавленная, одевалась, чтобы идти в лазарет, свекровь рассказала ей о безобразной сцене, которую видела накануне.
Денщик фон Хайнса, вынося к машине чемоданы своего хозяина, оступился на крылечке и вывихнул ногу. Майор, взбешенный тем, что ему пришлось задержаться и брать в поездку другого солдата, яростно стегнул денщика по лицу хлыстом.
– Тот стоит, побелел, аж перекосился весь, – рассказывала возмущенным шепотом Катерина Федосеевна. – А Гайнц сел себе в машину и не оглянулся. Вот же ж паразит! Мне даже жалко «Шпахена» стало…
– Чего ради нам жалеть их? – сказала Александра Семеновна. – Пусть не позволяют себя бить…
Катерина Федосеевна искоса разглядывала ее похудевшее лицо с большими темными впадинами вокруг усталых глаз, и при мысли, что невестке приходится покоряться вражеской силе, у нее защемило сердце.
Она все же нашла в себе мужество ничем не выдать своих чувств, лишь в уголках ее губ обозначились резкие складки.
Александра Семеновна постояла с минуту около порога, потом сказала:
– Что бы Иван обо мне подумал, мама, если б знал, куда и зачем я иду?
Катерина Федосеевна обняла ее и со вздохом сказала:
– Не терзай своего сердца, Шурочка. Ты же не по своей воле…
Проводив невестку, Катерина Федосеевна подмела пол, кое-как перемыла посуду, собиралась заняться стиркой, но поняла, что не сможет. У нее все валилось из рук.
Было жаль Александру Семеновну, но еще более тяжко и тревожно становилось на душе при мысли о муже и ушедшем с ним в лес сынишке.
Сейчас она раскаивалась в том, что уступила настояниям Остапа и отпустила с ним Сашка́. Мальчонке предстояло возвращаться одному. О чем только не передумала мать за эти часы! То ее воображению представлялось, что Сашко́ заблудился в лесу, то казалось, будто он замерз или попал в руки полицаев.
Первую половину дня она провела в напряженном ожидании, а потом, сказав денщику фон Хайнса, что надо насобирать валежника, попросила у соседки салазки и пошла в лес…
* * *
…У ворот немецкого лазарета часовой молча и равнодушно указал Александре Семеновне на кирпичное приземистое строение в углу двора.
Было время завтрака. Слышался стук металлической посуды, солдаты в куцых холщовых халатах поверх длиннополых шинелей пронесли термосы к больничному зданию.
Сутулый повар в очках, распоряжавшийся на кухне, скользнул близорукими глазами по лицу Александры Семеновны, неторопливо доел гороховую похлебку, смахнул со стола в пустую чашку яичную скорлупу и только после этого изложил стоявшей перед ним женщине обязанности кухонной чернорабочей.
Изъяснялся он преимущественно жестами и исковерканными русскими словами, по-заячьи шевеля при этом крупным хрящеватым носом и обнажая крепкие желтые зубы.
Александре Семеновне выдали заношенный до землистого цвета халат и заставили вычистить два котла, вмазанных в огромную плиту.
На кухне стояла сыроватая, как в предбаннике, теплота, густо пропитанная смешанными запахами варева и карболового раствора. Работая, Александра Семеновна задыхалась.
Как только котлы были вычищены и женщина разогнула ноющую спину, повар добродушно ткнул пальцем в груду алюминиевой посуды:
– Марушка… тарелки…
Солдаты, работающие на кухне, вообще обращали на нее внимание лишь тогда, когда нужно было приказать что-нибудь, причем, следуя примеру своего шефа, ее окликали, презрительно-равнодушно: «Марушка, вассер!», «Марушка, выносить!»
Александра Семеновна чувствовала, как от жгучего стыда у нее горели под платком уши, и она огромным усилием воли сдерживала себя, чтобы не разрыдаться, не выбежать отсюда, где все невыносимо унижало ее.
Прикусив губу и сдвинув брови, она продолжала работать. «Так надо, надо!» – мысленно твердила она, вспоминая свой разговор с Кузьмой Степановичем Девятко и его твердое намерение привлечь ее к подпольной работе.
День тянулся нестерпимо долго. Уже к его исходу Александра Семеновна, натирая какой-то едкой мазью кипятильный бачок на крыльце, увидела денщика фон Хайнса – «Шпахена». Солдат, опираясь на палку и волоча завязанную какими-то тряпками ногу, ковылял к больничному зданию.
Поровнявшись, он узнал Александру Семеновну и задержался. Постоял немного, топорща рыжеватые усы, покрутил головой и невесело усмехнулся.
– Гитлер пльохо, – неожиданно произнес он. Видимо, сам испугавшись этих слов, он оглянулся по сторонам и торопливо захромал дальше.
Александра Семеновна смотрела ему вслед озадаченно: впервые слышала она такое от гитлеровца.
Как-то этот самый «Шпахен» в отсутствие фон Хайнса позволил им с Катериной Федосеевной послушать у радиоприемника концерт из Москвы. Сопоставив этот поступок с тем, что денщик только что сказал по адресу Гитлера, Александра Семеновна подумала: «А что, если попросить у солдата разрешение слушать и другие передачи?» Нет, это было рискованно!
Хорошо было бы, пока солдат находится в больнице, сбегать домой – может быть, посчастливится в его отсутствие записать советскую сводку… У Александры Семеновны даже руки задрожали при этой мысли.
Но уйти домой ей удалось только поздно вечером.
Катерина Федосеевна, не зажигая света, протапливала на ночь печурку.
– Сашко́ вернулся? – спросила еще у порога Александра Семеновна.
– Пришел. Поел и до Девятко подался.
– Что рассказывал?
– Ничего, чертенок, не хочет говорить. Уперся, как тот бычок: «Не спрашивайте, мамо, не велено…» А как ты там, Шурочка?
Александра Семеновна махнула рукой, попила воды и стала раздеваться.
Поджидая Сашка́, женщины сидели в темноте. Александра Семеновна, нервно комкая платок, вполголоса рассказывала, что пережила в лазарете.
– Не выдержу я, мама, – шептала она. – И вовсе ни к чему мне в селе оставаться… Ведь я не старая и не больная… Могла бы что-то полезное делать…
Катерина Федосеевна утешала молодую женщину как могла, но втайне и она была убеждена, что лучше бы невестке уйти из села: оккупанты едва ли оставят ее в покое.
Спустя немного времени пришел Сашко́. Пальтишко и шапка на нем были влажными – на дворе шел мокрый снег.
Когда он разделся, Александра Семеновна зажгла каганец, подсела к мальчику и, разглаживая пальцами его спутавшиеся мокрые вихорчики, спросила:
– Ну, Сашуня, кого видел? Чем похвастать можешь?.. Устал, бедняжка?
– Когда ходил, устал, а сейчас ничего, – сказал солидно Сашко́. И легонько отведя руку Александры Семеновны, отошел к горячей печке. – Я дуже спать хочу… – сознался он.
– Ну, ложись, ложись… Завтра все нам расскажешь… Хорошо?
Сашко́ быстро и молча улегся, сонным голосом пробормотал:
– И завтра не расскажу…
Заснул он молниеносно. Мать укрыла его кожушком, обувку поставила на печку сушиться.
– Вот же ж скрытный, – сказала она, поправив под головой Сашка́ подушку и разглядывая его с горделивым удивлением. – А ему только одиннадцатый пошел…
– Это неплохо, мама, – ответила Александра Семеновна, задумчиво глядя на чадяший язычок каганца. – Беда только, что у таких вот нет детства…
Неожиданно она спросила:
– Как зовут денщика майора?
– Убей меня бог, не знаю. «Шпахен» и «Шпахен». Тебе на что?
– Нужно.
– Тьфу, какие вы все секретные сделались!
Катерина Федосеевна стала укладываться. В полусне она слышала, как невестка умывалась, потом, скрипнув дверью, вышла из коморки. Хотела окликнуть ее, но Шура уже куда-то ушла.
Часовой, куривший у ворот, окликнул Александру Семеновну, когда та поднималась по ступенькам крылечка.
– Свои, свои! – откликнулась женщина и, стараясь придать своему голосу возможно больше беспечности, воскликнула: – Больного вашего иду проведать… Кранк…
Денщик, расположившись в комнате майора, ужинал. На столе перед ним стояла тарелка с ломтиками шпига, дымящийся котелок, начатая банка консервов.
Пропустив Александру Семеновну в хату, он выжидательно уставился на нее. Было что-то испуганное в выражении его глаз, в настороженной позе, и Александре Семеновне не верилось, что он сегодня непочтительно отозвался о Гитлере. Должно быть, солдат раскаивался в том, что сболтнул при ней лишнее…
Стараясь расположить его к себе, Александра Семеновна спросила как можно заботливей и ласковей:
– Как ваша нога?
Солдат не понял, и она указала рукой:
– Нога, нога?
Окинув взглядом комнату, Александра Семеновна заметила: радиоприемник – цель ее прихода – стоял на месте.
Солдат с покорной готовностью положил поврежденную ногу на табуретку, поближе к свету, намереваясь размотать бинт.
– Да вы сперва поужинайте, – сказала Александра Семеновна и, не дожидаясь приглашения, села. – Может быть, компресс надо будет сделать…
– Я! я! – закивал головой солдат. – Компресс… хорошо…
Пока он доедал свой ужин, Александра Семеновна, пользуясь известными ей немецкими словами, помогая себе жестами, расспрашивала его о доме, семье.
Солдат отвечал немногословно, но охотно. Работал до войны электромонтером в Гроссенгайме, где живет и майор фон Хайнс. Зовут его Пауль Бунке. Дома остались жена, мальчик и девочка. Если бы майор не был так строг, он смог бы повидать семью.
Лицо Бунке, с багровым шрамом через всю щеку, стало печальным. Он размотал бинт. Нога у щиколотки сильно распухла, кожа на ней приобрела от иода зловещий фиолетовый цвет.
– Сделайте компресс, будет легче, – посоветовала Александра Семеновна.
Солдат принес из кухни смоченное в водке полотенце, обернул ногу и прилег на лавке.
Увидев, что Александра Семеновна вопросительно смотрит на радиоприемник, Бунке сказал:
– Пошалуста…
В хату ворвались звуки джаза.
– Анзолина, – сказал солдат и, прикрыв веки, стал слушать, дирижируя пальцем перед своим носом, шевеля губами.
Истерично-визгливые звуки, гнусавые голоса, кваканье саксофонов, исторгавшиеся из репродуктора, нестерпимо резали слух Александры Семеновны.
Сумбурные звуки, наполняющие комнату, ненавистные портреты Гитлера и Геббельса, сусальные олеографии на стенках напоминали ей почему-то сутулого повара в очках из лазарета, пренебрежительные окрики: «Марушка!», брезгливое выражение лица фон Хайнса, овчарку в кроватке сына.
Все походило на тяжкий сон, ошеломляло, давило.
Александра Семеновна повернула ручку радиоприемника… Бравурное громыхание военного марша… Картавящий голос диктора… Казалось, никуда нельзя было уйти от немецкой речи, она господствовала во всем эфире… Александра Семеновна оглянулась на Бунке: солдат дремал. Она тихонько продолжала вращать ручку, и вдруг из приемника полилась величаво-спокойная, знакомая с детства мелодия, чистая и звенящая, как весеннее утро. Неужели Москва?
Транслировалась опера «Евгений Онегин». Глаза Александры Семеновны искрились от счастья. Она не только наслаждалась сейчас чарующей музыкой: она ощущала дыхание своей родины, чувствовала ее непоколебимую, мудрую уверенность, и это сообщало женщине силы, которые, казалось, помогут выдержать любые испытания.
Александра Семеновна не обращала теперь внимания ни на шаги часового у окна, ни на сонное бормотание денщика за спиной. Она прослушала оперу до конца и, чувствуя, как от ожидания следующей передачи у нее колотится сердце, прижала руку к груди; уже много месяцев она не слышала голоса Москвы. Каждое слово правды стало бы оружием для борьбы с оккупантами…
В приемнике слышались шорохи, напоминавшие шелест листьев в саду, еле уловимое попискивание; казалось, это будет тянуться бесконечно.
– Говорит Москва!..
Александра Семеновна торопливо повернула регулятор громкости, заглушая голос; кругом были враги. – …От Советского информбюро…
Александра Семеновна, скосив глаза на спящего Бунке, поспешно извлекла из кармана пальто листок бумаги и огрызок остро отточенного карандаша.
Звучный баритон диктора произносил слова веско и медленно, она успевала записывать.
– …В течение восьмого марта наши войска на ряде участков фронта с боями продвигались вперед и заняли несколько населенных пунктов…
– «Но где эти участки фронта?! Люди ведь будут интересоваться…»
– За шестое марта уничтожено не тридцать пять немецких самолетов, как об этом сообщалось ранее, а сорок пять немецких самолетов. За восьмое марта под Москвой сбито два немецких самолета…
Александра Семеновна лихорадочно писала, забыв обо всем, кроме того, что завтра криничане узнают об истинном положении.
Внезапно почувствовав на себе взгляд, она обернулась: Бунке глядел на нее в упор.
Александра Семеновна инстинктивно прикрыла написанное рукой. Она отлично понимала, что ей угрожает, если Бунке сообщит в гестапо о ее действиях.
Диктор продолжал: в районе Демьянска советские войска сжимают кольцо вокруг шестнадцатой немецкой армии; на Украине партизанский отряд товарища Ф. истребил много немецко-фашистских захватчиков, взорвал несколько мостов и складов…
Бунке поднялся со скамейки и, стоя спиной к женщине, о чем-то размышлял. Потом накинул на плечи шинель и, прихрамывая, направился к двери.
«Позовет часового, и меня сейчас уведут», – мелькнула мысль у Александры Семеновны. Она быстро выключила радиоприемник и зажала в руке бумажку.
Около порога солдат остановился.
– Я нишего не видеть, – произнес он вполголоса, не оборачиваясь. – Никто… Дейтше официр нишего не должен знать… Капут вас, капут менья…
Он шагнул в сени, потом было слышно, как он переговаривался на крылечке с часовым.
Спустя минуту Александра Семеновна, упрятав бумажку под лифчик, вышла из хаты. Солдат, пропуская ее, посторонился. И когда она была уже в нескольких шагах от коморки, Бунке с наигранной веселостью крикнул:
– Спокойный нош…
XXVI
За ночь Александра Семеновна переписала сообщение Совинформбюро набело и, вырвав из школьной тетрадки чистые листки, сняла еще несколько копий. Писала печатными буквами, чтобы измените почерк, и управилась только перед утром.
Проснулась она часов в семь, уже было светло.
Сашко́ сидел на ворохе соломы, посапывая, обувался. За ночь сапоги его покоробились и не лезли на ноги.
– Куда мать пошла, Сашуня? – спросила Александра Семеновна, быстро одеваясь.
– Лежанку топят у «Шпахена».
– А ты куда собираешься?
– С Колькой в одно место… Дело у нас есть.
Он справился, наконец, со своей обувью.
– Сашуня… – Александра Семеновна подошла к нему и заглянула в глаза. – Так ничего и не расскажешь, что видел в лесу?
Он решительно помотал стриженой головой.
– Дурачок, мне же можно знать!
– Тато сказали, чтоб я себе язык откусил, а никому ничего. Сашко́ напялил пальтишко, шапку. Александра Семеновна пытливо разглядывала его. Сообщения Совинформбюро мог отнести он. Ей надо было торопиться в лазарет, да и не следовало навлекать подозрения частыми посещениями Девятко.
– Вот что, – сказала она, – если уж ты такой твердый, я тебе тоже доверю одно поручение.
Она положила пачку бумажек в карман его штанов.
– Отнеси это Кузьме Степановичу. Лично ему и никому больше, и чтобы никто не знал…
Нагнувшись к уху мальчика, шепотом добавила:
– С нами сделают то же, что с Ганной, если попадет к полицаям.
Сашко́ деловито пощупал через материю штанишек плотный пакет, кивнул: – Отнесу…
Александра Семеновна проводила его за ворота, подождала, пока он исчез в переулке, и пошла в лазарет.
Все же, работая, она весь день не могла подавить в себе чувства тревоги. У нее не было никакого опыта подпольной деятельности; возможно, она уже с первых шагов допустила промах, пользуясь радиоприемником на глазах у Бунке и положившись на мальчика.
Нужно было посоветоваться обо всем с Кузьмой Степановичем. Александра Семеновна решила пойти к нему сразу же после работы, как только смеркнется.
Но вечером, выйдя из лазарета, она встретила Девятко на улице. Кузьма Степанович сам поджидал ее.
Покашливая, опираясь на палочку, он шагал рядом с ней и, хотя вблизи никого не было, говорил осторожно, вполголоса. Узнав, как была добыта советская сводка, он покачал головой.
– Ненадежное дело, Семеновна. Сегодня этот самый ваш «Шпахен» до радио подпустит, а завтра сам же и в гестапу отведет.
– Так он из рабочих, – возразила женщина. – Офицер его избил, он злой на него, Гитлера ругает…
– Нет, Семеновна… Пока будем на самих себя надеяться… Такой, как фон Хайнс, держать при себе ненадежного солдата не будет. Не надо связываться…
– Тогда скорее свой приемник надо налаживать, – с раздражением сказала Александра Семеновна. – Что ж так сидеть?
– То вопрос другой… Наладим.
Разговор этот оставил у Александры Семеновны чувство досады. Ей хотелось решительных и смелых действий, а старик, по ее мнению, чересчур осторожничал.
И вечером, когда Бунке, заглянув в коморку, многозначительно глядя на Александру Семеновну, сказал, что уходит к товарищам играть в карты, и предложил ключи от хаты, она поколебалась, прежде чем взяла их.
…Через сутки в село пришел с железнодорожного полустанка Кузьма, брат Катерины Федосеевны. К Рубанюкам домой он зайти не решился и вызвал сестру к Лихолитам.
Он сидел в маленькой комнатушке с Кузьмой Степановичем. Перед ними стояла сковородка с остывшей, нетронутой яичницей. По лицам обоих Катерина Федосеевна увидела, что они чем-то очень озабочены.
– Вот, сваха, дело какое, – сказал Кузьма Степанович, задумчиво потирая пальцами выпуклый блестящий лоб. – Надо вашему Сашку́ в лес идти.
– Одному?
– Больше некому. Одному и аккуратней…
– Не препятствуй, Катря, – поддержал Кузьма. – Надо вот как!
Он выразительно провел ребром ладони по заросшему курчавым волосом кадыку.
– Боязно… Малый, – со вздохом сказала Катерина Федосеевна.
* * *
Вечером Кузьма Степанович, вручая Сашку запечатанный конверт, адресованный командиру партизанского отряда товарищу Б., спросил:
– Куда положишь?
– В шапку. Или под стельку в чобот.
– Не годится. Намокнет. Идти тебе далеко…
Бумажку зашили в подкладку пальтишка.
– Ну, а если тебе кто встретится? – проверял Девятко. – Что ты будешь говорить?
– Иду, мол, до дядька Кузьмы… Разъезд около леса.
– Зачем?
Сашко́ морщил лоб, с минуту раздумывал.
– Тетка, мол, штанцы должна скроить. Старые у меня лезут… Вот…








