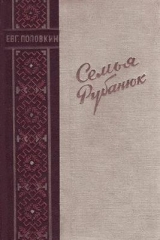
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 59 страниц)
На другой день Петро поднялся рано. Он намеревался поехать с отцом за Днепр, поглядеть на сад, потом навестить тещу, Пелагею Исидоровну, работающую на птицеферме, но почувствовал себя снова плохо.
Остап Григорьевич, заметив, как лицо Петра побелело и исказилось от боли, когда он поднял наполненное водой ведро, тревожно сказал:
– Ты, сынку, со здоровьем своим не шути… Посиди дома. Я Василия Ивановича попрошу прийти, лекарств каких-нибудь выпишет.
Проводив всех на работу, Петро написал письма Оксане и товарищам в дивизию, потом стал разбирать свои студенческие выписки о почвах и садах.
До обеда он приводил их в порядок и, увлеченный делом, не заметил, как ясная, тихая с утра погода испортилась, задул сухой северо-восточный ветер.
Петро стряхнул с тетрадок желтую пыль, нанесенную со двора, плотно прикрыл окно и вышел на крыльцо.
Над приднепровской поймой и плавнями белели облака; они, лохматясь, меняя очертания, быстро плыли куда-то в сторону Богодаровского леса, подгоняемые горячим, не ослабляющим зноя ветром.
Природа будто нарочно, подтверждая мысли, которые возникли у Петра при чтении записок, предстала сегодня со всеми своими прихотями и причудами… Над кровлями сельских хат и дальше, над степной ширью, небо было угнетающего желтовато-дымного цвета; необузданный, разгульный, со свистом метался жаркий ветер… А совсем недалеко, у Богодаровского леса, угадывалась прохладная тишина, стояли почти недвижно белые громады облаков…
Петро вернулся в хату, снова принялся за свои выписки. Несколько минут спустя кто-то, покашливая, поднялся по крыльцу, завозился со щеколдой, потом постучал.
Пропуская в светлицу худенького, хромающего старичка, Петро догадался по специфическому запаху больницы, который гость внес с собой, что это врач.
Протягивая Петру руку и подслеповато щурясь, пришедший осведомился:
– Сын Остапа Григорьевича? Очень рад… Буря… Василий Иванович…
– Очень приятно! Прошу садиться, Василий Иванович.
Врач поставил в угол свою палочку; внимательно разглядывая Петра, долго стирал платком с лица и с шеи пыль.
– Напрасно вы беспокоили себя, – смущенно сказал Петро, – да еще в такую погоду…
– Я не метеоролог, чтобы за погодой следить…
Врач, видимо, хотел пошутить, но слова его прозвучали неласково, и, почувствовав это, он смягчил их запоздалой короткой улыбкой.
Сливая ему на руки воду, Петро про себя отметил, что только по иронии судьбы старик был обладателем такой фамилии. Тщедушный, с блестящим черепом, утыканным кое-где седыми клочками волос, со склеротическими малиновыми прожилками на скулах, он производил впечатление болезненного, даже дряхлого человека. Шея его, жилистая и худая, казалась чересчур тонкой даже в узеньком вороте старенькой, но опрятной рубахи салатного цвета.
– У вас, Остап Григорьевич говорил, резекция желудка была? – спросил врач, вытирая руки. – Попрошу раздеться…
Он долго выстукивал и ощупывал Петра, причем проделывал все это с таким непроницаемым выражением лица, что невозможно было понять: доволен он или недоволен состоянием больного.
– Вы мне, доктор, откровенно скажите, – попросил Петро, – будет ли из меня какой-нибудь толк?
Врач сердито покосился на него.
– Здоровью своему не верите?.. Молодости?..
Вооружив свои блеклые усталые глаза очками в железной оправе, он написал рецепт.
– Будете пока принимать вот это… Есть вам надо хорошо проваренную, свежеприготовленную пищу. Поняли? И отдохнуть, молодой человек, обязательно!.. Восстановите силы – забудете, что у вас когда-то в желудке ковырялись…
– Можно будет и на фронт снова попасть?
– А это уж от вас зависит, – неопределенно сказал Буря, поднимаясь. – Резекция по поводу ранения – наиболее тяжелая форма…
Вспомнив, что отец назвал фамилию Бури в числе коммунистов села, Петро спросил:
– Вы в Чистую Криницу приехали из эвакуации?
– Нет. Был у товарища Бутенко… в партизанском отряде.
Петро с интересом посмотрел на тщедушную фигуру старика.
– Там и в партию вступили? В лесу?
Выслушав односложные, лаконичные ответы врача, Петро предпринял еще одну попытку расшевелить несловоохотливого собеседника:
– Трудно сейчас медработникам на селе!
– А раз трудно, следовательно интересно, – с неожиданным задором ответил Буря, и в глазах его мелькнул веселый огонек. – Вы вот, ваш отец рассказывал, фантазируете насчет садов, новых посадок во всем районе… Как вы предполагаете обойтись без трудностей?.. Ну-ка?..
– Ответ резонный.
– То-то!
Буря взял свой старенький, потертый саквояж с инструментами, подумав, добавил:
– Помните, у Чехова один из героев пьесы составлял такую карту? Кстати, мой коллега…
– Доктор Астров. Помню… Но тот показал на картограмме, как за пятьдесят лет в его уезде уничтожались леса, вымирали животные, иссякали водоемы… А я хочу показать, как лет за десять – пятнадцать, если взяться дружно, можно покрыть весь район фруктовыми садами, прудами…
– Большое дело – эти посадки… Передовые люди давно мечтали о них… Вы не пионер…
– Ну и что ж?! – уловив в его голосе сомнение в реальности своих замыслов, сказав Петро. – Люди много десятилетий мечтали, а сделаем это мы!..
– В добрый час, в добрый час! Потомки оценят…
– Почему потомки? Мы с вами сами еще увидим результаты.
– Вы – может быть… Дерево, молодой человек, десятилетия растет…
Буря, совсем уже собравшийся уходить, остановился у порога.
– Вы вот задали вопрос, трудно ли, – произнес он, косо, из-под бровей, взглядывая на Петра. – Было бы легко – я с удочками на реке свои дни доживал бы… Мне под семьдесят, не шутите! Перед войной на пенсию ушел… Загляните в больницу, увидите, как мы сейчас работаем. Один градусник на всех больных… Чистая койка для больного, обыкновенный аспирин – вот мои мечты!.. В окна дует, дверей нет… Могу я с удочками?..
Буря нахлобучил поглубже фуражку, протянул Петру руку и пошел из хаты.
* * *
Рано утром, почувствовав себя лучше, Петро попросил отца показать сад.
Пока Остап Григорьевич вычерпывал со дна ветхой лодки накопившуюся за ночь воду, Петро глядел на противоположный берег и вдруг поймал себя на мысли, что машинально оценивает его с чисто военной точки зрения: вон там, на вогнутой песчаной отмели, он мог бы зацепиться со своей десантной группой, вон то мертвое пространство под глиняной кучей – отличный рубеж для накопления сил… Там легко держать круговую оборону.
– Ну, садись, Петро, – пригласил Остап Григорьевич… Лодка причалила к острову, и Петро первым выпрыгнул на влажный песок. Ему хотелось поскорее увидеть сад, где он еще подростком помогал отцу садить золотистый ранет; сад, который Остап Григорьевич с такой гордостью показывал ему в самый канун войны, – цветущий, разросшийся, поразивший тогда Петра обилием новых, невиданных здесь сортов.
– Дуже не поспешай, Петро, – невесело сказал старик. – Похвалиться пока нечем.
Когда поднялись на кручу, Петро замер, подавленный увиденным. Вздымая кверху свои обугленные, исковерканные кроны, старые яблони словно взывали к кому-то. Петро удрученно смотрел на обгоревший валежник, устилавший землю, на глубокие воронки и траншеи, которыми были перепаханы междурядья.
– Пойдем, пойдем дальше, – сказал Остап Григорьевич. – Не весь он такой…
Путаясь ногами в дремучей чаще бурьяна, они прошли вглубь. В саду, видно, долго стояла и оборонялась какая-то часть. Ветви яблонь и слив-рекордисток были срублены для маскировки, из-под земляных брустверов торчали обрывки виноградных лоз, глубокие котлованы, вырытые под автомашины и орудия, были усыпаны ржавыми гильзами.
Но над искалеченной и истерзанной землей поднимались уцелевшие стволы деревьев с молодыми побегами. Скрывая безобразные рвы и траншеи, густо разрастался молодой малинник. Петро заметил, что за сгоревшими старыми яблонями зеленели ровные ряды молодых, недавно посаженных деревьев. Там уже проступал облик прежнего, доброго, богатого сада.
Петро устремился туда. Он с облегчением увидел – здесь были уже приложены умелые хозяйские руки: аккуратно обработаны лунки, обмазаны свежей известкой стволы, тщательно обрезаны ветви, очищены от бурьяна междурядья. Подойдя к дереву, Петро притянул к себе ветку и увидел обильную завязь.
Остап Григорьевич с посветлевшим лицом издали наблюдал за сыном. А Петро, не отрывая взора от нежной завязи, мысленно видел уже золотистые, налитые соком плоды. Неистребимая сила жизни, выдержав все беды И невзгоды, снова торжествовала в старом колхозном саду.
Часть четвертая
I
Дня через три после возвращения в Чистую Криницу Петро решил съездить в Богодаровку. Нужно было взяться на партийный учет, раздобыть необходимые книги, а главное – повидаться с Бутенко. Именно с Игнатом Семеновичем Петро хотел обсудить свою дальнейшую судьбу, посоветоваться о работе над картой садов.
– Съезди, сынок, повидайся, – горячо поддержал его Остап Григорьевич. – Он о тебе много раз справлялся.
С рассветом в Богодаровку ушла подвода за частями для лобогреек, и Петро, приехав в районный центр к восьми утра, направился в райком.
У крылечка свежепобеленного райкомовского здания одиноко дремал на скамеечке сторож. Он с проворством, выдававшим в нем старого солдата, поднялся и, искоса поглядывая на погоны Петра, сообщил, что Бутенко «мотаются по колхозам».
– Наведаются на час-два, бумажки почитают, обратно на бричку – и айда, – сказал он, и по интонациям его голоса Петро не понял, осуждает или одобряет сторож поведение секретаря райкома.
– Что ж, ничего не поделаешь, – сказал Петро с сожалением.
– А вы, если дело срочное, на квартиру позвоните. Там скажут… супруга ихняя, Любовь Михайловна…
Петро подумал и пошел звонить.
– Должен быть к обеду, – ответил по телефону женский голос, показавшийся Петру незнакомым. – Вечером заседание бюро… Кто спрашивает?
– Рубанюк.
Несколько секунд длилось молчание, потом неуверенный голос переспросил:
– Рубанюк? Неужели Петр?
– Он самый.
– Вот неожиданно! Мы только недавно с Игнатом Семеновичем вас вспоминали… Вы в райкоме? Приходите обязательно!
Любовь Михайловна вышла встретить гостя за калитку. Энергично и радостно пожимая Петру руку, она сказала:
– Батюшки, как изменился! Увидела бы на улице – не узнала… Рассказывайте, какими судьбами…
Они сели на веранде, где хозяйка, видимо, только что работала: на столике лежали раскрытые книжки, листы исписанной бумаги.
Петро, рассказывая, почему пришлось ему, недовоевав до конца, демобилизоваться из армии, внимательно поглядывал на Любовь Михайловну.
Внешне она почти не изменилась, лишь в густые темные волосы ее вплелось много сединок и в узких черных глазах застыло какое-то новое выражение не то усталости, не то грусти.
– Ну, а вы как здесь? – спросил Петро, подумав о том, что много, должно быть, довелось испытать этой женщине за годы войны.
– Буквально с ног сбиваемся. Оккупанты такое натворили в районе… Людей мало, комбайнов и тракторов почти нет.
Любовь Михайловна вдруг забеспокоилась: завтракал ли гость? Она поднялась, но Петро остановил ее жестом.
– Мне сделали резекцию желудка, и я питаюсь только микстурой и пилюлями, – мрачно пошутил он.
Любовь Михайловна взглянула на него пристально.
– Огорчаетесь, что пришлось демобилизоваться?
– Конечно, хотелось до конца довоевать.
– Здесь, в районе, тоже фронт, – сказала Любовь Михайловна, прикоснувшись к смуглой руке Петра. – И скучать вам будет некогда.
– А я вообще не умею скучать.
– Скучают бездельники, ленивые люди, так что не хвалитесь. – Любовь Михайловна улыбнулась. – Если бы вы и хотели побездельничать, Бутенко вам не даст… Он, увидите, попытается сосватать вас к себе в райком… У него людей не хватает…
Она взглянула на часы, поспешно встала и, убрав со стола разбросанные бумаги, сказала:
– Извините меня. Вам придется ожидать Бутенко в одиночестве. Мне на работу… Я оставлю свежие газеты.
– Вы кем работаете?
– Старшим агрономом.
– А-а! Вместо Збандуто? Кстати, как с этим?..
– Зимой его судили… Вы знаете, что он был при оккупантах бургомистром?
– Оксана мне рассказывала.
– А в лесу, говорят, видели недавно бежавшего полицая. Был такой. Сычик. Старший полицай…
– Знаю.
– Видимо, с кем-то связь в селе держит. Дважды встречали его ночью в садах. А задержать не сумели, он был с оружием. Отстреливался.
– В нашем лесу нетрудно укрыться…
Перед уходом Любовь Михайловна поставила перед Петром кувшин с молоком и хлеб. Повязываясь простенькой косыночкой, сказала:
– Проголодаетесь – выпьете…
Петро принялся за газеты. Он перечитал последние сводки об успешном наступлении советских войск на Карельском перешейке. Подумал о том, что где-то далеко от Богодаровки, оставшейся уже в глубоком тылу, грохочет канонада, в небе мечутся бомбардировщики… Может быть, в эту самую минуту, когда Петро сидит около цветника и смотрит на беспечно жужжащих пчел, кто-нибудь из его фронтовых друзей падает, сраженный пулей или горячим осколком…
Мысли Петра перенеслись к Оксане, брату, и сердце у него заныло… Еще несколько дней назад, лежа на жесткой полке бесплацкартного, битком набитого вагона и слушая разговоры пассажиров, преимущественно фронтовиков, едущих из крымских госпиталей, он понял, что ему будет очень трудно жить в тылу. Его мысли были по-прежнему заняты ротой, ее людьми, будто он ехал не в глубокий тыл, а к себе в полк… В госпитале ему казалось, что он смирился с необходимостью демобилизоваться, но теперь почувствовал, что это был самообман…
Петро перелистывал одну газету за другой… Горняки «Ворошиловградугля» досрочно выполнили полугодовой план добычи топлива… Комсомольцы едут из всех уголков страны в Сталинград отстраивать его… Инженеры и рабочие Харьковского тракторного завода рапортуют о пуске первой электроплавильной печи…
Перечитывая эти скупые сообщения о работе тыла, Петро раздумывал о своей судьбе. Снова и снова он задавал себе вопрос: как он поступит, если здоровье его восстановится?
«Поживу немножко в селе, у отца с матерью, – размышлял он, – силенок наберусь – и в военкомат, на переосвидетельствование… Руки и ноги ведь целы… Догоню дивизию где-нибудь за Варшавой…»
Он так задумался, что не слышал, как стукнула калитка и к веранде подошел Бутенко.
– Что за военное начальство, думаю, нагрянуло? – произнес оживленно Игнат Семенович, бросив на перильца веранды дождевик. – А это оказывается… Каким званием тебя величать? Ну, здравия желаю, гвардии капитан Рубанюк…
Петро вскочил, машинально расправил складки гимнастерки под ремнем.
– Давай-ка поздороваемся как следует, – сказал Бутенко и, шагнув к нему, звучно поцеловал в обе щеки. – Рад видеть здоровым и невредимым… искренне рад…
– И я соскучился по вас, Игнат Семенович, – чистосердечно признался Петро. – Прибыл в район и – к вам.
– Попробовал бы не заехать! Да ты что стоишь? Садись.
На Бутенко поверх темной косоворотки был серый легкий пиджак и такие же заправленные в сапоги серые брюки. Он постарел и выглядел очень утомленным. Петро понял, что не только возраст положил свою печать на лицо этого крепкого и в сущности еще молодого человека.
– Сторож мне говорит: «Начальство военное пошло к вам на квартиру», – сказал Бутенко, усаживаясь напротив Петра и набивая табаком трубку. – Совсем прибыл или в отпуск?
– Затрудняюсь ответить… Уволили меня из армии по чистой… Но думаю еще повоевать.
– Что такое с тобой стряслось?
– Пулевое ранение в желудок.
– Н-да… паршивое ранение. Впрочем, строгий режим, диета… Поправишься… На фронте заниматься этим, конечно, некогда. Какие же у тебя планы? Продумал?
– Надо подлечиться… Работа пока в колхозе какая-нибудь найдется. Подыщу…
Бутенко настороженно сузил глаза:
– Зачем подыскивать? Иди ко мне, в райком… Инструктором.
– Я, признаюсь, о другом думал… Да у меня и опыта никакого нет.
– Вот здорово! Воевал, воевал… Роту, не меньше, в бой водил – «никакого опыта». Это ты, товарищ гвардии капитан, прибедняешься.
– Я откровенно говорю.
– Откровенно? Вот я тебя разоблачу сейчас. Скажу, какие у тебя планы в голове. «Куда спешить? Я, как выгодный жених в селе, где много невест… Поосмотрюсь, покапризничаю». Что? Усмехаешься? Стало быть, угадал…
– Не совсем точно, Игнат Семенович. Оглядеться, конечно, нужно. Это верно. А главное, за карту садов мечтаю приняться.
– Это которую в Тимирязевке начал? Расскажи-ка поподробней. Любопытно!
– Был в Тимирязевке такой профессор, Вильямс Василий Робертович.
– Слыхал.
– Выдающегося ума человек… Большевик. Его труды по борьбе с засухой, суховеями меня и натолкнули на мысль о своей карте. Вильямс полагает, что всю нашу степь, особенно возвышенные места, надо опоясать лесными полосами. Создать мощные зеленые заслоны от ветров… Насадить леса на водоразделах. Тогда мы освободимся от всяких случайностей, капризов природы…
– Так, так.
– Леса местного значения плюс эти самые лесополосы изменят климат, помогут привести в порядок наше водное хозяйство. Станут, так сказать, регулятором влажности. Ну и зимой снег не будет сдуваться в овраги и балки, как сейчас. В общем, это специальный и большой вопрос…
– Продолжай. Вопрос не новый…
– Конечно, не новый, Игнат Семенович. О степных лесах и почвах наших богатейшие труды у профессора Докучаева есть. Докучаев разработал научную картографию почв…
– Ну, и ты?..
– Я сделал выписки о наших почвах, и мне хочется установить, где какие древонасаждения осуществить, показать это на карте.
– В каком масштабе?
– Пока, может быть, в масштабе нашего колхоза.
– Вот это правильно! По плечу.
Бутенко слушал с одобрительной улыбкой, и Петро загорался все больше.
– Нашим людям, если показать наглядно и убедительно, как зацветет край, – продолжал он, – показать, как зашумят зеленые дубравы, какое обилие хлеба, фруктов, дичи даст все это… Так они… Сделают, Игнат Семенович! Ручаюсь, сделают.
Бутенко грустно покачал головой.
– Сделать, конечно, наши люди могут всё. Да сейчас делать некому. Еле-еле управляемся с прополкой, подъемом паров. В Чистой Кринице и то расстроились дела до последней крайности. Отстает твой колхоз по всем статьям… По нашим сводкам, на пятнадцатом месте в районе.
– Хозяйство разрушено. Там ведь бои какие были! Мне дома рассказывали.
– Не тот, не тот колхоз, каким был. Горбань тянет, сколько может… Крутится, бушует, но… без толку.
– Я уже видел.
– Слабоват председатель. А твой батько парторгом сейчас. Прямо скажу, ты не обижайся, упускает старик многое. Переживает, из кожи, как говорится, лезет, но запущена партийная работа чрезвычайно. А инструкторов у меня толковых нет, сам я везде не успеваю… Вот и ты отказываешься помогать…
Бутенко задумчиво смотрел на Петра. Ему вспомнился первый приезд молодого Рубанюка после окончания Тимирязевки три года назад; вспомнилась стычка его с агрономом Збандуто. Петро был тогда полон самых светлых и смелых юношеских мечтаний, но у него еще не было житейского опыта, он лишь вступал в жизнь. Сейчас перед Бутенко сидел человек, перенесший самые суровые испытания, закалившийся в армии, научившийся руководить людьми и отвечать за их судьбу. «Дельный председатель колхоза будет», – подумал секретарь райкома, но вслух этой мысли не высказал.
– Большая утрата для криничан – смерть Кузьмы Яковлевича Девятко; – сказал он. – Беспартийный был, а жил и погиб, как настоящий большевик. Жаль мне этого человека!
Разговор прервала Любовь Михайловна, вернувшаяся домой. Она стала накрывать на стол.
После обеда Игнат Семенович, взглянув на часы, воскликнул:
– Эге! Уже четвертый час. Ты извини меня, капитан, я прилягу. Светлое время мы жалеем и заседаем по ночам. Сегодня бюро, и вопросы все важные, откладывать нельзя… Ложись-ка и ты, сосни. Любовь Михайловна тебе на диване постелит. Поднялся, вероятно, рано?
Но, улегшись в саду; на плетеной кушеточке, Бутенко позвал сюда Петра.
– Я все о твоей карте думаю, – сказал он. – Садись… Замечательная идея! И вот что я тебе хочу сказать… Ты мечтаешь на фронт вернуться?
– Мечтаю, – сознался Петро.
– Я вот тоже просил, чтобы в армию взяли… А мне разъяснили, что восстанавливать район не менее важно, чем бить фашистов. Солидно разъяснили, я надолго запомнил…
Разговор зашел о жизни криничан при оккупантах, о том, какой ущерб причинен району, а потом Бутенко снова вернулся к садам, прикидывая, как и что можно было бы делать уже сейчас. Вопрос, поднятый Петром, задел секретаря райкома за живое.
Петро проводил Бутенко до дверей райкома.
– Даю тебе несколько дней на отдых и размышление, а пока и мы подумаем здесь, как тебя лучше приспособить, – сказал Бутенко, прощаясь. – Думается, свое гвардейское звание ты и в наших мирных делах оправдаешь.
II
Возвращались в Чистую Криницу с фронта пока только те из криничан, кто не мог воевать по ранению или по болезни. За несколько месяцев до приезда Петра вернулся домой его родственник Федор Лихолит, которому оторвало кисть правой руки. Еще раньше демобилизовался после серьезного ранения школьный товарищ Петра Яков Гайсенко. И Гайсенко и Лихолит вступили на фронте в партию, и Петро, с живым интересом расспрашивавший отца о каждом из односельчан, сказал:
– Получается, что коммунистов в селе не так уж мало.
– А вот считай… Доктор у нас, Василий Иванович, партийный, учительша, Волкова, эта пока в кандидатах… Да, Супруненко забыл, Романа Петровича, председателя сельрады. Он, правда, на курсах…
– Яшка-то, Яшка Гайсенко! – весело удивился Петро. – Ведь он, бывало, любой общественной работы сторонился. А теперь коммунист!
– Яша добре сейчас работает.
– Комсомольцы помогают? – продолжал расспрашивать Петро.
– Плохо… Тут, правда, моя вина. Я больше в саду, а Полина Ивановна – это учительша – как следует еще не взялась…
Поздно вечером, в тот день, когда Петро вернулся из Богодаровки, наведался к Рубанюкам Яков Гайсенко, в замусоленных солдатских шароварах и гимнастерке. Он пришел прямо с работы, кинул на крылечке сумку с инструментом.
– Хозяева не спят еще?
– Заходи, заходи, Яша! – обрадованно пригласил Петро, появляясь в дверях.
– Грязи вам нанесу, – сказал Гайсенко. – Я с кузницы…
– Ничего, заходи.
– А мне Андрюша Гичак только сегодня новость принес, – проходя в светлицу, сообщил Гайсенко. – «Петра, говорит, подвозил на днях». Совсем вернулся, Петро?
– По ранению… Ну, а ты?
– Меня тоже по инвалидности. Контузило под Кременчугом, и крепенько.
– Ты, я вижу, в мастерскую определился?
– На должность «начальника куда пошлют», – сказал Яков насмешливо и с обидой. Он снял кепку, сел на краю скамейки, боясь загрязнить своей одеждой скатерть.
– Чем же все-таки занимаешься?
– Эмтеэс еще не восстановили. Все самим приходится делать. Кузницу паршивенькую слепили… Стукаю помаленьку…
– Что ж, тоже дело нужное.
– Никто не говорит, что ненужное… Только не помогают. Ни угля, ни инструмента. Как хочешь, так и выкручивайся.
– Ты что-то злой, Яша!
– Будешь злым…
Яков отложил кепку в сторону, прикурил от лампочки папироску, предложенную Петром.
– Я, когда из госпиталя домой приехал, спервоначалу дуже в работу вгрызся, – сказал он. – «Надо, думаю, помочь Андрею Савельевичу, он же в руководстве сосунок…» До войны бригадой командовал, а тут не бригада, а весь колхоз. Поставил он меня завхозом. Дело и для меня новое, но кручусь. А он, заместо того чтобы помогать, стал нехорошие слова говорить: «либерал», «актив в кавычках», «бездельник»… Я терпел, терпел, а потом осерчал: «Раз ты такой один шибко грамотный, думаю, работай сам…» А я контуженный, имею право и отдохнуть…
– И все-таки отдыхать совесть не позволила, – подсказал Петро, улыбаясь.
– Нет, дня два прохлаждался. Потом Остап Григорьевич пришел, дал я согласие перейти в кузницу. Две жатки привел в порядок, бороны сейчас ремонтирую, сеялки.
– Так это же здорово! – воскликнул Петро, шагая по хате.
Гайсенко взглянул на него исподлобья:
– Что «здорово»?
– То, что ты сейчас делаешь для колхоза, – жатки, бороны…
– Я же с малолетства имел с этим дело.
Петро несколько раз прошелся из угла в угол и остановился перед Яковом:
– Принудили людей поля лопатками ковырять! Это в Чистой Кринице! Помнишь, сколько «челябинцев» было у нас, комбайнов, и вот… лопатка! Какой-нибудь фашист, который здесь виселицы сколачивал, небось посмеивался… Отшвырнули, дескать, на сотни лет назад. А мы через год или два снова тракторы на поля выведем. И делает это своими руками Яков Гайсенко, контуженный на, фронте… Сегодня жатку, борону пустим, завтра – комбайн. Другой мог бы сказать: «Я свое отвоевал, у меня ноги нет. Мое дело – на печке…» А Савельевич на протезе передвигается, сотни гектаров обработал и засеял с одними старухами, детьми! И выходит, что фашист рано посмеивался. Не из такого теста мы, чтобы руки опускать… Вот ты и подумай, чего твои бороны сейчас стоят.
– Можно было больше сделать, – сумрачно произнес Яков. – Мы бы уже и электростанцию, наверное, пустили, если б Кузьма Степанович Девятко живой был…
– Так нет же его… Стало быть, Савельевичу помогать нужно. Покритиковать его, подсказать.
Гайсенко махнул рукой.
– Он на критику только взъедается. Здоровкаться перестает.
Разговор прервали. В комнату вошел Остап Григорьевич и вслед за ним высокий мужчина в туго затянутой ремнем гимнастерке.
– С прибытием, Остапович!
Петро, вглядываясь, не сразу узнал в похудевшем, подтянутом армейце некогда грузноватого и медвежастого шурина Федора Лихолита.
Федор протянул ему левую руку, и Петро, вспомнив, что правая у него покалечена, крепко пожал его ладонь своей левой.
– Прибывает, стало быть, нашей гвардии, – сказал Лихолит, подсаживаясь к столу. – Где же воевать довелось, Остапович, после Винницы?
Речь зашла о фронтах и последних событиях, об односельчанах и родичах, потом Яков снова заговорил о делах в колхозе.
Петро внимательно слушал своих товарищей. Да, сильно все разладилось в селе после оккупации. Недостатки, нужда во всем; куда ни кинь – всюду клин. Надо приложить много сил, чтобы Чистая Криница снова зацвела. И Петро уже думал о том, чем он сможет помочь односельчанам, какое место займет в селе среди бывших фронтовиков-коммунистов.
III
Яков Гайсенко сделал Петру сюрприз.
Вернувшись среди недели из Богодаровки, куда пришлось ему съездить за новыми мехами для кузницы, он привез отличные аккумуляторы для радиоприемника. Приемник этот подарил старикам Иван Остапович в свой последний приезд, но электрические батареи, питавшие его, разрядились, а достать в Богодаровке новые Петру не удалось.
– Хоть ты в курсе дела будешь, – сказал Гайсенко, ставя аккумуляторы перед Петром, – и нам что-нибудь расскажешь.
Петро шутливо козырнул:
– Постараюсь оправдать доверие, товарищ начальник! Послужу обществу…
Его очень обрадовала возможность слушать сводки о положении на фронтах и вообще быть осведомленным о последних событиях.
Петро прожил в Чистой Кринице уже неделю. За это время он несколько окреп и все чаще стал наведываться в бригады, на фермы, в колхозный сад, с увлечением помогал Остапу Григорьевичу налаживать партийную работу: поговорил с чтецами, показал комсомольцам, как лучше выпускать боевые листки, провел несколько бесед на бригадных станах.
Вопросов Петру задавали каждый раз множество. Все проявляли такой живой интерес к происходящему в стране и за ее рубежами, что появляться на таких беседах с устаревшими сведениями было неловко.
– Вот видишь, сынок, – говорил Остап Григорьевич, – как было мне одному со всеми делами управиться?.. Ты с образованием, расскажешь – и людям все ясно. А мы с Андреем Савельевичем двух слов толком не свяжем…
– Вы с председателем еще такие лекции будете читать, ого-го!
– А я сокрушался: где лекторов этих мне добыть?! – иронически ухмыльнулся Остап Григорьевич. – И не сообразил, что мы с председателем сможем…
– Я серьезно говорю, отец.
– Нам бы с Андреем Горбанем самим ученого человека послушать, – сказал Остап Григорьевич с горечью. – Да кто у нас может делать доклады? С деда Довбни или Кабанца лекторы вроде мало подходящие.
– А врач? Василий Иванович! А Волкова, учительница?.. Кстати, где она? Что-то ни разу не довелось ее видеть.
– У них в школе каникулы. Поехала домой за вещичками.
– Больше надо в самих себя верить, пойдет дело, батько! – убежденно сказал Петро. – Нельзя тянуться по всем статьям в хвосте, как Чистая Криница сейчас. Поверите, рука не поднимается Ивану и Оксане такое написать.
К воскресенью Петро вместе с Сашко́м проверил и наладил приемник и вечером, когда подошло время последних известий, приказал брату:
– Зови отца с матерью. Пусть послушают.
– Добра штука! – кивнув на приемник и подсаживаясь к столу, сказал Остап Григорьевич. – Такие бы по бригадам иметь.
– В бригадах репродукторы можно приспособить, – деловито отозвался Сашко́.
Катерина Федосеевна вышла, оправляя юбку и повязываясь платком, – она уже собиралась спать.
– Может, и о своих услышим? – с надеждой в голосе спросила она Петра.
– Все может быть…
Петро сосредоточенно вертел ручку… Сквозь шум и треск в эфире властно прорвался знакомый перезвон позывных Москвы.
Сашко́, взбудораженный тем, что вся семья собралась у приемника, заглядывал в лица родных.
– Минск взяли! Или Витебск! – возбужденно-радостно предсказывал он.
– Тиш-ше! – зашикал отец, услышав голос диктора.
Внимательно выслушав приказы Верховного Главнокомандующего, поздравлявшего войска Первого и Второго Белорусских фронтов с победами на Бобруйском и Могилевском направлениях, Остап Григорьевич даже крякнул от удовольствия.
– Добре жмут хлопцы! За трое суток триста населенных пунктов… Это ж… Ты слышала, стара?..
– Столько генералов назвали, нашего не упомянули, – со вздохом посетовала Катерина Федосеевна.
– Так что же, что не упомянули? – возразил старик. – Фронтов много, не один. Ну, и придерживают частя… Так я говорю, Петро?
– Конечно.
– Дело военное, – пояснил Остап Григорьевич жене. – Нажимать нажимай, а… резерв держи…
– Ух! Сейчас ка-ак двинут! – восхищенно бормотал Сашко́, приникнув к приемнику. – Из двухсот двадцати четырех…
Петро сидел, глубоко задумавшись, не принимая участия в разговоре. Как только раздались первые залпы салюта, он встал и молча вышел из хаты.
– Чего он такой невеселый? – тихо спросила Катерина Федосеевна мужа.
– Чего-то затосковал. За товарищами своими, за Оксаной. Те воюют, а он, видишь… негожий к этому делу…
Остап Григорьевич, придумав предлог, пошел к сараю, повозившись около него, медленно зашагал к хате. Петро сидел на завалинке, курил.
– Тепло стало, – сонно зевая и вскинув голову к небу, произнес отец. – Через неделю, если такая погода подержит, жито косить можно.
Петро не ответил, и Остап Григорьевич, постояв немного, подсел к нему, осторожно справился:
– Про фронт думки не выходят из головы, верно, сынку?








