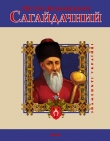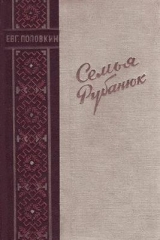
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 59 страниц)
Но это был Сашко́. С шумом ворвавшись и внеся с собой поток морозного воздуха, он только в комнате вспомнил, что брат болен, и с виноватым видом остановился.
Петро взглянул на него со слабой улыбкой, вяло попросил:
– Рассказывай… что в школе…
– Две пятерки принес, – выпалил Сашко́ и метнул сумку с книгами на лежанку. – Мама наказывали, чтоб я дома с тобой сидел…
– Ну?
– Я в село хочу побежать… на чуточку, чуточку… Петрусь!
– Зачем?
– Павку Сычика поглядеть… Хлопчаки все туда прямо из школы подались… Там, ух, народу сколько! И милиция…
– Ты пообедай.
– Кусок хлеба возьму с собой…
– Ну, ступай… Не видел, Громак тоже туда пошел?
Сашко́ утвердительно кивнул головой.
– Полина Ивановна до нас идет! – глядя в окно, воскликнул он.
В окне промелькнула тень, скрипнули ступеньки крылечка.
Через минуту Волкова, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы, скинула шубку и, не снимая белого пухового платка, села около кровати Петра.
– Да вы совсем молодцом выглядите!
Петро повернул к ней бледное, изможденное лицо с глубоко запавшими глазами.
– Хорош молодец! Чуть с белым светом не попрощался, – сказал он, с усилием шевеля запекшимися губами. – Что же ни разу не навестили?
– Не решалась… Больных не следует тревожить.
– Мне сейчас легче…
– Вот прекрасно! Только вам много нельзя разговаривать. Вы помолчите, а я расскажу, как у нас идут дела.
Волкова принялась перечислять сельские новости.
…Парни и девушки, учившиеся на курсах в МТС, уже самостоятельно водили тракторы. С фронта пришел раненый муж Федосьи Лаврентьевой. Бригада Варвары кончает вывозить удобрения на свой участок…
Заметив, что глаза у Петра закрыты, девушка поднялась.
– Пойду. А вы спите…
Петро не стал ее удерживать. Ему действительно следовало отдохнуть.
Но едва он задремал, домой вернулись мать и Сашко́. Не раздеваясь, мать устало присела на скамейку.
– Ну, что там было на суде? – полюбопытствовал Петро.
– К высшей мере присудили, – опередил Сашко́ мать.
– Ох же ж и антихрист проклятый! – негодующе произнесла Катерина Федосеевна. – Мы не всё и знали, что этот душегуб проклятый вытворял…
Она подсела ближе к Петру, развязала платок.
– Сначала уперся, как бык: «Знать не знаю, никого не арестовывал, никого в Германию не отправлял…» Ну, люди ж видели, какие пакости он сотворял!.. Все как есть рассказали судьям. Тогда он встает и говорит: «Раз такое дело, ваш верх, все скажу. Только вы, говорит, меня не вешайте, а куда-нибудь на высылку…» Видал такую подлюгу?!
Катерина Федосеевна разволновалась, рассказывая о наглости полицая.
– И как начал, как начал… Все выложил, как было… Ничем не брезговал. За деньги, говорит, за бутылку водки выдавал партизан…
– И за сигареты, – подсказал Сашко́.
– Он до снохи Малынцовой, Федоски, несколько раз приходил. Помнишь, записку про тебя подкинули, когда на председателя выбирали? Это они вдвоем с Федоской писали…
Катерина Федосеевна склонилась над Петром, шепотом спросила:
– Спишь, сыночек?
Петро не ответил. Мать взяла Сашка́ за руку, и они тихонько ушли на кухню.
* * *
Поправлялся Петро довольно быстро и через несколько дней уже мог ходить.
Но его стала беспокоить раненая нога. Бури прописал компрессы с водкой, строго наказал избегать холода.
С неделю Петро занимался делами правления дома, в свободное время заканчивал свою карту.
По вечерам семья собиралась у радиоприемника. С каждым днем сообщения становились все более радостными: советские войска уже давно вели бои с гитлеровцами на территории Чехословакии, вторглись в Восточную Пруссию и Немецкую Силезию.
– До посевной отвоюются, – предсказывал Остап Григорьевич. – Это уже по всему ходу дела видать…
– Если б он, супостат, не огрызался так, – тяжело вздыхая, говорила Катерина Федосеевна. – Как там дети наши? Вся душа изболелась…
Письма от Ивана и Оксаны приходили все реже, и по смыслу их нетрудно было догадаться, что дивизия участвует в жестоких боях где-то на важном направлении. Это-то и наполняло сердце матери острой тревогой.
В конце февраля, когда в сообщениях Совинформбюро стали уже упоминать Берлинское направление, шел однажды Петро на ферму к Андрею Горбаню и, поровнявшись с двором Лихолита, услышал громкие причитания, доносившиеся из хаты.
«Со Степаном что-нибудь стряслось», – мелькнула мысль у Петра. Он быстро свернул с дороги, пробежал двор и открыл дверь.
Старуха почти замертво лежала в кухне на кровати. Христинья то принималась брызгать на свекровь воду, то закрывала глаза платком и голосила.
Петро увидел на столе извещение со штампом и печатью воинской части. Командование гвардейского танкового полка сообщало, что гвардии старшина Лихолит Степан Кириллович погиб смертью храбрых в боях за город Сохачев, в Польше, и посмертно награжден орденом Ленина.
Тщетно пытаясь подыскать слова, которые могли бы их утешить, Петро молча опустился на лавку, машинально свернул дрожащими пальцами самокрутку.
В этот же день он узнал от Громака о том, что погиб на фронте и Григорий Срибный. Мать его умерла во время оккупации, больше никого из близких, кроме Нюси Костюк, его невесты, у погибшего не было, и похоронное извещение осталось в сельраде.
Два дня после получения этих извещений Петро ходил угрюмый, с потемневшим лицом. Смерть по-прежнему вырывала тысячи людей из огромного, сияющего под весенним солнцем мира.
Но с весной прибавилось хлопот и у Петра и у остальных криничан.
Как только оттаял верхний покров земли, люди Чистой Криницы, Сапуновки, хутора Песчаного, вооружившись лопатами, кирками, ломами, вышли рыть ямы для столбов электропередачи. Строители штукатурили, стеклили новое здание электростанции. Рабочие из Харькова, как было обещано, приехали монтировать оборудование, помогали тянуть провода к колхозам.
До начала посевной оставался добрый месяц, но уже полным ходом шла работа в бригадах: проверялся инвентарь, озимые посевы подкармливались навозом-сыпцом, ставился на отдых рабочий скот. Громак, забывая о сне, переоборудовал с помощью комсомольцев просторный дом Малынца под временный красный уголок и радиоузел.
За несколько дней перед этим Громак говорил на собрании коммунистов и комсомольцев колхоза:
– Учтите, товарищи, потрудиться нам предстоит напряженнее, чем до сих пор. Мы стали более крепкими, организованности у нас больше. Но надо не только залечить раны, нанесенные войной. Мы обязаны двигаться вперед, сделать за год столько, сколько в другой раз хватило бы на три-четыре года… Не можем мы топтаться на одном месте.
– Сделаем, – откликнулся со своего места Федор Лихолит. – Раз надо, сделаем!..
Простые эти слова крепко запомнились Петру. В душу его нет-нет да и закрадывались сомнения: «А осилим ли то, что задумали? В хозяйстве столько прорех, что, того и гляди, опять попадешь в отстающие… Не лучше ли подождать, пока вернутся с фронта самые молодые, энергичные, напористые?»
Но вспоминались твердые слова Федора: «Раз надо, сделаем!» – и тревога Петра рассеивалась.
XIII
В Днепре с каждым днем прибывала, поднималась полая вода. – Земля давно оттаяла. У обочин дорог, на криничанских огородах и садах сквозь прошлогодний рыжий бурьян пробивались прозрачно-нежные былинки травы. На тополях и вербах набухали, распускались почки.
В пасмурное и теплое мартовское утро к Петру в правление вошел высокий пожилой мужчина, в аккуратной солдатской шинели, без погон, в цигейковой ушанке. Пока Петро разговаривал с приехавшими из соседнего колхоза людьми, он, поминутно вытирая платком лоб, долго стоял около карты будущей Чистой Криницы.
Приезжие, наконец, попрощались.
Тогда солдат подошел к столу и, глядя на Петра большими навыкате глазами, отрекомендовался:
– Здравия желаю! Лаврентьев…
Петро, вглядываясь в тщательно выбритое лицо пришедшего со свежим шрамом на крупном, раздвоенном подбородке, узнал мужа Федосьи. Последний раз Петро видел его еще до своего отъезда в Москву на учебу.
– Здравствуйте, Ефим Васильевич, – пожимая его большую волосатую руку, сказал Петро. – Слыхал, слыхал, что приехали! Отвоевались, значит?
– Извиняюсь, правильное мое отчество – Сергеевич, – поправил Лаврентьев. – Вы меня помните плохо, мальчонкой тогда были… Отвоевался, товарищ председатель, по ранению, и пришел поблагодарить за жену и деточек, что не дали им погибнуть.
– Благодарить не за что! Да вы садитесь. Лаврентьев сел.
Сняв ушанку, осторожно положил ее на краешек стола.
– Зайду, думаю, посоветуюсь, – продолжал он, – потому что семейство мое, видать, на лето еще тут останется.
– А вы что же? Уезжать задумали? – с нескрываемым огорчением спросил Петро.
Лаврентьев, не отвечая, оглянулся на карту.
– Хочу спросить вас… вот этот план, он что планирует?
– Это схема наших работ в колхозе, – охотно пояснил Петро и слегка зарумянился, как и всякий раз, когда ему приходилось говорить с кем-нибудь о своих замыслах.
– Что же к чему? Поясните, пожалуйста…
– Там вон штрихом обозначены поля севооборота, зеленым – сады. Голубые кружки – пруды, водоемы. А вон те кружочки – новые фермы, мастерские, амбары, колхозный гараж…
Лаврентьев долго, не мигая, глядел на карту, потом перевел глаза на Петра.
– И когда думаете взяться за это дело?
– Уже взялись. Людей маловато, но кое-что делаем… Электростанцию к Первому мая пустим, питомник для молодых садов расширили.
– Так, так…
Лаврентьев снова повернулся к карте. Петро ревниво следил за выражением его глаз. О Ефиме Лаврентьеве еще до войны упрочилась добрая слава человека, у которого «золотые руки» и светлая голова. Первоклассный плотник, рассудительный и дельный человек, он жил неплохо и до коллективизации, но в колхоз вступил одним из первых, сразу оценив его преимущества перед единоличным хозяйством. И, следуя его примеру, в колхоз тогда потянулись многие середняки.
Петро не без волнения ожидал, как отнесется Лаврентьев к его планам, получившим пока воплощение вот в этой карте.
– Так, так; – задумчиво произнес Лаврентьев, как бы подытоживая какие-то свои мысли, но не торопясь их излагать.
– Куда же вы задумали уезжать, Ефим Сергеевич? – с деланым равнодушием осведомился Петро.
– Доложу, ежели интересуетесь… Лежал я последний раз на излечении в Краснодаре. Так вот из Майкопа туда приезжал инженер. С завода. Дуже приглашал мастером на деревообделочный. Квартира с огородом, деньги хорошие, ну и так и далее. По моей квалификации, думаю, в селе сейчас работы нету. Двери сколотить, заборчик поставить или еще такое подобное – это каждый может. Мудрости тут никакой нет…
«Это, дорогой товарищ, дудки! – слушая медлительную речь Лаврентьева, беспокойно думал Петро. – Придется инженеру другого мастера подыскивать».
Вслух он сказал:
– Не знаю, о каком вы селе говорите. А вот у нас правление решило в этом году полевой стан в бригаде Федора Кирилловича строить – большой дом, о пяти комнатах. Повторяю, большой! Хороший, из кирпича, под черепицей. Дневные ясли, столовая, женское и мужское общежитие. Душевая. Конюшни отдельно, крытый ток. Ну, конечно, электричество, садик, прочие удобства…
– И когда думка такое строить?
– Кирпич уже купили в Богодаровке.
– Так, так…
– И вот, когда мы услышали, что вы вернулись, очень обрадовались. Думали – есть кому возглавить строительство.
Не давая Лаврентьеву открыть рта, Петро рисовал перед ним самые заманчивые перспективы:
– Вы говорите – двери, заборчики… Имейте в виду, план у нас такой: станем на ноги, разбогатеем, переработочные пункты будем строить, сушилки, фундаментальные, из кирпича. Во как!..
– Ну что ж! В добрый час, как говорится. Дело хорошее задумали.
– Так включайтесь!
– Вы уж дозвольте с супругой совет поиметь. Обманывать не стану: думка была на заводе несколько годков поработать. Детишки подрастают, как ни говорите – город…
Он ушел, явно поколебленный в своем намерении покинуть Чистую Криницу. Но Петро не мог успокоиться на туманном обещании Лаврентьева. Он решил переговорить с женой его, Федосьей, и, узнав, что та с другими женщинами перевеивает семенное зерно, пошел к амбарам.
– Значит, проводы скоро устраиваем, Федосья Михайловна? – спросил он у нее, здороваясь.
– Не скоро, – откликнулась женщина, блеснув глазами из-под цветастого платка.
Она неузнаваемо помолодела и расцвела за эти дни. Смахнув ладонью серый налет пыли с опаленного морозными ветрами, горящего густым румянцем лица, Федосья счастливо произнесла:
– Сколько ж одной бедовать, Петро Остапович? Раз он хочет, поедем.
– И не жалко покидать родное село?
– Оно бы не хотелось, да хорошие люди везде найдутся.
– Так вот что, Михайловна, отойдем-ка в сторонку…
Женщины, перечищавшие сортовую пшеницу, исподтишка наблюдали, как председатель горячо убеждал в чем-то Федосью, и потом слышали, как она, оправляя платочек, говорила:
– Да нет, Петро Остапович! Один он от семьи не отковырнется.
На следующее утро Петро, подходя к правлению колхоза, увидел, что Лаврентьев, все в той же аккуратной солдатской шинели, в армейских ботинках и обмотках, прохаживался, пощипывая ус, около правления. Несколько минут спустя он, сидя напротив Петра и щупая шаткий, сколоченный из сосновых планок столик, говорил:
– Выберем время, Петро Остапович, сколько-нибудь подсушим дубнячка – кабинетную обстановочку разделаем. А пока, вы дозвольте, я в бригаде, на месте, погляжу, как там полевой стан расплановать.
За два следующих дня он вместе с Павлом Петровичем Грищенко, у которого когда-то обучался специальности плотника, составил подробный график строительных работ, уточнил количество материала, необходимого для полевого стана, и правление, утвердив расчеты, назначило Лаврентьева бригадиром строительной бригады.
Уже в марте строители подвели каменный фундамент под основное помещение полевого стана и стали возводить стены.
Федор Лихолит, как-то отвозивший бороны и сеялки на свой участок, вернулся в село к вечеру и, повстречав Петра около усадьбы МТС, остановился.
– Ну, Остапович, – сказал он, широко улыбаясь от удовольствия, – поглядел я, как там Юхим мудрует.
– Хорошо подвигаются дела?
– Сроду еще на степи у нас такого не становили. Поглядел я – да это же не хата будет, а… Куда там пану Тышкевичу!
– Ну, это ты через край хватил, Кириллович! – улыбнулся Петро. – Ты же усадьбу графа Тышкевича не видел?
– Ничего, что не видел. Батько, покойничек, в экономии у него батрачил, рассказывал…
– Ведь люди проводят большую часть года в степи, – прервал его Петро. – Пускай и живут с удобствами, культурно. А то от зари до зари работают, а спят под скирдой.
– Тоже верно… Нет, дуже я доволен.
– А зимой ворчал, помнишь? Плотников, дескать, потом будем готовить. Говорил?
– Ну, не я один так говорил, – уклончиво ответил Федор.
Разговор зашел о других хозяйственных делах. В эту минуту Петро заметил в конце улицы Полину Волкову. Она скорым шагом шла по направлению к усадьбе МТС, потом, как бы вспомнив о чем-то, круто повернулась и еще быстрее зашагала обратно.
Видел ее Петро за последние дни всего два-три раза. Он знал, что Волкова из-за болезни другой учительницы ведет сейчас уроки в двух сменах и с трудом выкраивает время для общественной работы.
Но и мимолетных, коротких встреч было достаточно, чтобы Петро заметил: девушка стала упорно сторониться его, разговаривать с ним подчеркнуто сухо, даже грубовато.
А Петру нужно было переговорить с Волковой. Надо было условиться о привлечении комсомольцев к проверке договоров социалистического соревнования между бригадами, о создании на время сева контрольных постов.
Провожая глазами удалявшуюся девушку, Петро не без огорчения думал: «Так легко было раньше разговаривать с дивчиной обо всем, и вот… Неладно получилось. И ничем ведь я ее не обидел…»
В тот же вечер Петро решил поговорить с Волковой по душам. Он умышленно задержался в правлении колхоза, надеясь, что Волкова, может быть, забежит, как бывало раньше, по какому-нибудь делу.
Не дождавшись ее, пошел домой не через площадь, как обычно, а мимо школы. Около низенькой хатки сторожихи постоял, поглядел на слабо освещенные оконца и, свернув во двор, постучал.
– Спите уже? – спросил Петро Балашиху, вышедшую открыть дверь и в темноте не узнавшую его.
– Собирались укладываться.
Узнав председателя, она засуетилась:
– Заходите. Не спим еще. Заходите…
– Кто там, тетя Меланья? – донесся голос Полины.
– Петро Остапович, Полиночка…
Вытирая ноги, Петро видел в приоткрытую дверь, как Волкова торопливо привела в порядок волосы, потом, накинув на себя шаль, стала перебирать раскиданные по столу книги. Держалась она подчеркнуто холодно, на все вопросы отвечала односложно и неохотно.
После длинной и неловкой паузы Петро, прислушиваясь, как за ситцевой занавеской ворочается и вздыхает хозяйка, проговорил:
– Жалко, что с временем у вас туго. Надо бы комсомольские контрольные посты создать. Помните, как на уборке было? Они бы за соблюдением сроков сева следили, за качеством. И соревнование следовало бы проверить. По этому делу я и зашел.
– Мы уже беседовали с товарищем Громаком об этом, – ответила, несколько оживляясь, Волкова. – А время что ж!.. Найду.
– Много приходится вам работать.
– Я этого не боюсь.
– Значит, посты установим?
– Да.
Петро поднялся и снова сел.
– Чего вы так изменились, Полина, ко мне? – неожиданно для себя спросил он.
Волкова с опаской взглянула на занавеску.
– С чего вы это взяли? – Она вскочила с табуретки, накинула на плечи шубку. – Пойдемте, провожу вас.
У калитки девушка остановилась, протянула руку:
– Спокойной ночи.
– А на вопрос мой вы не ответили, – сказал Петро, взяв ее маленькую гибкую руку в свою горячую ладонь.
Волкова, делая слабые попытки освободить руку, приглушенно сказала:
– Не хочу кривить душой. Нам не надо встречаться с вами. Мне неприятно…
– Даже так?
– Не то что неприятно, а тяжело… Я не так выразилась. Мне трудно говорить об этом…
Несколько справившись с волнением, девушка сбивчиво рассказала обо всем, что тяготило ее.
– Вы, может быть, посмеетесь, но вот как бывает, – сказала она. – Когда в первый раз я увидела вас, мне даже страшно стало. Вы так напомнили человека, который был мне другом!
– А где он сейчас? – спросил Петро.
– Погиб. На фронте.
Петро помолчал, раздумывая над тем, что услышал от девушки, потом осторожно и мягко проговорил:
– Я не имею права расспрашивать. Это было, наверное, большое чувство. Но… почему должны портиться наши отношения? Так хорошо работалось вместе с вами.
– Я и сейчас работаю.
– Но с вами что-то происходит.
– И сама не понимаю. Ну, ничего, пройдет… Спокойной ночи! Уже поздно.
Волкова повернулась и быстро пошла к хате.
Ее признание взволновало Петра и расположило его к молодой учительнице еще больше. Идя домой, он думал о том, что так мужественно переносить личное горе, как Волкова, могут только сильные, волевые люди, а уже это одно было достойно глубокого уважения.
Через день, узнав от Сашка́ о том, что Полина Ивановна сильно простудилась и впервые за все время пропустила занятия, Петро снова решил навестить девушку.
На этот раз Волкова оказалась более гостеприимной, весело подшучивала над своей болезнью, и Петро ушел от нее с радостным ощущением, что ледок ее отчужденности растаял.
Но посещения эти соседки Балашихи истолковали по-своему. На следующий день утром, собравшись возле колодца, они стали выпытывать у сторожихи:
– Председатель, часом, не сватается за учительницу? Что-то дуже он зачастил до вас?..
Чернобровая, румянощекая Одарка Черненко, поддевая коромыслом ведро, сказала с протяжной зевотцей:
– Оксана там далеко где-то. А он человек молодой. Ему не все в конторе сидеть…
Балашиха хотя и не прочь была посудачить, отмалчивалась: как-никак речь шла о ее квартирантке, а от учительницы она за все время ничего, кроме добра, не видела.
Но и она не утерпела и, отнеся однажды на птицеферму гусиные яйца, спросила у Пелагеи Исидоровны как бы между прочим:
– Оксана ваша ничего не пишет?
– Давно письма не было.
Балашиха присела на опрокинутую вверх дном деревянную цыбарку, сказала, сокрушенно вздохнув:
– Ох, возвращалась бы она до дому. Что за жизнь такая! Муж дома, она где-то…
– Оксана не одна там, – заступилась за дочь Пелагея Исидоровна.
– Ну все-таки… Обое они молодые, вместе и не жили еще…
Пелагея Исидоровна, нахмурив брови, молча просматривала яйца, а Балашиха тем временем тараторила:
– В разлуке, тетка Палажка, всяко бывает. Ну, там полгода, год, скажем, врозь, оно еще туда-сюда, а три года… Дело молодое…
– За свою я не беспокоюсь, – оборвала ее Пелагея Исидоровна.
– Так я же не про Оксаночку, – сказала Балашиха. – Про зятя вашего бабы языками треплют. Может, ничего такого и нету, ну, а все ж Петро до учительши частенько заходит. Полиночка – красивая барышня и личиком… и одевается аккуратненько…
– Хватит тебе языком трепать черт-те что! – сердито перебила Пелагея Исидоровна.
После ухода Балашихи она продолжала заниматься своим делом: осмотрела наседок, вычистила пристройку, предназначенную для цыплят, но настроение у нее явно испортилось. Балашиха растравила больное место: до Пелагеи Исидоровны и раньше доходили слухи о Петре и Волковой.
Самолюбивая и гордая, она сумела бы молча пережить оскорбительные для нее бабьи пересуды, но несколько дней спустя от Оксаны пришло письмо. Дочь писала о своей фронтовой жизни, а в конце вскользь намекнула о том, что ей кое-что известно про Петра и молодую криничанскую учительницу.
В тот же день Пелагея Исидоровна пошла к Рубанюкам.
Катерина Федосеевна была дома одна. Она искренне обрадовалась приходу свахи, тут же отложила недошитую мужнину сорочку и проворно стала собирать угощенье для гостьи.
– Вы не затрудняйте себя хлопотами, свахо, – сказала Пелагея Исидоровна, расстегивая пуговицы теплого полупальто и, прежде чем сесть, подворачивая юбку. – Я сейчас пойду. Шла тут по делу – дай думаю, проведаю.
– Гуляйте! Что-то совсем вы нас забыли, – упрекнула Катерина Федосеевна, – будто мы с вами и не родичи.
Пелагея Исидоровна тяжело вздохнула.
Внешне почти совсем не изменилась жена Девятко: румянец, густой и яркий, по-прежнему заливал ее щеки, строгие черные глаза не утратили блеска, и лишь на лбу и около сухих тонких губ морщинки стали глубже.
Но в выражении ее сурового, неулыбчивого лица было что-то недоброе, заставившее Катерину Федосеевну насторожиться. Испытующе глядя на гостью, она сказала:
– Вижу, свахо, на сердце у вас горе какое-то. Пожальтесь, что стряслось?
– Горе не горе, – ответила та пасмурно, – а трошки обидно мне за дочку.
Она рассказала о дошедших до нее слухах, о последнем письме Оксаны и под конец, не выдержав, заплакала. Вытирая краешком платка покрасневшие глаза, Пелагея Исидоровна тихонько жаловалась:
– Оксана и без этого столько пережила – и батька потеряла, и сама уже три года не поспит, не поест… Приедет, а тут, – голос ее дрогнул, – срам такой…
– Да с чего вы, свахо, взяли? Чего только бабы не набрешут! – с досадой возразила Катерина Федосеевна. – Всех сплетен, как говорится, не переслушаешь.
– Оксана и сама пишет.
– Все равно брехня! Вот же проклятые балаболки!
– Верно же, свахо, что Петро ваш ходит до учительши.
– Ну и что с того! И она до нас ходит. Он председатель, мало ли делов у них!
Катерина Федосеевна искренне и горячо возмутилась услышанным.
Когда Пелагея Исидоровна ушла, она стала вспоминать: не было ли чего-нибудь лишнего в отношениях Петра с Волковой. Нет, ничего зазорного в его поведении мать не примечала! Петро любит энергичных, живых людей, и лишь недавно, разговаривая о Волковой, все в семье сошлись на том, что такая учительница, как она, – сущий клад для Чистой Криницы.
Катерину Федосеевну тревожило другое. «Никаких глупостей Петро, конечно, не допустит, – думала она. – Оксану он любит. Но раз уж пошли по селу такие разговоры, не надо ему позорить и себя и дивчину».
Вечером, как только домой пришел Остап Григорьевич, она обо всем рассказала ему.
Старик слушал ее внимательно, а когда она умолкла, кряхтя стал стаскивать с себя пропитанные влагой сапоги.
– Что ж ты молчишь? – прикрикнула Катерина Федосеевна, отбирая у него мокрые портянки и развешивая на печи. – Тебе надо с ним поговорить, раз он сам не понимает.
Остап Григорьевич сунул ноги в постолы, неторопливо шаркая ими, подошел к кадке с водой, осушил полную кружку и, вытирая ладонью усы, проговорил:
– Тебе сорока на хвосте принесла эти новости, а я давно уже замечаю. Но думал, в нашем роду никто еще семьи своей не порочил, а чем Петро хуже? А он, видишь…
Старик не бушевал, не ругался, но по вздрагивающим кустикам седых бровей, по тому, как он мял пальцами отложной воротник черной рубашки, жена видела, что он очень сердит. Опасаясь, как бы он сгоряча не наговорил Петру лишнего, Катерина Федосеевна примирительно сказала:
– Ничего Петро плохого не позволил, и ты на него не кидайся. Голова у него есть на плечах, ты ему только подскажи. Он сразу поймет, что не годится ее под пустые сплетни подставлять.
Остап Григорьевич беспокойно потоптался около стола, затем достал из посудного шкафчика книгу, очки, подсел к лампе. Отставив книгу на вытянутую руку, прочитал, медленно шевеля губами:
– «Мичурин… Итоги шестидесятилетних работ…»
XIV
– Ступай, батько, Петро пришел.
Остап Григорьевич поднял от книги глаза, непонимающе посмотрел на жену.
– Ты ж хотел поговорить с Петром. Ну, так он дома.
– Не мешай, стара.
Старик снова углубился в книгу. Водя пальцем по строчкам, он читал с таким увлечением, что Катерина Федосеевна поняла: теперь его с места не сдвинешь, пока не дочитает.
Минут десять спустя Петро вскочил в кухню радостно возбужденный.
– Последних известий не слышали? – восторженно крикнул он. – Войска Третьего Белорусского взяли крепость и город Кенигсберг… К Вене наши подошли…
Петро, обняв мать за плечи, предложил:
– Идемте, на карте покажу. Тато, пойдемте. Бросайте книгу!
Старики с сосредоточенными лицами выслушали объяснения сына возле карты.
– Ну, теперь нашим бойцам не много дела, – произнес отец, присаживаясь на кровати и набивая трубку. – Это и Василинку и Оксану надо вскорости ждать… если живы.
– Ой, наверное, соскучились дивчатки за домом, – глядя на сына, сказала мать. – А ты, Петро, не соскучился?
– Как же им не скучать, дочкам? – подняв брови, спросил Остап Григорьевич. – Я и то, когда молодым воевал, вспомню, бывало, про дом, про семейство, и-и, эх!.. Кинул бы все, пешки тыщу верст прошел бы. Мы с тобой, стара, сколько уже?., скоро пятый десяток как живем?
– Через год будет ровно сорок.
– По три, по четыре года дома не бывал, – обращаясь к сыну, говорил старик, – а никто не скажет худого слова ни про меня, ни про мать. Дружно прожили…
– И о ваших детях никто ничего плохого не скажет, – произнес Петро.
– В том-то и беда, что говорят! – отрезал старик и нахмурился.
– Это о ком же?
– О тебе и Полине Ивановне. Как по-твоему? Красиво?
– На чужой роток не накинешь платок. Возвести напраслину на кого угодно можно. Я не гуляка, вы это добре знаете.
– Эх, сынку! Добрая слава лежит, а худая бежит. Вернется Оксана с фронта, каково ей будет слушать про тебя?
– Да в чем моя вина? – вспыхнул Петро. – Объясните.
– Скажу… Ты уже не парубок, сынок. Тебя люди к руководству поставили.
– Ну и что?
Лицо Петра стало багровым.
– Не кипятись, не кипятись! Слушай, что батько тебе говорит. С тебя пример берут. Может, с учительницей у вас ничего такого нету. Я и сам примечал, что вы больше про дела, про работу с ней. А люди этого не знают… Вон теща твоя до матери приходила. Письмо ей было. Все Оксане описали про тебя.
– Оксане?!
– Описали. А как, по-твоему, слушать ей на чужбине про такие дела?
Только сейчас Петро понял, почему ему давно нет писем от Оксаны.
– Так знайте, тато, – сказал он запальчиво, – Оксане краснеть за меня не придется. А что нравится мне Полина, какой же грех в этом? Какой? – Голос его дрожал, брови то сдвигались у переносицы, то высоко изгибались. – Всему колхозу она по душе. Золотая девушка! У нее своя личная жизнь, свое горе. И, может быть, мы все недостаточно чутки к ней.
Слушая его, Остап Григорьевич думал: «Кто их, молодых, разберет? На гулянку вроде не тянутся, работают дуже хорошо. Видать, зря сучьи бабы наклепали».
– Ну, гляди, – успокоенно проговорил он, – семья – это, сынок, не так себе… В семье, как пословица говорит, и каша гуще.
Он медленно перекатывал в пальцах зажигалку из винтовочной гильзы, потом, чиркнув, поднес коптящий язычок пламени к погасшей трубке. Выпустив облачко желтого дыма, Остап Григорьевич повеселевшим голосом сказал:
– Ты знаешь, о чем я сегодня вычитал у Ивана Владимировича Мичурина? В той книжке, что ты привез?..
Катерина Федосеевна, зная по опыту, что теперь батька с сыном не скоро разведешь, бесшумно удалилась на кухню.
Ночью, когда все уже легли спать, Петро долго ворочался на своей постели, перебирая в памяти подробности разговора с отцом. Старик был, конечно, прав, заботясь и о душевном покое невестки и о незапятнанном имени сына. И не потому ли заговорили об этом в селе, что хотят видеть своего руководителя безупречным во всем: и в работе и в семейном быту? Но разве не дорожил этим и он сам, Петро?
Утром, проводив в степь людей, выехавших сеять подсолнух и свеклу, Петро пошел на птицеферму. Надо было посоветоваться о приобретении кое-какого имущества для фермы, а заодно поговорить с тещей о письме Оксаны.
Пелагея Исидоровна встретила его сдержанно. Кивнув головой в ответ на приветствие, она пошла кормить кур, вытянула из колодца и налила в поилки свежей воды, потом, вытирая руки, села рядом с Петром.
– Як вам, Пелагея Исидоровна, вот по какому делу, – начал Петро, разглядывая свою ладонь. – Никогда не приходилось вам иметь дело с инкубатором?
– И не видела его. Что оно такое?
– Э-э, чудесная штука! До девяноста процентов выхода цыплят и гусят… Есть возможность приобрести в богодаровском птицесовхозе…
Пелагея Исидоровна пожала плечами.
– Про ку… Как его? Кубатор… не знаю, решайте. А вот если у них есть холмогорские гуски, купить бы на развод. Ох же и бравая птица!
– Чем?
– Да ее когда откормишь, по восемь, а то по девять килограммов заважит. На птичнике до войны были. Жира одного на два пальца, килограмма три-четыре с гуски.
– Спрошу. Не плохо бы нам таких гусей завести…
– Потом, если будешь, Петро, в совхозе, племенных яечек надо. Наши куры плохонькие, от силы сотню, полторы яечек несут. А породная, она больше двух сотен может дать.
Петро пообещал разузнать все в совхозе и, крепко затянувшись папиросным дымом, спросил:
– Вам Оксана письмо прислала?
– Прислала.
– Можно прочитать?
Пелагея Исидоровна, отмахиваясь рукой от дыма, вынула откуда-то, из-за обшлага жакетки, бумажный треугольничек.