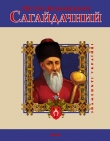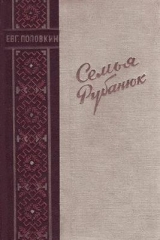
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 59 страниц)
Отдыхая, с наслаждением занималась она привычной домашней работой: доила корову, копалась в огороде, ездила с Настунькой в луга за травой. Теплыми вечерами с закадычной подружкой Нюсей и братом ее Алексеем ходила к Днепру или в колхозный клуб. И казалось Оксане, никогда еще не была она так счастлива, как в эти дни.
III
– Нюся! Уже спишь?
Из сада в открытое окно тихонько просунулась голова. Оксана, часто дыша, вглядывалась в темноту; глаза ее различили смутно белевшую на кровати сорочку спящей подруги.
Эй, баба-соня! – шепотом окликнула еще раз Оксана. – Нюся!
– Кто тут? – испуганно спросил сонный голос.
Скрипнув кроватью, Нюся быстро спустила ноги на пол, шагнула к окну.
– Ты что так поздно? Или, может, случилось что? Лезь в хату.
Оксана взялась за подоконник, легко прыгнула в комнату и сказала, запыхавшись:
– Я легла уже… Никак сон не идет… Хоть кричи. Оделась и вот… прибежала.
Нюся ощупью отыскала протянутую руку, усадила Оксану рядом с собой на постели.
Дивчата сдружились еще в школе. С прямодушной откровенностью они доверяли друг другу самые затаенные мысли и мечты.
– Не вернулся брат из района? – спросила Оксана.
– Леша? Нет, еще не вернулся.
– Петро завтра приезжает, – сообщила Оксана.
По ее голосу Нюся сразу определила, что подружка взволнована.
– Ну что же, – притворно зевая, ответила она. – Поглядим, какой он герой стал. Наверно, и не подступишься к нему… ученый.
Ясно было, что Нюся хитрит, но Оксане очень хотелось еще поговорить о Петре.
– Интересно на него поглядеть, правда? – сказала она.
Нюся промолчала, и Оксана добавила:
– Он молодец. Ему двадцать четыре, а уже академию закончил.
– Ты, я вижу, серденько, что-то затревожилась?
– И сама не знаю, почему, – чистосердечно призналась Оксана.
– А как же Лешка?
– Что Лешка?
– Заморочила ему голову. Только и говорит про тебя.
– И скажет такое! Чем это я ему голову заморочила?
– Не знаю чем. Обоим голову морочишь, и Лешке, и Петру.
Нюся резко выпростала руку и приподнялась на локте.
– Скажи, чего ты всполошилась? Едет? Ну и пусть себе едет!
– Нюська!
– Уже девятнадцать лет Нюська.
Тон у нее был такой, что Оксана съежилась.
– Ты не горячись. Вот смотри, – робко заговорила она, – Петра я три года не видела. Он, наверно, и думать забыл обо мне?
– Ты вот его не забыла?
– Ну так что же?
– Значит, любишь?
– Не знаю… Я же, когда он последний раз приезжал, совсем маленькой была… девчонка.
– А Лешка? Лешка ведь сватался за тебя. Чего же ты? Туда-сюда крутишься.
– Нет, Нюська! Замуж я ни за кого не пойду, пока институт не закончу.
Оксана глядела на неясно вырисовывавшийся квадрат окна. Чуть слышно шелестели листья, беспечно высвистывал соловей.
– Нюся!
– А?
– Нюсенька, чего у меня сердце болит? Вот тут, послушай. – Оксана прижала ее руку к своей груди. – Так тоскливо мне… ох!
– С чего это?
– Не знаю.
Нюся вздрагивала, борясь с одолевавшей дремотой, и вдруг услыхала, что Оксана плачет.
– Ты в своем уме, дивчина? Что это с тобой?
Нюся повернула к себе голову Оксаны, прикоснулась губами к ее мокрым глазам. Она по себе знала сладость этих беспричинных девичьих слез, знала, что они пройдут так же быстро и легко, как и появились, и потому ни о чем больше не допытывалась.
Все еще всхлипывая, Оксана укоризненно пробормотала:
– Какая же ты подружка после этого?
– После чего?
– Я плачу, а ты нет.
Нюся засмеялась:
– Ты и сама не знаешь, чего ревешь.
– Тебе хорошо. Полюбила своего Грицька и знать ничего не хочешь.
– Погоди! И ты кого-нибудь полюбишь.
Обнявшись, девушки долго лежали молча. Услышав ровное, спокойное дыхание задремавшей Оксаны, Нюся осторожно поправила под ее головой подушку. Но Оксана тотчас же встала и принялась закручивать косу.
– Ночуй у меня, Оксанка, – предложила Нюся.
– Ой, что ты! Мать же не знает, что я ушла.
Нюся проводила ее на крылечко. У порога подружки постояли. Оксана, поеживаясь, сказала:
– Ты Леше не рассказывай, что я плакала. А то он еще подумает что-нибудь непутевое.
IV
В пятницу Остап Григорьевич проснулся рано. Выглянул в окно. Заря только занималась. На посветлевшем небосклоне догорали последние звезды. В предутренней зыбкой полутьме еще тонули очертания высокого берега за Днепром, вербы и тополя.
Остап Григорьевич опустил ноги с широкой деревянной кровати. Потирая рукой волосатую грудь, он смотрел, как жена затапливала печь. С вечера зарезали гуся, подходило тесто для калачей, и в кухне стоял кислый хмельной запах.
– Чего рано схватился? – спросила Катерина Федосеевна, не отрывая взгляда от полыхавшего пламени.
– Выспался.
Остап Григорьевич громко, во весь рот, зевнул, шагнул к сундуку, извлек оттуда праздничный костюм.
– Сашка́́ возьмешь на станцию? – приглушенным голосом спросила Катерина Федосеевна. – Крик еще с вечера поднял. Просится ехать.
Сосредоточенно посапывая, Остап Григорьевич прилаживал ремешок к шароварам. Глухо буркнул:
– Нехай спит.
– Возьми. Слез не оберешься.
Будто подтверждая ее слова, на кровати стремительно поднял стриженую голову девятилетний Сашко́́. Он, глядя еще сонными глазами на отца, приготовился зареветь.
– Вот, пожалуйста, – усмехнулась мать. – Такого удержишь? Нехай едет.
Сашко́ только сейчас заметил на отце праздничные шаровары и с негодованием откинул свои, требуя новые из сундука.
– Дурачок! – урезонивала мать. – Ладные штанцы, чего же в дороге праздничные пачкать.
– Ничего не пачкать!
– Эти же красивше.
– Ничего не красивше!
– Да ты спи еще, такой-сякой! – прикрикнул отец. – Ну? Чего смотришь? Спи, тебе говорят!
Но сон уже покинул хату. В соседней комнатушке, вздыхая, одевалась Василинка. Ей предстояло сбегать в Богодаровский лес за квитченнем[2]2
Квитчення – ветки дуба и клена для украшения хаты и двора (укр.).
[Закрыть]. Сашко́, заискивающе глядя на мать, приник к открытому сундуку.
Остап Григорьевич вышел на крыльцо. За черной каймой соснового бора мягко золотилось небо. От палисадника поднимался густой аромат ночных фиалок, крепким настоем, плавал над подворьем.
Поскрипывая свежесмазанными сапогами, Остап Григорьевич прошел к воротам; голубенькая лента дыма из трубки тянулась за его новым картузом.
Мимо бежала соседка с ведрами на коромыслах. Увидев Рубанюка, остановилась:
– Доброго ранку, дядько Остап.
– Доброго здоровья, Степанида.
– Петро, говорят, приезжает?
– Приезжает.
– Кончил свое учение?
Остап Григорьевич снисходительно посмотрел на нее.
– Кончил, раз отпускают из Москвы.
Ему было очень приятно поговорить о сыне, и он, опасаясь, что Степанида уйдет, смягчил голос, уже более словоохотливо и доверительно сказал:
– Этот долго на месте не усидит, чтобы без науки. У него ж, сама знаешь, порода какая. С малых лет беспокойный. То на тракториста кинулся учиться, то движок целое лето мастерил. А то, бывало, с лекарни его не вытянешь. В какие-то телескопы с фершалом все глядели на эти… дай бог памяти… енфузории.
– Так, так, – поддакивала Степанида. – А Ванюшка ваш ничего не пишет?
– Давно не писал.
– Что ж это он?
– Еще напишет.
Остап Григорьевич выколотил трубку, сунул в карман и вернулся к хате.
Просторная, веселая усадьба Рубанюков раскинулась за аккуратным плетнем, на развилке двух улиц. Осененная высокими елями, хата чистыми своими оконцами глядела в сад. Позже, когда взойдет солнце, густая листва накинет узорчатые тени на ее слепящие белые стены, на соломенную кровлю. Заиграют в его лучах посаженные Василинкой огненные чернобривцы, пунцовая гвоздика, желто-горячие настурции.
Мимо хлева и клуни тропинка ведет к фруктовому саду и на пасеку, проскальзывает под молочными ветвями бузины-невесты и теряется где-то в лугах.
Остап Григорьевич зашагал на пасеку. Из ульев вылетали пчелы. «Петро еще своего домашнего меда не ел, – пришло на ум старику, – и жерделы[3]3
Жерделы – мелкий сорт абрикосов.
[Закрыть] не при нем посажены».
Он, не торопясь, обошел сад, проведал скотину, заглянул в амбар – и вдруг будто посторонними глазами увидел, как в последние годы незаметно окрепло и расцвело хозяйство, хоть и трудно было без сыновей.
Нелегко было ему начинать самостоятельную жизнь. В девятьсот четвертом году, на японской войне, убили отца. После него остались лишь низенькая саманная хатенка с отсыревшими углами и маленькими окошками да небольшой участок супесчаной земли. Вдвоем с матерью бились они над скупой делянкой, но земля кормила, как мачеха: с голоду не пухли, а хлебом никогда не наедались. Ходил Остап, тогда еще двадцатитрехлетний парубок, в соседнюю экономию графа Тышкевича на заработки. Хватался и за другие профессии – столярничал, рыбачил. Долго копил деньги на коня, привел, наконец, с базара, а через неделю конь околел от сибирки.
Бедствовал Остап всю свою молодость. На улицу с хлопцами не ходил – не гульбищами была голова забита, да и не в чем было показаться на люди.
Похоронив мать, женился он в 1906 году на дочке кузнеца из Богодаровки, Катерине. Может, и выбился бы из нищеты (жена попалась хорошая и ретивая до работы), да забрали его осенью четырнадцатого года воевать с немцами. Пришлось покинуть беременную Катерину на ее младшего брата Кузьму, помогавшего по хозяйству и раньше, да на семилетнего сынишку Ваню.
Пришел с фронта, пожил дома несколько месяцев, и вновь нужно было Катерине сушить солдатские сухари в дорогу. Немцы были на Украине. Остап Рубанюк партизанил, потом дрался с петлюровцами, гнал белополяков.
Вернулся он под родную кровлю на исходе двадцать первого года – постаревшим, с синим рубцом на шее от немецкого клинка. По-прежнему с охотой взялся за хозяйство, стремясь наверстать упущенное. Но лишь гораздо позже, в колхозе, обрел он то, к чему тянулся всю жизнь. Сытно, зажиточно стала жить семья, укрепилось и расцвело колхозное хозяйство, и уж никого в селе не тревожил завтрашний день.
Остап Григорьевич постоял у плетня, прикидывая размеры урожая, ожидаемого в колхозе. И хлеба и фруктов будет вдоволь. Электростанцию теперь должны достроить; прикупить, как требовало собрание, две-три автомашины, племенных быков и йоркширов…
…Позавтракали еще в утреннем полусумраке, на скорую руку. Мать открыла ворота, пропуская Василинку, гнавшую корову на пастбище. Остап Григорьевич выдернул из стрехи свою палку, попыхивая трубкой, пошел на колхозную конюшню Накануне председатель, узнав, по какому делу нужно садоводу ехать на станцию, приказал дать правленческих выездных лошадей.
Над плетнем шумно возились воробьи. Свистящими стаями перелетали они на влажную от вчерашнего дождя дорогу, с озорством прыгали у ног Остапа Григорьевича и уносились прочь.
Из бокового переулка, заполняя улицу, выходило стадо. Коровы брели длинной чередой, разноголосо мыча и тяжело шарахаясь от пастушьих бичей. Над улицей стояли запахи парного молока и навоза.
Остап Григорьевич, пережидая, любовно разглядывал рыжебоких, черноголовых, белых красавиц, разыскал глазами и свою Красуню, важно несшую большие острые рога.
С противоположной стороны улицы Остапа Григорьевича окликнул по-бабьи пискливый голос. Никифор Малынец, низенький, вертлявый почтарь, помахивал над головой конвертом:
– От старшего пришло!
Малынец улучил момент, ловко протиснулся сквозь стадо к Остапу Григорьевичу.
– Битте, – сказал он, протягивая письмо.
– Как?
– Битте, говорю. Это «пожалуйста» значит.
– Ты все по-немецкому шпаришь, – Остап Григорьевич улыбнулся одними глазами.
На германском фронте он служил с Никифором в одном полку. Малынец попал в плен и два года работал у прусского помещика. Неизвестно, как ему там жилось, но дома, в Чистой Кринице, он всячески превозносил хозяйство помещика, электрические поилки и кормушки, кстати и некстати уснащал свою речь немецкими словечками, и в селе считали его человеком пустым и недалеким.
Остап Григорьевич повертел в руках голубой с темной каемкой конверт и бережно положил его в карман.
– Дома почитаем.
Почтарь чиркнул спичкой, раскуривая погасшую цыгарку, осведомился:
– Петро Остапович ваш как… погостевать приедет или совсем?
– Это уж как там его академия порешила, – сдержанно ответил Остап Григорьевич. – Ему сейчас пути нигде не заказаны. Понял? Хоть в Киеве, а хоть в самой Москве, скрозь пройдет.
– Образова-а-ние! – Никифор многозначительно поднял палец. – Его за плечами не носить.
Он поправил ремешок от сумки, шевельнул картузом:
– С тем до свидания. Аухвидерзейн.
– Иди здоров.
Остап Григорьевич замахнулся палкой на игривого бычка, отставшего от стада, и зашагал к правлению.
Перед выездом на станцию он завернул домой, за сынишкой.
– Ну, старая, – сказал он жене с порога, – еще один сын объявился. От Ванюшки письмо.
Катерина Федосеевна остановилась с чугунком в руках.
С семьей и с Чистой Криницей старший сын расстался давно, с тех пор как призвали в армию, на действительную службу. В памяти матери он остался скромным и почтительным с родителями, но властным и настойчивым среди сверстников, которые охотно признавали его вожаком и на гулянках и в работе.
Письмо от него было коротенькое, содержало главным образом приветы семье и знакомым. В конце Иван объяснял, почему пишет мало:
«…Надеюсь, дорогие мать и отец, скоро повидаться с вами. Мне обещали отпуск, и мы с женой и сынишкой Витькой обязательно нагрянем в Чистую Криницу. Надо же познакомиться вам со своей невесткой и внучонком. Он у меня боевой, весь в деда.
Вчера мне присвоили звание подполковника, так что выпьем с тобой, тато, и за встречу и за все сразу.
Ваш Иван»
– Слышишь, старая? – почтительным шепотом произнес Остап Григорьевич. – По прежним временам – ваше высокоблагородие. Вон куда наш Ванька махнул!
Катерина Федосеевна, взяв письмо, сама перечитала его. Молодо заблестевшими глазами она посмотрела на мужа:
– Скорей бы приезжал! Это ж они с Петром теперь повидаются. А вдруг снова не приедет?
– Должен приехать, – молодецки расправляя усы, успокаивал Остап Григорьевич. – Разве дела какие задержат.
– Хоть бы трошки дите его понянчить, – вздыхая, проговорила Катерина Федосеевна. – Совсем откололся от дому.
– Там дел хватает, говорю. Читала ж? Подполковник!
– Оно, может, и так, – нерешительно возражала Катерина Федосеевна. – А для матери он всегда дитем останется. Кому он большой начальник, а мне Ванюшка.
– Ты ж, гляди, с обедом тут…
Остап Григорьевич спрятал письмо в карман и пошел к бричке. Сашко́, блистая новой сатиновой рубашкой и поминутно оглядывая синие, под ремешок, штанцы, гордо держал вожжи, покрикивал на коней….
V
Петро лежал на верхней полке и, облокотившись, смотрел в окно. Стекло было опущено; в вагон врывались смешанные запахи угольной гари и полевых трав, пригретых июньским солнцем.
Паровоз то замедлял ход на изгибах дороги, то вдруг, пронзительно свистя, стремительно мчался, раскачивая вагоны, и тогда телеграфные провода за окном взмывали к белым чашкам на столбах, резко опускались, вновь тянулись кверху.
Петро смотрел на игру проводов, курил и рассеянно слушал голоса пассажиров, споривших о чем-то с самого Бахмача. На соседней полке лежал с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками его товарищ Михаил Курбасов.
– Ты не спишь, Михайло? – спросил Петро.
– Нет. Хорошо едем. Быстро, – сказал Михаил, не открывая глаз.
Петро кивнул головой.
– Часа через три буду дома.
Он свесился с полки и прислушался к словам старичка, который донимал своего собеседника – майора.
– Вы вот говорите, общение с ними полезно. Культура, техника и тому подобное. Не спорю, Бетховен, Гёте – величины. А вы все-таки, батенька мой, загляните в историю.
– Что же? – возразил майор. – Выходит, по-вашему, все надо зачеркнуть? И то, что было хорошего у немецкого народа до прихода нацистов?
– Эх, какой вы! – горячился старичок. – Я, милый человек, тридцать два года историю преподаю. Согласен с вами: в Германии культура высокая. А позвольте спросить: что, ее, эту культуру, нынешнее правительство создавало?
– Не нынешнее.
– То-то! Уверяю, фон Шуленбург сидит в Москве не затем, чтобы декламировать стихи Гейне.
– А Гейне все равно найдется кому читать и в Германии.
Это сказал Петро. Он быстро спрыгнул с полки.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил старичок.
– Фашисты могут сжигать на кострах книги великих поэтов и мыслителей, но они бессильны против их идей.
Петро застегнул косоворотку, посмотрел на собеседников.
Был Петро невысок ростом, но крепко сбитый, кряжистый – в отца. Крутой большой лоб, прикрытый чубом, энергичные сочные губы, румянец, пламенеющий под смуглой кожей, дышали юношеской свежестью. Глаза, темные, большие, светились тем живым, задорным блеском, какой бывает у людей, уверенных в себе.
– Убежден в том, что фашизм никогда не убьет великих революционных традиций немецкого народа, – сказал Петро, глядя в упор на старичка. – Рано или поздно прогрессивные силы восторжествуют и в Германии.
– Это уже, батенька, вопрос совершенно другой, – возразил старичок.
Майор щелкнул крышкой серебряного портсигара, но не закурил. Он вертел в пальцах папироску, раздумывал.
Поезд, замедлив ход, тормозил у станции. Старичок прихватил чайник и поспешил к выходу.
– Выйдем, разомнемся, – предложил Михаил Петру.
– Давай.
Друзья вышли в проход вагона и остановились у окна. Михаил, посторонившись, чтобы пропустить девушку, шедшую из купе, спросил:
– Уже сходите, молчунья?
– Нет. Надоело сидеть.
Девушка постояла и пошла из вагона. Михаил с усмешкой развел руками:
– Постарели мы с тобой, братец. Даже завязать знакомство с девчонками не способны. Раньше это ловко получалось. Нет, стареем, стареем… Вуз позади. Студенческие годы уже никогда не вернутся.
– Послушал бы тебя мой батько! Ему скоро шестьдесят, а он только жить начинает… Планы большие строит… Учиться еще хочет.
Поезд тронулся.
Мимо плыли белые хаты, сады, огороды. Петро смотрел на тени облаков, скользившие вдоль дороги, на коричневые стволы сосен, то приближавшиеся к самому поезду, то отбегавшие прочь.
С каждым мгновением расстояние до Чистой Криницы становилось все короче, а Петру до сих пор не верилось, что он скоро будет дома. Разлука с семьей, с родным селом была долгой, и свое возвращение он ощущал сейчас как очень серьезное событие. Петро закрывал глаза и старался представить себе отца, сестер, мать. Но они возникали в памяти такими, какими были три года назад. Он подумал о том, что ни с кем в семье не сможет поспорить о вещах, которые стали для него привычными: о театральной премьере, о новой книжке, новом фильме. И тут же возразил себе: «Что ж… в Чистой Кринице за эти годы росла своя культура. Отец писал не раз о новых сортах яблонь, которые выращивает колхоз по методу Мичурина. Сестра Ганна добилась рекордного урожая в своем звене. В селе собирались пустить электростанцию, приобрели киноустановку…»
Петро вспомнил, как он, будучи секретарем комсомольской организации, всегда стремился работать так, чтобы его село было передовым, мечтал об электрическом свете во всех хатах, о богатых фруктовых садах в каждом дворе. Он немало сделал раньше, а сейчас, возвращаясь специалистом, агрономом, сумеет дать своему селу еще больше. Он вложит всю страсть и пыл, живой огонь в дело, ради которого провел лучшие свои годы в студенческих аудиториях и библиотеках, ради которого отказывался от свидания с родными, с любимой девушкой.
Петро с огорчением подумал о том, что он последнее время редко и скупо писал Оксане. Время не отдалило ее от него, она по-прежнему была ему дорога. Стремясь поскорее встретиться с ней, он одним из первых сдал государственные экзамены, в Москве не задержался ни одного лишнего дня.
Петро почувствовал, что Михаил пристально смотрит на него, и с улыбкой спросил:
– Ты что так уставился?
– Расходятся наши пути-дорожки, милейший.
– Писать мне будешь?
– Напишу. Да тебе, верно, не до меня будет.
– Почему?
Михаил хитро прищурился.
– Сознайся, – сказал он, – теперь уж скрывать тебе незачем. Ты из-за Оксаны своей отказался от аспирантуры?
– Нет. Не из-за нее.
– Еще пожалеешь, что отказался.
– Что жалеть? Ведь я сам просил послать меня в село.
– Все-таки Чистая Криница не Москва. Заглохнешь.
– Чепуху говоришь, Мишка! У нас в селах есть дивчата… Они дальше районного села нигде не были. А о них в Москве труды пишут… В Чистой Кринице есть своя эмтеэс, электростанцию строят…
– Так-то так…
– Почему же это я должен заглохнуть?
Скуластое, с насмешливыми глазами лицо Михаила стало сосредоточенным. Подумав, он сказал:
– У какого-то писателя я читал, что люди созданы не для того, чтобы отъедаться у корыта. Они должны скитаться по дорогам, бродить по лесам, вечно искать новое, интересоваться всем.
– Беспризорничать?
– Зачем так вульгарно, профессор?
– Что же ты хочешь этим сказать?
– Ты даже не поездил по стране, не знаешь ее богатств.
– Есть, Михайло, человеки, которые ничего за положенный им век не дают, а хотят взять от жизни как можно больше. А?..
– Имеются такие.
– А я не желаю быть таким. Скитаться, смотреть, любоваться очень интересно. Ого-го! В нашей стране есть на что посмотреть! А я хочу, чтобы и Чистую Криницу не объезжали. Понял? Хочу, чтобы восхищались ее садами, богатством.
Петро глядел на товарища вызывающе, готовясь спорить, но Михаил только повел плечами и замолчал.
А Петру хотелось высказать все, что было у него на душе.
– Ты вот сказал, люди должны всем интересоваться, – продолжал он. – Согласен… Но разве для этого обязательно странствовать? Мне везде интересно. Если по-настоящему любишь жизнь, всюду найдешь столько впечатлений, столько больших и маленьких радостей! Есть мудрая поговорка, – все больше загораясь, продолжал Петро – «Дорогу осилит идущий». Слыхал? У каждого из нас своя дорога, но мы все идем к одной цели – к счастью. И путь этот – не гладкое шоссе, Мишка… Не раз себе шишки набьешь, пока дойдешь. Но если ты твердо решил дойти, разве ты остановишься перед чем-либо?! Если я понял всем своим сердцем и умом, что мое счастье – в счастье и радости моего народа, должен ли я, вернее – могу ли стремиться туда, где только мне будет лучше, спокойнее?
Друзья, увлекшись разговором, не заметили, как поезд подошел к Богодаровке. Петро стал вглядываться в лица людей, стоявших на перроне.
– Вон мой старикан! – воскликнул он, схватив Михаила за плечо.
Остап Григорьевич еще не заметил сына, но уже расправлял горделивым жестом усы, взволнованно покашливал, широко шагая вдоль вагонов.
VI
Василинка много раз выбегала к воротам и вглядывалась в конец улицы. Потеряв терпение, она вприпрыжку побежала в хату.
– Нема, – со вздохом сказала она матери. – Татка нашего только за смертью посылать.
– Ты в своем уме, доню? – возмутилась мать. – Про батька такое болтаешь..
Она говорила строго, а сама в душе любовалась нарядной дочерью. Лучистые карие глаза Василинки даже потемнели от нетерпения.
– И до завтра нехай не приезжают! – Она фыркнула. – Км! Паны большие! Выглядывай их с самого ранку.
Спокойствие покинуло давно и Катерину Федосеевну. Она бесцельно бродила от стола к печке, вновь принималась наводить порядок в шкафчике, без нужды переставляла посуду.
В хате – как на троицу: свежие, только утром срубленные ветки клена выглядывали из-за чисто вымытых скамеек и наличников окон, свисали с балок, потолка. От влажной травы, любистка и мяты, устилавших свежесмазанный глиняный пол, было прохладно, как на лугу после заката солнца.
Перед обедом забежала замужняя дочь Катерины Федосеевны, Ганна:
– Не приехал еще?
– Где-то пропал батько.
Ганна присела на скамейку, вытерла уголком косынки лицо.
– Ну испечет. Опять дождя сегодня нагонит.
– Нехай нагонит, – откликнулась мать. – Житам и огородине акурат на пользу. А ты с работы?
– С работы.
– Проверяете бураки?
– Подрыхляем. Там после дождя такая корка! Прямо запарились.
У Ганны заметно выдавался под белым опрятным фартуком живот. Однако беременность не тронула ее миловидного лица, с тонкими, словно нарисованными углем, бровями и с ямочками на щеках.
Василинка придвинулась к сестре, обвила рукой ее пополневший стан.
– Раздобрела ты, Ганька, – шепнула она, щекоча ухо сестры с большой серебряной серьгой. – Скоро будешь как баба Харигына.
– Ганько, а от Ванюшки нашего письмо пришло, – сообщила мать.
– Правда? – вскинулась Ганна. – Что пишет?
– Обещает приехать, – затараторила Василинка. – С жинкой своей и с Витькой.
Она вдруг вскочила, побежала в другую комнату и тотчас же вернулась с небольшим свертком.
– Эх, пташка не без воли, а казак не без доли, – произнесла она с лихим видом. – Похвалюсь тебе, сеструнько, что мне тато подарил.
Головы сестер склонились над отрезом розового крепдешина.
– Любит тебя батько, – с легкой завистью сказала Ганна. – Славная кофточка выйдет.
– Это за отметки в школе, – сказала Василинка. – Кругом «отлично».
Ганна заторопилась домой, кормить мужа обедом.
Василинка пошла ее проводить. Они уже подходили к площади, когда из переулка вынесся на коне Алексей Костюк. Он завернул к ним, круто осадил своего мохнатого припотевшего маштачка.
– Тю, дурной! – вскрикнула Василинка, стряхивая с платья комья земли. – Чего на людей наскакиваешь?
– Я не я, а коняка моя, – засмеялся Алексей. – Петро приехал, сеструшки?
– Батько поехал за ним, – ответила Ганна. – Ты с бригады, Леша?
– Оттуда. Там идет твой Степан с ребятами. Чарочку к обеду готовь. Он сегодня всю норму свою отгрохал.
Алексей, сверстник и школьный товарищ Петра, работал два года на тракторе, а этой весной его назначили механиком криничанской МТС, чем он немало гордился. Даже немногие старые трактористы так хорошо знали машину, как он.
– А зачем тебе Петро? – недоброжелательно спросила Василинка.
– Здорова была, кума, – обиделся Алексей. – Что ж, он не дружок мне был?
– Был…
Василинка вовремя спохватилась и замолчала. Неприязненно взглянув на Алексея, она отвернулась и побежала домой.
С ближних полевых участков шумно прошли на обед полольщики, проехал на своей бричке почтарь Малынец, всегда возвращавшийся с почты в час дня, а отца с Петром все не было.
VII
От станции Остап Григорьевич горячил коней батогом, держал на рыси, а перед Каменным Бродом, передавая Сашку́ вожжи, сказал:
– Нехай идут шагом. Поспешать нам некуда. Акурат к обеду доберемся…
Он давно приметил, с какой жадностью Петро разглядывал знакомые места, и это радовало старика. Втайне Остап Григорьевич побаивался, что сын его, как это случалось с другими, после долгого отсутствия будет чувствовать себя на родине чужим. Однако Петро так нетерпеливо расспрашивал про домашние дела, про село, что отец успокоился.
Тени от придорожных кленов и тополей уже потянулись через шлях, когда кони вынесли бричку на взгорье и перед глазами Петра раскинулась Чистая Криница. Он даже привстал. Стиснув пальцами плечо братишки, вглядывался в дорогие сердцу очертания села.
Над хатами и садками повисла огромная сизая туча. Выбившись из-под ее крыла, солнце зажгло синим пламенем сосновый бор за селом, позолотило соломенные крыши. На дорогу упали редкие тяжелые капли.
В просветах среди верб и сосен блеснула полоска Днепра я исчезла в красноватых песчаных холмах. На бугре, за редкой кисеей дождя, три ветряка. К ветрякам этим, на вытолоченный бурый выгон, сбегалась, бывало, по вечерам мальчишечья орава, обсуждала свои дела, а затем, замирая, слушала всякие «страшные» истории, которые любил рассказывать старый мельник, дед Довбня.
Показался ряд новеньких столбов, выстроившихся вдоль улицы.
– Электростанцию пустили? – спросил Петро.
– Трошки работы осталось. Обещают к осени пустить.
– Хочется скорей на плотину взглянуть… Вообще посмотреть на все…
Петро жадно искал глазами высокие ели над крышей родной хаты.
– Соскучился за домом? – понимающе глядя на сына, спросил Остап Григорьевич.
– Как же не соскучиться! – сказал Петро.
– Три года… – задумчиво произнес Остап Григорьевич, – это не три недели… Неужели не мог хоть разок наведаться?
– Вы же знаете, я писал вам, – оправдывался Петро. – Последние три года все каникулы – в Мичуринске. Как будто меня околдовал кто… Мы там с одним научным сотрудником опыты затеяли. Зимой думаю: «Ну, съезжу летом домой, проведаю своих». Скучал сильно. А лето подойдет – и домой хочется съездить, и на работу свою не терпится взглянуть. Я же там, в Мичуринске, многое почерпнул. Не только для себя. Чистой Кринице помогу.
Сашко́, внимательно слушавший брата, обернулся:
– Мать плакала, что ты не хотел домой приезжать.
В памяти Петра вдруг ярко возник давно позабытый им день тридцать шестого года, когда его провожали в Москву. Мать наполнила большой мешок под самую завязку всякой домашней снедью, гостинцами и с трогательной наивностью советовала непременно «угостить» будущих учителей и товарищей. Отец посмеивался над нею: «Ты ему торбу полотняную для книжек нацепи, как школяру цепляла…»
Лошади почуяли на припотевших боках свежий ветерок, побежали резвее. Через несколько минут первые хаты села, показавшиеся Петру почему-то маленькими и низкими, остались позади.
Во дворах, за плетенными из лозы тынами, хозяйки убирали к вечеру скотину, возились подле прикладков сена, – волнующе знакомая Петру с детства бабья суета.
Кони шли бойко, и Петро еле успевал разглядывать знакомых людей, кланявшихся издали. Прервав работу, они долго смотрели из-под ладоней вслед повозке, голосисто перекликались через улицу.
На повороте к площади через дорогу шла с ведрами на коромысле девушка. Она прибавила шаг, торопясь перейти путь едущим. Придерживая, рукой раскачавшееся ведро, девушка обернула к бричке улыбающееся лицо. Из-под яркого платка блеснули в озорной улыбке большие глаза.
– К удаче, – довольно заметил Остап Григорьевич. – С полными ведрами.
– Это чья такая? – спросил Петро.
– Нюська Костюковых, – в один голос откликнулись Остап Григорьевич и Сашко́.
– Нюся?! – удивился Петро и еще раз оглянулся на девушку.
– Она теперь в звене у нашей Ганьки, – важно пояснил Сашко́. – У сестры ее, Мелашки, прошлый год на масленую свадьбу гуляли.
Петро ласково потрепал братишку по плечу. Поощренный этим, Сашко́ выпалил:
– Оксана, наверно, тоже скоро свадьбу отгуляет с Лешкой.
– Брось языком молоть! – прикрикнул на него отец. – Чего не в свое дело встреваешь?
– Чего я мелю? – обиделся Сашко́. – Все говорят.
Петро ощутил, как лицо его стало пунцовым. Он невольно повернулся к садкам, где за белым шатром цветущих акаций виднелась черепичная кровля Оксаниной хаты. Отец перехватил взгляд Петра и снова обрушился на Сашка́:
– Ты, курячий сын, чего не знаешь, никогда не встревай! Сколько раз я тебе говорил! Без тебя нигде не обойдутся.
Лошади свернули в переулок, ведущий к Днепру. За несколько дворов до родной хаты Петро заметил, как от калитки стрелой метнулась во двор дивчина. Ганна? Или Василинка? – силился отгадать он. Но раздумывать над этим уже было некогда: кони, всхрапывая и переступая ногами, остановились у ворот.