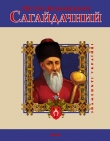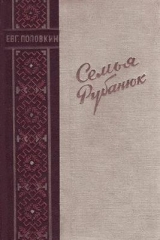
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 59 страниц)
Зерно сыпалось… Раньше в Чистой Кринице до этого никогда не допустили бы, а сейчас женщины, проходя мимо, только пересмеивались:
– Нехай Микифор со своим Бандутой рачки полазают по земле, насобирают для немчуков…
В «десятидворке» Варвары Горбань молодицы подобрались особенно боевые и дерзкие. Пока маячил где-нибудь невдалеке полицай с велосипедом, они для виду кое-как копошились. Но стоило ему отлучиться на другой участок и скрыться за взгорком или в лощине, как тут же кто-нибудь из женщин командовал:
– Сади-ись! До вечера еще далеко…
На третий день косовицы в степь пришла Пелагея Девятко. Ей как-то удалось не попасть ни в одну из «десятидворок». Поэтому встретили ее приход с добродушным удивлением.
– Чего это вы, тетка Пелагея, хату покинули? – спросила за всех Варвара. – Без вас тут не управятся? Идите себе домой!
Микифор, щоб он склзыпся! Сегодня чуть спет прибегает полицаями: «Ступай да ступай снопы вязать, а то и Богодаровку отправлю».
– Ну, садитесь, отдохните…
– Ничего не слыхать про вашего Кузьму Степановича? – участливо спросила одна из женщин.
– Ох, бабоньки, кто ж про него что скажет? И спрашивать боишься.
– Замордовали людей, паразиты! – зло сказала Варвара. – Ну, придет им, собакам, конец!
– За два дня вот это только и наработали? – спросила Пелагея Исидоровна.
– А мы помалу… Как нитка с валу, – смеясь, ответила Варвара. И тут же с возмущением добавила: – Руки и на такую работу не хотят подниматься. Разве при Степановиче… разве на колхоз мы свои силы жалели когда?!
Все глядели на Пелагею Исидоровну молча и вопросительно, словно ждали, что она скажет что-то значительное, чего они давно не слышали. Все же она была женой председателя колхоза, и с именем Кузьмы Степановича сейчас связывалось все, о чем тосковали эти люди.
Но Пелагея Исидоровна, поправив свои темные косы, в которые уже вплелись серебряные паутинки, посмотрела на женщин глазами, утратившими прежний молодой блеск, и устало произнесла:
– Степанович тоже сил своих не жалел. Бывало, и обедать не докличешься. Все по-научному хотел повернуть. Сидит, бывало, над газетами до вторых петухов… Я уж и костила его и добром упрашивала. Сидит, смеется…
– Что говорить! – сказала Варвара со вздохом. – Уважительный человек. А эти… Ходят, как басурманы, понадувались… Тьфу! К Збандуте и не доступишься, такого великого пана из себя строит.
– Велик пень, да дупляст.
– Староста грозился сегодня сюда прийти, – сказала Девятко.
– Мы его в косарку заместо бычка впряжем, – вставила Степанида, коренастая, плоскогрудая молодайка, племянница колхозного мельника Довбни.
– Сказал: «Все идите на степь, дуже большую радость приду объявлять», – пояснила Пелагея Исидоровна.
– Знаем мы эти радости, – махнула рукой Варвара. – Не иначе, немцы опять похваляются… Если б он пришел да сказал: «Бабы, хлопцы ваши возвращаются», во!..
– Ему радость с этого будет маленькая.
– Где-то теперь наши хлопцы? – произнес кто-то, протяжно вздохнув.
– Я от дочки своей, Настуньки, письмо получила, – сообщила Пелагея Исидоровна. И от Василинки пришло две открыточки.
– Что пишут?
– А вот, почитайте… – Она расстегнула кофточку, извлекла из-за пазухи открытки и протянула одну из них Варваре. – Это Василинка, свахи моей дочка, пишет.
– А ну, слухайте, дивчата, – сказала Варвара. – Да поглядывайте, не видно собак?
Она уселась на валок ржи, упершись ногами в горячую, пересохшую землю, вытерла пальцами уголки потрескавшихся губ.
– «…Здравствуйте, моя дорогая матусенька! Что же вы молчите, ничего мне не отвечаете? Я вам уже десять открыточек послала, а от вас получила только одну…»
– Она и не знает, что мать забрали?
– Помолчи! Откуда ж знать ей?
«…получила только одну. Работали мы в саду. Когда сказали: „Василинка, тебе письмо“, я не знала, как и бежала за этим письмом. А это письмо от моей роднюсенькой матери. Я вас каждый день вспоминаю, и как придет воскресенье, то только лежу и плачу… Но вы, мама, обо мне не печальтесь, потому что там, где я и Настунька, миллионы народа, так что мы не одни в беде застряли. Погода у нас хорошая, да только часто хмары налетают, и дожди очень большие идут…»
– Это наши на них бомбы кидают, – уверенно сказала Степанида. – Малашка Бойченкова тоже все время про дожди отписывает…
– Настунька еще точней пишет, – сказала Пелагея. – На, читай, Варька… Вот с этих строчек читай…
«…Немцы сейчас женятся, музыка играет, аж земля трясется. Тут у нас чутка есть, что с Харькова уже „идут“. Ой, мамочка, когда же мы дождемся того времени, чтобы домой идти?»
– Ты дальше читай, – потребовала Девятко. – Она еще точней пишет.
«…Мама, к зиме ожидайте „гостей“. Верно, через год и я приеду до вас, только не в гости, а навсегда…»
– Бабоньки! – воскликнула Варвара. – Надо ждать гостей! Убей меня бог! Все наши парубки и дивчата про одно и то же пишут. – Поведя глазами вокруг, она встала, коротко бросила: – Давайте вязать! Видите, пылюка на бугре поднялась. Несет какого-то нечистый…
Женщины, завязав лица платками от солнца, разошлись по загонке.
Полицай пронесся на велосипеде мимо, издали угрожающе помахивая резиновой палкой:
– Вот я до вас вернусь! Празднование себе устроили…
Тьфу на тебя, пьянчужка, плюнула ему вслед Степанила и со злостью ухватила грабли.
Солнце стояло уже высоко. Нещадно палили прямые, знойные лучи.
Работали молча. Вязали скошенное накануне стариками, лениво стягивали в крестцы. В реденьком, низком жите без звучно пробегали полевые мышата, на меже и проселочной дороге столбиками маячили разжиревшие, как амбарные коты, суслики.
Малынец приехал в полдень на одноконной бедарке. Покряхтывая, слез, пустил кобылу пастись к меже и, вытерев с лица пыль, подошел к вязальщицам. Постоял, посмотрел.
– Обедали?
– Мы мечтали, что нам пан староста привезет чего поесть, – сказала с иронической усмешкой Варвара.
– Кгм… Это ж с каких-таких радостей?
– Самый завалящий хозяин всегда своих работников харчевал.
Малынец взглянул на нее исподлобья, сумрачно сказал:
– Садитесь… Я вам новости расскажу. – Он извлек из кармана сложенный номер «Голоса Богодаровщины», развернул. – Так вот, слухайте… Тут эта… диклорация…
– А что оно такое?
– Стой, не перебивай! Прочитаю – поймешь… – Малынец, сосредоточенно посапывая, разыскал в газете нужное место: – Вот… для восточных областей Украины. Подписал… этот… постой… От имени германского правительства подписана райхсминистром Розенбергом. Третьего июля тыща девятьсот сорок третьего года.
– Чего там он брешет?
– Но, но! Я тебе побрешу! Тут про частную собственность писано. Вся земля вам у чаственность переходит, как до революции. Бери, сей, паши… Без никаких колхозов, стало быть… – Малынец обежал глазами потупленные лица женщин. – Вы, дуры, вижу, не понимаете? Вам немцы землю в собственность дают, а вы молчите.
– Они что же, привезут нам землю из Германии? – с невинным видом спросила Степанида.
– Обратно дура!. А вот это что тебе? Плохая земля?
– Эта? Здо-орово! Она ж колхозная.
– Была колхозная, а теперь наша, крестьянская.
Варвара, загадочно поблескивая глазами сквозь щелочки желтого, под масть волосам, платка, звонко произнесла:
– Дядько Микифор… Извиняюсь, пан староста, можно вопрос задать?
– Подожди… Про землю все понятно?
– Понятно.
– Ну, давай вопрос.
– Что это у нас такая погода стоит тихая, в из Германии пишут, дожди да дожди… Гроза все время, аж земля трясется. Климат переменился или как?
Малынец дернулся.
– Ты агитацию не пущай! Я тебя насквозь вижу.
– При чем тут агитация? – возмутилась Варвара.
– Про погоду спрашивает, а вы сразу… агитация, заступились за нее женщины.
– Сказать ничего нельзя!
– Если неправильно что спросила, так вы поправьте, – поучала Варвара, – а не запугивайте. Мы до этого непривычные…
– А ну, тише! – прикрикнул Малынец.
– У меня был тоже вопрос, а теперь боюсь, – сказала Степанида. – Раз вы такой обидчивый.
– Давай твой вопрос, – разрешил Малынец снисходительно.
– А обижаться не будете?
– Чего мне на тебя обижаться? Сноха ты мне, что ль?
– Вы вот, когда в Германию наших дивчат и хлопчиков присоглашали, говорили: «Пускай едут, культуры набираются. С вилочек, ножичков будут есть», – говорили?
– Ну, говорил.
– А вот один парубок письмо прислал: «Передайте, пишет, что, когда вернемся домой, кой-кому этими вилочками глаза повыкалываем…»
Дерзость Степаниды была столь неожиданной, что женщины посмотрели на нее испуганно. Некоторые приглушенно прыснули.
Малынец хотел что-то сказать, но только раскрыл рот.
– Ему сумно[27]27
Сумно – грустно (укр.).
[Закрыть], – пояснил кто-то явственным шепотом.
Сердито махнув рукой, староста поковылял к своей бедарке.
– А ну, давай вязать! – крикнул он, оглянувшись. – Расселись!
– Ой, дивчата, горя наживете себе, – сказала Пелагея Исидоровна, когда он отъехал. – Напишет в Богодаровку, что вы ему сделаете?
– Не напишет! – пренебрежительно сказала Варвара. – Все одним духом живут. Сидите, дивчата, мы зараз песню заспиваем.
– Тетка Палажка, – попросила Степанида, – заведите ту, про дивчат, что в Неметчине бедуют…
Девятко подперла щеку ладонью, неуверенно запела:
Ой, высоко, высоко
Клен-дерево от воды…
Женщины подхватили:
Ой далеко, далеко
Ридна матир от дочки…
Низким и мягким, будто созданным для скорбных песен голосом Пелагея Исидоровна пела:
Тоди маты згадае,
Як обидать сидае,
Тоди вона спомяне,
Як ложечки роздае…
Бесхитростная, сложенная самими матерями песня плыла над пустынной, безрадостной степью, и лица женщин темнели, словно черная туча набрасывала на них свою тень…
Одна лышняя ложечка,
Ой, десь наша донечка.
Ой, десь наше дытятко,
Як на мори утятко…
Варвара порывисто стянула с головы платок и уткнулась лицом в жесткую солому: меньшая сестра ее погибла в Германии, выбросившись на ходу из поезда. Заплакала и Степанида. Два брата ее были угнаны в Неметчину.
Плыве утя тай кряче,
Ой, десь наше дытя плаче,
Плыве утя тай голосыть.
Там дочка, в Неметчыни, хлиба просыть.
Не дай, боже, заболить,
То й никому пожалить,
Не дай, боже, помирать,
То й никому поховать…
Песня давно смолкла, женщины, наплакавшись, вытирали глаза, а Пелагея Исидоровна еще долго сидела на земле, беззвучно шевеля губами, уставив горестный взгляд в одну точку.
В обед она вместе с двумя другими женщинами собралась идти в село, но на бугре появилась вдруг фигурка Сашка́. Медленно ступая по дороге, он осторожно держал что-то в руке. Когда Сашко́ подошел ближе, Пелагея Исидоровна воскликнула:
– Боже ж ты мой! Обед несет!..
Сашко́ поставил чугунок, завязанный чистой тряпочкой, вынул из кармана ложку.
– Зачем же ты принес? – спросила Пелагея Исидоровна с ласковой улыбкой. – Я тебе ничего не говорила.
– Так вы же голодные?
– Сам в печь полез?
– А кто ж?
Пока Девятко угощала женщин борщом, Сашко́ сидел в сторонке, внимательно следил за возней сусликов. Хотелось ему за ними погоняться, но он сдержался, только прутик в его руке чаще бороздил сыпкую, рыхлую землю.
Когда, забрав посуду, он снова пошел в село, Пелагея Исидоровна, провожая его взглядом, сказала:
– Хотя б, дал бог, довелось ему своих батька и матерь повидать. Так он за ними бедует! Тихонько поплачет, а подойдешь: «Что с тобой, Сашко́?» – ничего не скажет. Нравный хлопчик!..
XIII
Всякий дом хозяином хорош…
После того как эсэсовцы угнали из Чистой Криницы неведомо куда Катерину Федосеевну и Пелагея Исидоровна забрала к себе Сашка́, совсем осиротела рубанюковская усадьба.
Грустная печать запустения лежала на всех ее уголках. Кто-то из соседей заколотил окна и двери пустующей хаты, завязал проволокой калитку и ворота. Давно не беленные стены облупились, завалинка стала осыпаться, тропинки в сад и на огород позарастали лопухами и лебедой.
Много таких осиротелых дворов осталось в Чистой Кринице к лету 1943 года. Много людей угнали фашисты из села. Все наиболее энергичные и сильные, не пожелавшие поступиться своим достоинством и свободой, либо ушли в леса партизанить, либо были схвачены и угнаны в концлагери, расстреляны.
Неузнаваемо переменилась жизнь в некогда цветущем колхозном селе. Словно какой-то опустошительный смерч прошел над его просторными и светлыми хатами, тенистыми садами, златоцветными полями и левадами. Гитлеровские оккупанты отняли у людей не только их землю, имущество, но и право жить и свободно трудиться.
Как о невероятном, почти сказочном, вспоминали сейчас в каждой криничанской хате о самом обыденном, что было в колхозе до вторжения гитлеровцев: о дружной и радостной работе, о бригадах, звеньях, соревновании, премиях, звонких песнях, веселом смехе молодежи на улицах по вечерам, о школе, радио, библиотеке.
Не собирались по вечерам на дубках юные дивчата и парни: тяжкие вести о них доносились до родного села из фашистской неволи.
Только и жили криничане тайной надеждой: не может так долго продолжаться! Вернется же когда-нибудь своя, родная, желанная советская власть.
…После того как оккупанты вынуждены были ранней весной 1943 года снять в Чистой Кринице свой гарнизон и спешно бросить на фронт, куда-то к Белгороду, в селе стало дышать несколько легче. Эсэсовцы из Богодаровки хоть и приезжали сюда частенько, но власть в селе представляли теперь только Малынец и кучка полицаев, а от них в случае чего можно были и откупиться: взятки и магарычи полицаи брали не таясь, как должное.
Пелагея Девятко, ничего не знавшая о судьбе мужа, отнесла как-то, по совету соседок, магарыч старшему полицаю Павке Сычику, прося его навести в районе справки о Кузьме Степановиче, Катерине Федосеевне и ее невестке. Сычик только и смог узнать, что арестованных криничан угнали куда-то за Днепр, а куда именно – не знал даже бургомистр Збандуто.
…Пелагея Исидоровна окучивала у себя на огороде картофель. Она прошла уже несколько рядков, разогнулась, чтобы счистить землю с тяпки, и в эту минуту увидала около своей хаты Варвару Горбань.
– Ты меня ищешь, Варя? – окликнула она ее. Варвара, на ходу поправляя выбившиеся из-под косынки волосы, быстро направилась к ней.
– С новостями до вас, тетка Палажка. Дед Кабанец домой пришел…
– Где его черти носили?
– Вы разве не знаете? Он же был заарестованный. Еще зимой… Неужели не слыхали?
– А где ж я бываю, чтобы слыхать?
– Был, был заарестованный. Его за слово посадили. Словцо сказал одно при Пашке, полицае… Я почему сразу до вас побежала? Дед, наверное, про Кузьму Степановича знает. Я хотела его расспросить, так он домой поспешал.
Девятко смотрела на Варвару, раздумывая, потом решила:
– Надо пойти порасспросить, хоть и не люблю я этого деда… Может, и в самом деле что знает.
– Пойдем, – поддержала Варвара. – Оттуда я уже до свекрухи своей подамся. Зерна ей трошки натолку.
Пелагея Исидоровна позвала Сашка́, мастерившего что-то в сарае с соседскими ребятами, наказала:
– Есть захочешь, в печи борщ стоит. И от хаты никуда не отлучайся.
– А вы куда?
– Побегу тут недалеко.
Уже за воротами Варвара вполголоса сказала, оглянувшись на паренька:
– Сиротинка! Сколько их, несчастных, теперь в селе!..
– Добрый хлопец растет, – сказала Пелагея Исидоровна, вздохнув. – И до всего у него интерес. Что-нибудь такое спросит, я и ответить не знаю как… Был бы батько или Петро ихний…
Она говорила рассеянно, поглощенная мыслями о предстоящем разговоре с дедом Кабанцом. Этот разговор все больше начинал пугать ее. Вдруг дед принес черные вести?
– А за что Кабанец сидел? – спросила она Варвару.
– Пашка на него донос в район писал. Они, значит, зимой, перед рождеством, сидели в компании, пили, Дед магарычевал, чтобы их Гришку в Германию не взяли. Ну, дед подпил, возьми и ляпни: «Эх, говорит, узнал бы кто, как мы кровь защитников наших пропиваем!» Сказал эдак и заплакал… Пашка сразу на карандаш, составил акт: мол, так и так, Кабанец за советскую власть. Послал акт в Богодаровку, деда через неделю и сграбастали…
– Чудно что-то! – задумчиво оказала Пелагея Исидоровна. – Чудно, что такой дед и такое сказал. Про него мой старый говорил: дед Кабанец, дескать, шило воткнет да еще повернет… Вредный характером и до советской власти не дуже прислонялся.
– Теперь и такие вот огляделись, когда под чужой властью да под полицаями походили, – ответила Варвара. – Добрый прошли университет.
Деда они дома не застали, он понес в «сельуправу» какую-то бумажку.
– Да вы подождите, – посоветовала его старшая сноха. – Он ничего и не ел с дороги, скоро вернется…
Пришел старик через полчаса. Он заметно похудел и облысел, одежда на нем была рваная, как у нищего, но держался бодро. Зазвал женщин в хату и, пока старуха наливала ему в огромную миску борща, стал рассказывать:
– Как же, как же, со Степановичем вместе были! Погнали нас становить мост через Днепр, аж около Никополя. Народу там со всех концов света нагнали… И молодых полным-полно, и таких, как я, приспособили. Песок носили, ямы копали…
– Так мой жив, здоров? – нетерпеливо перебила Девятко.
– Насчет здоровья ты ж знаешь… прихварывал. Ну, живой… живой… Там же и Рубанючиха Катря, видал и ее. Как они теперь, не знаю. Я уже с месяц как из того лагеря. Грызь у меня вылезла, так меня и выгнали…
Старик подсел к миске, поднял по привычке руку, чтобы перекреститься, но почему-то вдруг раздумал: почесал переносицу и взялся за ложку.
Пелагея Исидоровна долго расспрашивала о муже и Катерине Федосеевне, потом спросила об Александре Семеновне:
– Вы в Богодаровке сидели в тюрьме… то, может, слыхали про невестку Рубанюков? Иванову жену?
– Я и в Богодаровке вшей покормил, и аж в запорожскую тюрьму, спасибо Пашке, тягали… Невестку эту, про которую спрашиваешь, еще в январе сказнили.
– Как сказнили? – испуганно воскликнули обе женщины.
Пелагея, втайне надеясь, что старик что-то путает, напомнила:
– Молоденькая такая из себя… Шура…
– Да я знаю… Мальчонка у нее в тюрьме помер позапрошлого года… Сказнили ее. На моих глазах…
– Ох ты ж, бож-же ж мой!
Пелагея Исидоровна сидела, глубоко потрясенная известием.
– Это какого числа было, дай бог памяти?.. – вспоминал дед Кабанец. – Третьего или четвертого? Третьего… В Запорожье нас вместе отправляли. Ну, пока вызывали на допросы да расспросы, сидели кто где… Потом в общую согнали… Человек с полсотни. Она меня признала, подходит. «Вы, дедушка, спрашивает, наш, криничанский?» – «Криничанский». – «А мои дела плохи», – говорит, а сама так невесело улыбается. «А что?» – спрашиваю. «Расстреляют меня, – говорит. – То, что жена подполковника, – одно, а тут с оружием примешалось». – «Может, говорю, в концлагерь заберут, на работы какие?» – «Нет, говорит, меня уже и на допросы не вызывают». Ясно, мол, почему. Так, значит, побеседовали мы с нею, а на другой день – тут как тут: выкликают по списку. Вызывают одного, комиссар он был в армии. «С вещами?» – спрашивает. «Нет, без вещей». Вывели во двор, слышим, пальнули из винтовки. Люди кинулись до окон – с общей было видно, что во дворе делается. Глядь, а комиссар уже лежит. Потом другого, третьего… Стоим, смотрим. И Шура эта рядышком со мной стоит, смотрит… Не шевелится, совсем мертвая… Правда, в тот момент я тоже с божьим светом прощался. «Концы», – думаю. Так сказнили человек шешнадцать. Кто тихо смерть принимал, а кто кричал что-то, не слыхать было…
Дед Кабанец поглядел на женщин. Они слушали его в страшном волнении, и он сам вдруг заплакал и несколько минут не мог продолжать. Потом, утерев концом скатерти глаза, досказал:
– Шешнадцать человек сказнили, потом: «Рубанюк!» – вызывают. Гляжу, белая стала, не может от окна отойтить. Ей еще раз: «Рубанюк Александра! Не задерживай!» Пошла… Крепко так пошла… Я не стал глядеть… Потом уже, когда двадцать казнили и вызывать перестали, глянул в окно… Ей пуля, видать, акурат сюда, меж глаз вошла… Крови на лице много, а лоб чистый, белый…
Пелагея Исидоровна ни о чем больше не расспрашивала, торопливо вышла из хаты… Уже за калиткой, прислонясь головой к плечу Варвары, заплакала навзрыд.
Часть вторая
I
Канун 1943 года совпал с событиями, которые доставили полковнику Рубанюку, как и всем советским людям, много радости. Но Ивану Остаповичу казалось, что его личная военная судьба сложилась неудачно.
Почти двенадцать месяцев дивизия находилась на одном и том же участке обороны. Великие битвы шли где-то на других фронтах, на иных военных дорогах.
«Этак, чего доброго, войска и до германских границ дойдут, а мы все будем торчать здесь, в болотах…»
Эта досадная мысль возникла у Ивана Остаповича, когда он, проснувшись рано утром в своей землянке, вспомнил, что до Нового года остались одни сутки.
Вчера, по пути в штаб армии, он мимоходом виделся в медсанбате с Оксаной. Она была чем-то крайне расстроена и сказала, что необходимо поговорить. Но Иван Остапович торопился и пообещал встретиться под Новый год.
Вчерашний разговор с командующим армией расстроил его; генерал категорически отказал в пополнении людьми, хотя положение дивизии было тяжелым. Несколько атак, проведенных дивизией по приказанию штаба армии, не дали успеха.
Удержать свой район обороны Рубанюк, конечно, сумеет, но разве он об этом мечтал! Рухнула возможность осуществить продуманный им план овладения немецким фортом «Луиза», прикрывающим ближние подступы к городу, занятому противником.
Атамась, ступая на носках, внес в землянку охапку поленьев, тихонько сложил подле печки и, покосившись на командира дивизии, увидел, что тот лежит с открытыми глазами.
Щэ тилько пять, товарищ полковнык, – сказал он. – Вы ж в час легли… Спалы б соби.
Рубанюк, не ответив, скинул полушубок, которым укрывался, и стал одеваться.
– «Луиза»! – пробормотал он вслух. – И название же придумали! Дали бы мне три-четыре маршевых роты… Одно воспоминание от этой «Луизы» осталось бы…
– Вы щось казалы, товарищ полковнык? – спросил Атамась, выглянув из-за плащпалатки.
– Не тебе. Приготовь воду!..
Направляя на ремне бритву, Рубанюк вновь вспоминал подробности разговора с командующим. Генерал доказывал, что люди нужнее сейчас на других участках, а когда Рубанюк с горечью заметил, что, может быть, и он, полковник Рубанюк, больше пригодился бы на другом фронте, где хоть что-нибудь путное можно сделать, генерал только засмеялся. «Без нас с тобой немцы здесь заскучают, – отшутился он. – Сиди пока и потихонечку постреливай… Придет наш час…»
«Сидеть и постреливать» – это и было для Рубанюка самым мучительным. Из-за контузии ему не довелось участвовать в боях ни под Москвой, ни на других фронтах, где велись наступательные операции. Иван Остапович ночами просиживал над картой, обдумывая один за другим варианты наступательного боя дивизии, но реализовать свои замыслы ему все не удавалось.
Иногда приезжающие штабные командиры подтрунивали над Рубанюком и его соседями, державшими оборону: «Что ж, и тыльное охранение нужно фронту…»
Ядовитые эти шутки выводили Рубанюка из себя. Бреясь, он вспомнил, как накануне начальник штаба армии довольно прозрачно намекнул, что до весны вообще никаких новых задач перед дивизией поставлено не будет, и посоветовал Рубанюку поосновательней закрепиться…
– Подсобные хозяйства в утеху интендантам завести? – хмуро спросил Иван Остапович.
– И это неплохо, – с невозмутимым спокойствием ответили ему. – Всему свое время….
В штабе явно скрытничали, зная о чем-то, чего командирам дивизии, видимо, знать пока не полагалось. А Иван Остапович хотел определенности, и туманные намеки и обещания только приводили его в дурное настроение.
– Что на завтрак готовить прикажете? – раздался за его спиной голос Атамася.
Ординарец пытливо смотрел в пасмурное лицо полковника.
– А это ты уж сам соображай.
– Повар хотел блинцы с мясом изжарить. Желаете? Или варенички?
Рубанюк покосился на него. Атамась, предлагая его любимые блюда, явно старался поднять настроение своего начальника.
– Командуй сам, повторил он.
– Есть! Мы и того и другого потро́шку…
Атамась, бесшумно ступая валенками, пошел в соседний блиндаж. А Рубанюк, шагая взад-вперед по просторной землянке, обдумывал предстоящий разговор с командирами полков. У Каладзе оставалось в полку не больше трехсот активных штыков. Противник, по-видимому, знал об этом: подозрительная возня на левом фланге полка Рубанюку очень не нравилась.
Накануне Рубанюк приказал Каладзе прибыть на свой капе рано утром.
Позавтракав, Иван Остапович взялся за газеты, которые вечером успел только пробежать. Раскрыв карту, он стал отмечать на ней изменения в линии фронта.
Южнее Сталинграда заняты советскими войсками город и железнодорожная станция Котельниково… В районе Среднего Дона продолжаются наступательные бои. Ведут наступательные бои советские войска и юго-восточнее Нальчика. Боевые операции в районе Сталинграда и на других фронтах были, как понимал Рубанюк, реализацией большого и смелого замысла Верховной Ставки.
Внимательно изучая карту, он пытался разгадать этот замысел, определить роль и место в нем своего фронта и своей дивизии. Но на каком бы варианте Рубанюк ни останавливался, вывод напрашивался малоутешительный: в обороне придется сидеть еще долго.
Уже совсем рассвело, когда, наконец, прибыл Каладзе. Он явился не один, а со своим заместителем по политической части Путревым. Оба были в одинаковых белых полушубках, валенках и ушанках. Глаза Каладзе весело блестели. Смахнув вязаной перчаткой с усов капельки воды от растаявшего снега, он сказал:
– Виноваты, товарищ полковник. Немножко запоздали.
– Я ждал вас к восьми ноль ноль, – заметил Рубанюк, взглянув на часы. – А сейчас без четверти девять…
– Задержало вот это, товарищ полковник…
Каладзе поспешно расстегнул планшетку к протянул командиру дивизии листок бумаги, мелко исписанный карандашом.
– Что это?
– Протокол допроса.
– «Язык»?! – с живостью воскликнул Рубанюк.
– «Язык»! – ответили одновременно Каладзе и Путрев.
В течение последних двух недель ни армейская, ни дивизионная, ни полковая разведки не могли захватить пленного. Немцы вели себя весьма осторожно. А «язык» нужен был дозарезу. Командующий армией лично собирал разведчиков, стыдил их, укорял, пообещал ордена тем, кто первым сумеет добыть пленного.
– Прошу садиться! – радушно пригласил Рубанюк.
Он пробежал глазами листок. Ефрейтор Брандт показывал, что в его дивизии спешно готовятся к переброске на Ленинградский фронт. О планах своего командования ефрейтор ничего не знал, однако ему было известно, что на передний край сейчас посылаются солдаты из тыловых команд.
– Видимо, на Ленинградском и Волховском крепко наши нажали, – сказал Путрев.
– Как он попался, этот самый ваш Вилли? – полюбопытствовал Рубанюк. – Он где сейчас?
– Через полтора часа доставят. А попался!.. – Каладзе хитро и довольно прищурил глаза. – Красиво попался… Он даже плакал, так ему было неприятно. Крупными слезами плакал.
– Вышел из бани, – вставил Путрев, – его и накрыли. Старшина Бабкин три ночи ползал вокруг этой бани.
– Бабкина представить к Красной Звезде! Какие данные у вас еще есть?
– Все данные сходятся, – доложил Каладзе. – Пленный не врет. Солдат на переднем крае немцы сменяют.
– Та-ак… – Рубанюк побарабанил пальцами по столу. – Все идет нормально.
– Вполне, – согласился Каладзе.
Сказав это, он замолчал, и Рубанюк понял, что майор только из самолюбия не поднимает вопрос о главном, ради чего, собственно, он и явился к нему вместе со своим заместителем. Но сейчас помочь нельзя было ничем, и Рубанюк сказал более холодно, чем ему хотелось бы:
– Учтите, людей командующий не дал.
– Совершенно? – спросил Путрев.
– Обещают прикомандировать к нам группу снайперов. Девушек.
– Мне бойцы нужны, а не девушки, – сердито произнес Каладзе.
– Очень уж тяжело, товарищ полковник; – сказал Путрев.
– Знаю.
Каладзе молча разглаживал ладонью раскрытую карту.
– Ты Марьяновку не забыл, Каладзе? – спросил его Рубанюк. – Помнишь, как в июле сорок первого года было тяжело, а мы все-таки… Здорово – потрепали немцев в Марьяновке.
– А сколько в полку тогда людей было? – вкрадчиво спросил Каладзе, склонив голову набок и уставив на Рубанюка карие глаза.
– Ну, дорогой! У фашистов тогда вдесятеро больше было, а все же мы их потрепали… Еще как!
Атамась принес почту – свежие газеты и письма – и тихонько спросил Ивана Остаповича:
– Конем поидытэ, чи машыну готовыть?
– Подседлаешь Вампира.
Письма были от Петра и от Аллы Татаринцевой. Наскоро пробежав их, Иван Остапович спросил:
– Помните жену старшего лейтенанта Татаринцева? Медсестру? Так вот. Просит снова зачислить в часть, в которой ее муж погиб. Ждет, пока дочь подрастет.
– Большая? – спросил Путрев.
– Восемь месяцев… Видишь, из глубокого тыла мечтают вернуться в нашу дивизию, – сказал Иван Остапович Каладзе.
– А ты говоришь – плохая у нас дивизия.
– Знали бы, какой у меня полк сейчас, не мечтали бы, – проворчал Каладзе.
– Хватит прибедняться. Сейчас тебе станет легче. Против обозников стоишь, наступать они не решатся, а мы… Говорят, придет и наш час.
Он повторил слова командующего, но Каладзе только рукой махнул:
– Уже давно слышим…
Вместе с командиром дивизии он принялся подсчитывать, сколько бойцов из хозяйственных подразделений можно перенести в строй, с помощью замполита наметил перестановку коммунистов и комсомольцев на самые опасные участки.
После ухода Каладзе и Путрева Иван Остапович внимательно перечитал письма.
– Преуспевает мой братишка, – откладывая в сторону письмо Петра, сказал он с посветлевшим лицом, обращаясь к Атамасю. – Ротой уже командует.
– Оцэ пидходяше, – отозвался Атамась, очень довольный тем, что пасмурное настроение у полковника рассеялось.
Татаринцева писала из Калинина. С восьмимесячной дочерью она жила там у старшего брата, инвалида первой империалистической войны. Алла тепло поздравляла с наступающим Новым годом, сожалела, что не может встретить его среди фронтовых друзей. Работая в тыловом госпитале, она встретила кого-то из однополчан, от него и узнала номер полевой почты Ивана Остаповича.
Последние строчки Рубанюк дочитывал, уже выходя из землянки.
Он сел в седло, но, вспомнив, что скоро должны доставить «языка», слез и пошел в штабной блиндаж.
Спустя несколько минут старшина Бабкин и боец Грива привели пленного.
– Заходи, хриц, не стесняйся, – приглашал Бабкин, пропуская его вперед.
– Твой трофей, старшина? – спросил Рубанюк.
– Это не трофей, товарищ полковник, а слезоточивый агрегат, – весело произнес Бабкин. – Прямо из терпения вывел. Мы его тащим… Он только-только из баньки, с легким паром, значит… Ну, мы ему пилотку в рот, волокем его вот с Гривой, а он ревы задает. Слезки ему высушили – и к комбату без пересадки… А он в землянке обратно мокрость развел…
Пленный уставился влажными глазами на Рубанюка. Испачканная землей, изорванная в нескольких местах шинель его висела на плечах, шарф, которым он прикрыл уши, был засален. Во всей его плоской фигуре, подобострастно вытянувшейся перед русским командиром, в апатичном выражении лица, в унылом взгляде было что-то жалкое и покорное.