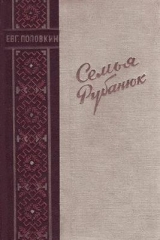
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 59 страниц)
Мысль о сыновьях, сражающихся на фронте, приободрила старика. «А разве только молодые да здоровые поднялись против вражины? – раздумывал Остап Григорьевич. – Разве ты, старый, забыл, как патрон вкладывается в русскую трехлинейку?» Он вспомнил свой разговор с секретарем райкома Бутенко. Не зря партийный руководитель приходил к нему советоваться и приказал ждать: работа, мол, найдется не только в партизанском отряде. «Нет, не навсегда красноармейцы отходят!»
Остап Григорьевич поднялся с места и, разыскав пустой мешок, стал наполнять его самыми лучшими, отборными яблоками.
Распогодилось. Над садом глубоко синело небо, медленно плыли высоко вверху, как обрывки пряжи, паутинки. Полкан побрел за стариком до конца сада и отстал, провожая взглядом и помахивая хвостом…
…Оксана уже на выезде из села заметила у дороги, около колхозных посадок, Остапа Григорьевича. Он стоял с обнаженной головой у мешка с яблоками и предлагал их уходившим бойцам:
– Берите, хлопцы, берите!
Машины задержались в общем потоке, и Оксана, привстав, крикнула:
– Тато! Остап Григорьевич!
Старик быстро повел глазами, увидел ее и, суетясь, взялся за мешок, намереваясь поднести его поближе. В эту минуту машина тронулась, и Остап Григорьевич, уронив яблоки, закивал Оксане лысой головой.
IV
Подполковник Рубанюк стоял на берегу и смотрел на взбудораженный грозой Днепр.
Иссиня-зеленая ширь клокотала, тяжело вздымались мутные пенистые гребни, обрушивались, вновь закипали, желтели от ярости.
Рубанюка тяготили промокшие гимнастерка и фуражка. В сырых сапогах хлюпала грязь.
По скрипящему настилу понтонного моста ползли автомашины, грохотали колеса фургонов, гулко стучали копыта лошадей.
Полк переправлялся на левый берег.
Где-то над Днепром снова загремел далекий, невнятный ром, Рваная сизая туча задевала темным крылом водную даль. На горизонте мерцала тонкая, зеркально-блестящая полоса.
Взгляд Рубанюка привлекло что-то темное, продолговатое плывшее в нескольких саженях от берега. Он спустился с пригорка, подошел к воде. Течением несло труп старика. Мертвое тело медленно, словно нехотя, повернуло к нему изуродованное лицо с окровавленной бородой.
Сотни обезображенных, исковерканных войной человеческих тел, которые Рубанюку довелось видеть, не вызывали нем такого чувства, как этот труп деда. Может быть, старик еще вчера мирно сторожил бахчу или рыбачил с внуком под тенью верб… Кто знает, что ждет и его, Рубанюка, старого батька – Остапа Григорьевича?!
С изумительной четкостью в памяти предстали вдруг Чистая Криница с теплым сухим запахом сосен в прибрежных перелесках, росистые степи, родной двор над Днепром, плетни, утопающие в полыни, Петро, старый отец.
Атамась в мокрой, прилипшей к телу гимнастерке и забрызганных грязью сапогах подошел к Рубанюку.
– Ну, товарищ пидполковнык, – сообщил он, заговорщицки подмаргивая, – квартирку я найшов для вас в сели. Дви молодухы, Татьяна и Маша. Там и сметанка будет, и постель пуховая…
– Твоя семья, Атамась, кажется, в Ахтырке осталась? – просил Рубанюк.
– В Ахтырци. Батько й маты.
– Ну, фронт далеко от них. А вот за своих я боюсь. Из головы не выходят. Три письма послал, – никакого ответа.
– Щэ напышуть.
– Неизвестно даже, добрались ли до Чистой Криницы Александра Семеновна и Витя.
– Добралысь, товарищ пидполковнык! – ответил Атамась уверенно.
– Почему так думаешь?
– Бо знаю добрэ Александру Семеновну. Боны таки, що не пропадуть…
Атамасю очень хотелось утешить своего начальника, и он, не зная, как это сделать, предложил:
– А вы отпустить, пойду в Чысту Крыныцю, всэ толком разведаю. Вам будэ спокойней.
Рубанюк лишь грустно улыбнулся. Взяв себя в руки, сказал уже строго официально:
– Иди, своими делами занимайся. И скажи кому-нибудь, пусть деда похоронят. Видишь? Надо могилку вырыть.
Не оглядываясь на подплывший к берегу труп, он, сутулясь, зашагал к мосту.
На левом берегу он опять стоял, молча наблюдая бесконечный поток людей, машин, повозок. Сюда, на переправу, устремились со своим скарбом какие-то предприятия, институты. Люди поглядывали на небо, торопились скорее миновать опасную зону и, выбравшись на левый берег, медленно и устало брели по лесной дороге.
Морячок, в бушлате и бескозырке, с забинтованной рукой на перевязи, широко расставив ноги, ехал верхом на неведомо где добытом коне. Как он попал сюда, трудно было понять, но в позе его, деловитой и независимой, в том, как он уверенно пробивался сквозь людской поток и беспечно покуривал самокрутку, было что-то, что внушало к нему уважение. С выражением явного превосходства он поглядывал на пехотинцев, шагающих по грязи.
– Эй, землячок! – окликнул моряк усатого, пожилого бойца. – Скат спустил.
Усач посмотрел на свою распустившуюся обмотку. Не найдясь, что ответить на ядовитую шутку, он проводил морячка обиженным взглядом и, под смешок товарищей, смущенно стал перематывать обмотку.
В сторонке, кое-как замаскированные ветвями, стояли новехонькие тяжелые орудия и такие же новые гусеничные тракторы. Их надо было переправить на правый берег, к фронту. Седой полковник, с артиллерийской эмблемой на петлицах и орденом Ленина на груди, ругался с комендантом переправы.
– Пойми, голова! – горячился полковник. – Не могу я искать другой переправы.
– Не выдержит, товарищ полковник, – сумрачно отвечал комендант. – И не требуйте. У вас вон какие громадины. Под расстрел не хочу идти.
– Выдержит! По одному – выдержит. Мне – срочно, – то просяще, то грозно говорил полковник, вытирая платком лоб.
– Тогда повремените. Пропущу полк, посмотрим.
Полковник отошел, стал в двух шагах от Рубанюка, нетерпеливо вертя в руках бинокль.
– Хорошие пушечки везете, – сказал ему Рубанюк.
Полковник оглянулся, устало махнул рукой:
– Везу вот. А как воевать буду? Ни одного метра провода.
Он подошел к своим тракторам, скользя сапогами по грязи и что-то гневно бормоча.
Рубанюк услышал негромкий девичий смех. Две зенитчицы, подстелив плащпалатки и свесив ноги в окопчик, ели хлеб с маслом и о чем-то болтали. На бруствере лежали букетики цветов. Девушки были очень молоды, жизнерадостны, и даже мужская красноармейская форма не лишала их обаяния. Они пересмеивались, но потом, заметив невдалеке хмурого подполковника, заговорили шепотом. Рубанюк, не желая им мешать, пошел к полковому обозу, который сбился около дороги.
Уже при въезде в село, где предстояло разместиться штабу полка, его встретил немолодой, с седеющими вислыми усами батальонный комиссар. Он сверкал новеньким обмундированием; ремни его поскрипывали при каждом движении, пунцовые звезды на рукавах гимнастерки казались чрезмерно яркими.
«На войну, как на парад, собрался, – подумал Рубанюк с неприязнью. – Нюхнет пороху – не тот будет».
– Прибыл, товарищ Рубанюк, к вам в полк, – сказал политработник. – Комиссаром. Так что вместе воевать придется. Путрев, – назвал он свою фамилию, протягивая руку.
– Вместе так вместе, – сдержанно ответил Рубанюк.
– Вижу, вы на мой новенький костюмчик коситесь? Забрал из дому. Зачем добру пропадать? Мне ведь повезло: в Киеве был, с семьей повидался.
– Ну, как там? – невольно оживляясь, спросил Рубанюк.
– Настроение боевое. Жизнь течет нормально. Бомбит, правда, частенько.
Они шли широкой улицей села, запруженной повозками, машинами, походными кухнями. Ветер гнал с неба обрывки туч, шелестел в листьях садов. Около заборов и плетней стояли нерасседланные лошади, детвора оживленно сновала между красноармейцами, молодицы, шлепая босыми ногами, переходили через улицу к колодцу. Набрав воды, они шли, раскачиваясь, ловко перекладывая коромысло с плеча на плечо.
– Кадровый? – спросил Рубанюк, сбоку разглядывая невысокую фигуру Путрева.
– И да и нет. Призван в тридцать девятом. По мобилизации ЦК. С партийной работы.
– Учились?
– Какая учеба! Полуторамесячные курсы. Потом поход в Западную Украину, финская.
– Побывали на финской?
– Прихватил. После ранения – в политотделе дивизии. Вот и все мои военные академии.
– Так-с.
– Прежний комиссар ваш, мне сказали, так и не успел повоевать?
– Вострецов? Да, ему не повезло. Заболел, на фронт и не попал…
На углу улицы, перед площадью, расположились бойцы из батальона Лукьяновича. За палисадником слышался приглушенный смех. По разговорам можно было догадаться, что бойцы делят хлеб и сахар.
Красноармеец Терентии хрипловатым голосом рассуждал:
– К старости у человека в характере все недостатки наружу вылезают. Смолоду вредный или, скажем, жадноватый был – в летах еще вредней станет, еще скупей.
– А вот это ты, Терешкин, брешешь, – откликнулся кто-то.
– Кобель брешет.
– Ни в жизнь не сохранится к старости характер. Натура человеческая – она все время меняется.
– Ничего не меняется.
– А ты слушай. Вся организма меняется. Как пройдет двадцать лет, так и кровь совсем другая, и клетки…
– Ишь ты! – воскликнул басовитый голос. – Это к старости наш Грива, глядишь, еще порядочным может стать.
– У Гривы одна туловища заменится. А желудок ему менять никакого расчета нету. Как же он добавку переваривать будет?
– Мели, Емеля… – мирно отозвался Грива.
– Серчаешь? – спросил Терешкин.
– Чего мне серчать?
– Тогда дай табачку свернуть. Я тебе после войны на две завертки отдам.
– До чужбячку вредно привыкать, а то в старости на даровинку только жить и будешь. Некрасиво.
Путрев слушал словесную перепалку красноармейцев с интересом и одобрением. Несмотря на трудный переход, люди, судя по всему, были бодры, жизнерадостны.
– В полку крепкие хлопцы, – словно читая мысли комиссара, сказал Рубанюк. – От границы идут. Почти все время с боями.
– Хорошо старик Державин сказал, – ответил Путрев. – Помнишь?
О росс!..
По мышцам ты – неутомимый,
По духу ты – непобедимый,
По сердцу – прост, по чувству – добр,
Ты в счастьи тих, в несчастьи бодр…
– Ну, что ж, комиссар. Определяйся на квартиру. Разместим людей, потом потолкуем. А если не устал, пройдемся по батальонам, посмотришь народ и себя покажешь.
– Конечно, пройдемся.
– Воздух! – крикнул зычный голос откуда-то из-за плетня. Высоко в небе, вырисовываясь на одиноком розоватом облаке, плыл вражеский разведчик. Открыли огонь зенитки; далеко позади самолета повисли серые комочки разрывов.
– Эх, стрелки! – безнадежно махнув рукой, сказал Рубанюк. – Снаряды только зря переводят.
– Научатся, – ответил Путрев.
V
На левом берегу Днепра спешно производились оборонительные работы. Рубанюк готовил свой участок в двух километрах от села. День и ночь он пропадал там.
Линия фронта приближалась с северо-запада. Ходили слухи о том, что противник прорвался к Голосеевскому лесу, под Киевом. А здесь было тихо, на полях убирали хлеб, стрекотали молотилки и комбайны.
Рубанюк стоял на квартире в семье председателя колхоза. Хозяин месяц назад ушел на фронт, всем заправляла его жена – остроязыкая, шустрая Татьяна, с бойкими карими глазами и тяжелыми косами, небрежно закрученными на затылке. Ей помогала по хозяйству сестра председателя Марьяна, в противоположность своей золовке неразговорчивая, застенчивая. Мать Татьяны, набожная и суеверная старуха, и восьмилетняя Санька хозяйничали дома, когда молодицы уходили в степь или на огороды.
Санька при первом появлении Рубанюка укрылась на печи, потом осмелела и с любопытством наблюдала за каждым его движением. Она пробралась вслед за Атамасем в комнату, где приготовили для подполковника постель и стол для работы. Видимо, подражая матери, скрестила на груди руки и поминутно вздыхала.
Рубанюк наблюдал за ней с улыбкой, а после того как Санька вздохнула особенно протяжно и вызывающе, подхватил ее на руки и, смеясь, сказал:
– Девка хорошая, а зубов уже нет. Верно, с конфетами съела? Любишь конфеты?
Санька дернула вихрастой головой, причмокнула:
– А ось дайте пальця в рот. Тоди побачыте, чы е зубы, чы немае.
– Ого!
– Вылыта маты, – посмеивался Атамась. – Та тоже за словом у карман не полизе.
Атамась обжился в семействе председателя с непостижимой быстротой. На обеденном столе Рубанюка появлялись то наваристые борщи со свининой, то блинцы или вареники со сметаной. В сытности и разнообразии блюд нетрудно было разгадать вкусы хозяйственного шофера.
Однажды Рубанюк вернулся с совещания в штабе дивизии около полуночи. Голова его трещала от усталости и табачного дыма.
Не заходя в хату, он открыл калитку в сад, медленно зашагал мимо крыжовника и малины. Чья-то фигура вдруг испуганно метнулась в кусты.
– Кто здесь? – резко окликнул Рубанюк и расстегнул кобуру пистолета.
– Це вы, товарищ пидполковнык? – смущенно проговорил Атамась, выходя на тропинку.
– Чего ты сюда забрался?
– Та трошкы заговорылысь.
К темному кусту за спиной Атамася жался еще кто-то. Рубанюк узнал полногрудую застенчивую Марьяну и, ничего не сказав, повернул к хате.
Скрипнула садовая калитка. Татьяна крикнула в темноту негромко, но повелительно:
– Машка! Марш до дому! Ишь, моду взяла…
В створе калитки смутно белела сорочка молодой хозяйки. Рубанюк в нерешительности замедлил шаг. Но Татьяна заметила его и стремительно побежала к хате.
«Еще, чего доброго, меня заподозрит», – подумал Рубанюк с усмешкой. Он подождал Атамася и строго сказал:
– Муж этой Марьяны на фронте, наверно, а ты шашни с ней затеял.
– Так вона еще барышня, товарищ пидполковнык, – шепотом оправдывался Атамась. – Мы с ней про пчел говорили. У них же своя пасека.
– Что-то, голубок, в каждом селе ты интерес к пчелам да садкам проявляешь!
Рубанюк вошел в хату, не зажигая света, выпил приготовленное ему молоко со свежеиспеченным хлебом и лег в постель.
В приоткрытую дверь было слышно, как тихонько вернулась Марьяна. Татьяна стала ей сердито выговаривать. Потом обе женщины приглушенно засмеялись.
– Тчш! Людына спит, а боны разгомонились, – урезонивала их старуха.
Под убаюкивающее перешептывание женщин Рубанюк, наконец, заснул.
Разбудил его Каладзе. За окном чуть светало, шумно свиристели воробьи.
Озабоченный и расстроенный вид начальника штаба мигом поднял Рубанюка с постели.
– Нехорошие новости, товарищ подполковник, – сказал Каладзе хмуро.
– Что стряслось?
– Десант выбросили перед утром. Парашютистов.
– Где?
– За Глиняной балкой. В лесу.
Рубанюк стал торопливо одеваться. Мысль его работала лихорадочно. Нужно было прежде всего выяснить численность и боевые средства десантников, принять меры к их окружению.
– Кто доложил о десанте? – спросил он, выходя из хаты. – Какие приказания ты дал?
– Многие красноармейцы видели. Бабы с поля в село побежали, боятся. Комиссар тоже знает.
– Какие приказания успел отдать?
– Поднял батальон по тревоге.
– Комиссар дома? Зайдем к нему.
На улице, несмотря на ранний час, было многолюдно: бабы бегали от двора к двору, собирались группами, возбужденно разговаривали.
Путрев умывался у порога.
С комиссаром у Рубанюка установились очень хорошие отношения. В первые же дни он убедился, что Путрев решителен и энергичен, работает с настоящим огоньком, не вылезает из красноармейских землянок и вообще быстро снискал себе в полку уважение.
Рубанюк удивился, увидев, как он неторопливо черпал воду из ведра.
– О десанте знаешь, Василь Петрович? – спросил Рубанюк, недоумевающе приподняв брови.
Путрев обтер лицо полотенцем, расчесал гребенкой усы. Поморщившись, ответил:
– Знаю. Только что ходил, разведывал. Прошу в хату:
Он пропустил командира и начальника штаба вперед и положил перед ними пачку фашистских листовок.
– Вот это и есть ваши парашютисты, – с иронией сказал он, обращаясь к Каладзе.
Капитан побагровел так, что у него стала розовой каемка подворотничка. Он повертел листовки в руках и, смущаясь все больше, сказал:
– Бойцы многие заявили. Сами видели парашютистов. Путрев покачал головой. Глядя прищуренными глазами на кончики своих пальцев, он раздельно проговорил:
– Это вот и плохо, товарищ начштаба. Бойцам сейчас и окружение и парашютисты могут показаться в чем угодно. Враг на это рассчитывает. Но ведь ты руководитель? Какая-то баба испугалась листовок, она ведь их никогда не видела. А начштаба не разобрался и поднял батальон по тревоге. Позор! – Стараясь замять неловкость, Путрев предложил: – Давайте-ка лучше позавтракаем. У меня рыбка свежая жарится.
– О десантах нам все же призадуматься следует, – сказал Рубанюк. – Сегодня листовки, а завтра головорезов бросят. Место у нас такое, надо всегда ждать.
– Мои мысли, – поддержал Путрев. – Если подготовим бойцов и самих себя, воздушный десант – детская игрушка.
После завтрака они направились в дальний батальон. Шли накатанной дорогой вдоль Днепра. Синий и спокойный Днепр просвечивал сквозь деревья, ветерок доносил запах реки.
Перед участком второй роты Рубанюк еще издали увидел Аллу Татаринцеву. С тех пор как из дивизии и штаба армии поступили сообщения о том, что ни лейтенанта Татаринцева, ни полкового знамени нигде обнаружить не удалось, Рубанюк встречал Аллу всего два раза.
Завидя Рубанюка, Татаринцева остановилась, козырнула и звонко спросила:
– К вам можно будет как-нибудь зайти, товарищ подполковник?
– Конечно, можно!
Пройдя немного, Путрев сказал:
– Кажется, погуливает сестрица?
– Не заметил.
– Женщина она молодая, пригожая. Кто из наших лейтенантов устоит против искушения?
В тоне, каким были сказаны эти слова, явно звучало осуждение.
– Она у нас в полку мужа потеряла, – холодно ответил Рубанюк. Его покоробило, что о Татаринцевой отзываются недружелюбно.
Он рассказал Путреву, при каких обстоятельствах Татаринцева попала в полк, одобрительно отозвался о ее выдержке, храбрости, а затем, уличив себя в том, что близко принимает к сердцу репутацию этой женщины, сердито произнес:
– Тебе, комиссар, не кажется, что мы с тобой слишком много разглагольствуем о сестре?
– Пожалуй…
Батальон Лукьяновича находился на занятиях. Бойцы перебегали, учились вести бой в траншеях. Рубанюк знал, что в батальоне все, включая и комбата, смотрели на занятия как на несерьезную затею, мечтали о настоящих боях. Поэтому он был особенно требователен и придирчив.
Выслушав рапорт Лукьяновича, он повел комиссара смотреть занятия в третьей роте. Два взвода он после недружной, вялой атаки вернул на исходный рубеж и строго отчитал командира роты.
Шагах в пятнадцати от места, где стояли командир и комиссар полка, расположился условный орудийный расчет. Путрев с видимым удовольствием прислушался к громким командам, которые раздавались из кустарника, к искусному подражанию летящему снаряду.
– Эти весело занимаются, – обратил он внимание Рубанюка, – с чувством.
Рубанюк еще раз проверил атаку взводов и разрешил перерыв.
– Перекури-ить! – откликнулись в кустах, и в тот же момент там запиликала губная гармошка.
Путрев одобрительно поглядывал в сторону бойкого орудийного расчета, потом предложил Рубанюку:
– Пойдем, подполковник, потолкуем с народом. Нравятся мне ребята. Настоящие солдаты.
–. Что ж, пойдем.
Гармошка смолкла. Из-за кустов поднялся сержант Кандыба. Он лихо отрапортовал.
– Кто командир орудийного расчета? – улыбнувшись, спросил Путрев.
– Я, сержант Кандыба.
– А свистел кто?
– Тоже я.
– Кому же ты подавал команду?
– Самому себе, товарищ батальонный комиссар.
– И на гармошке сам себя развлекаешь?
– Больше некого. Самого себя.
Судя по озорному взгляду Кандыбы, он понимал, что им довольны, и не преминул этим воспользоваться.
– Разрешите? – сказал он, протягивая руку к раскрытой Путревым коробке папирос. – Давно «Чапаевскими» не баловался.
– Кури, кури, пожалуйста.
Относительное спокойствие продолжалось недолго. Через несколько дней над Днепром снова появились вражеские самолеты. Они с тяжелым ревом шли куда-то в дальние тылы, а по ночам вешали над переправами ракеты и неистово бомбили все живое, сбившееся около реки.
Село жило встревоженно, суматошно.
Рубанюк шел однажды по лощине с полкового склада. Невдалеке от села он увидел двух ребят. Мальчишки были очень озабочены, и Рубанюк задержался.
– Вы что, мальцы, тут делаете? – спросил он русого черноглазого паренька.
– Да вот лазили по кустам, – бойко ответил тот. – Надо нам задержать какого-нибудь неизвестного, их тут много шляется.
– Может, он шпион или парашютист, – вставил его приятель.
– В школу ходите?
– А как же! – ответил первый.
– Отметки хорошие?
– Гришка – круглый отличник, – кивнув на товарища, сообщил другой.
– А ты?
– Вы видели, дядько, какой воздушный бой был? – блестя глазенками, перебил Гришка. – Это что! Они втроем на нашего одного насели.
– А вы у тетки Татьяны квартируете? – спросил второй.
– Ишь ты! Может, это военная; тайна?
– Ну да, тайна. Тетка Татьяна нам двоюродная, сестра. Разговорившись, мальчишки проводили Рубанюка в самое село и отстали, только когда он вошел в свой двор.
Дома были старуха с Санькой. Судя по всему, старуха давно поджидала его и, как только он скинул полевую сумку, вошла в комнату.
– А что я хотела спросить, сынок? – начала она, вытирая уголком темного платка сухие, землистые губы.
– Спрашивайте, бабушка.
– Правда, что у него на головах золотые венцы?
– У кого это?
– У ерманца.
– Золотые? Ни разу не видел, – усмехнулся Рубанюк. – А кто это такие басни рассказывает?
– Ох, сынок, не басни, – испуганно покачав головой, прошептала старуха. – Божий человек заходил, откровения святого Иоанна Богослова читал. Там все написано. И что через пять месяцев война закончится.
Рубанюк впервые подумал о том, что в сознании таких вот старых людей война выглядит совсем по-другому. Он побарабанил пальцами по столу и спросил:
– А есть у вас эти самые откровения Иоанна Богослова? Давайте поглядим.
– Есть, есть, сыночек, – засуетилась старуха. – Не ходи под ногами! – прикрикнула она на Саньку. – Сейчас принесу.
Рубанюк переложил засушенный меж страницами стебелек бессмертника и стал медленно листать ветхие, пахнущие воском и ладаном страницы.
– Вот тут читайте, – ткнула по памяти скрюченным пальцем старуха. – Тут и божий странник читал.
Она, подперев ладонью щеку, приготовилась слушать. Рубанюк пробежал глазами указанное место, вслух прочитал:
– «…Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба, и дан был ей ключ от кладезя бездны…»
– Читай, читай, – просила старуха, – там дальше.
– «…Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы…»
Старуха всхлипнула, вытерла пальцем глаза и снова застыла.
– «…В те дни, – читал дальше Рубанюк, – люди будут искать смерти, но не найдут ея; пожелают умереть, но смерть убежит от них…»
– Убежит! – эхом откликнулась старуха.
– «…По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие…»
Рубанюк и сам заинтересовался туманным, иносказательным языком древнего писания. Он искоса посмотрел на свою пригорюнившуюся слушательницу, перевернул закапанную воском страницу.
– «…На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была – вредить людям пять месяцев…»
– Значит, бабушка, через три месяца по домам? – отрываясь от библии и посмеиваясь, спросил Рубанюк. – Два месяца уже воюем.
Старуха подняла на него глаза:
– Пошли господь бог! Читай. Истинная правда, от самого господа нашего.
– «…Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серые; головы у коней – как головы у львов, а изо рта их выходил огонь, дым и сера…»
– А не такие, скажи, скорпионы ползают по людям, кости им трощат? – придирчиво сказала старуха, заметив улыбку на лице Рубанюка. – Вы вот, молодые, в бога не веруете, а тут все оно, как есть, написано.
– И как же этот «человек божий» объяснял вам библию? – спросил уже серьезно Рубанюк.
– Разъяснял, сынок, разъяснял. За пять месяцев времени, говорит, скорпионы эти, с золотыми венцами, все попалят и людей подавят, и останется земля черная. И расти уже ничего на ней не будет. А сделать, говорит, ничего нельзя. Сам господь бог указывает.
– Жалко, бабушка, что этого вашего странника в милицию не забрали. Лазутчик он какой-нибудь вражеский, не иначе.
– Ох, что ты, сынок! Он же и крестится по-нашему, и всех святителей знает.
– Вот, вот. Поклоны бьет, а тем временем вражеской агитацией занимается. Фашистам что важно, бабушка? Чтобы их боялись, верили в их непобедимость. А нас этими басенками не запугаешь. И с этой саранчой, или как она там в писании называется, мы разделаемся, это я вам твердо обещаю.
Он еще долго говорил со старухой, и она ушла к себе на кухню, явно изменив мнение о «божьем человеке».
Вернувшись через несколько минут в комнату, она положила перед Рубанюком пирожки, только что вынутые из печи, и сказала, вздыхая:
– А я было горевать начала, когда человека этого забрали. Когда-то старостой церковным он в нашем селе был.
– Так и есть! Я сразу догадался, какого поля ягодку оккупанты себе в помощники вербуют.
VI
Несколькими днями позже, проходя мимо санроты, Рубанюк увидел Аллу Татаринцеву с лейтенантом Румянцевым. Молоденький командир взвода, щегольски перетянутый ремнями, пытался обнять ее. Алла увертывалась. Лицо ее было сердитым, и в то же время она громко и заразительно смеялась: можно было, подумать, что ей игра с лейтенантом доставляет удовольствие.
В памяти Рубанюка всплыла вскользь брошенная Путревым фраза: «Погуливает сестрица». Он прошел мимо, даже не повернув головы в сторону Аллы и Румянцева, но на душе остался неприятный осадок. Рубанюк почувствовал себя так, словно в легкомысленном поведении молодой женщины был повинен он сам.
Ему вспомнилось, как Татаринцева, появившись в полку, смущенно одергивала непривычную для нее гимнастерку, неловко козыряла. «Сейчас держится развязно, – раздумывал Рубанюк. – Не сами ли мы виноваты? Одна среди мужчин. Ухаживания, вольности. А ведь это жена нашего боевого товарища, может быть погибшего».
Рубанюк вспоминал Татаринцева часто. Это был опытный командир и прекрасный товарищ. Он очень гордился своей женой. И если Алла смогла так быстро забыть о нем и утешиться, значит она пустая и несерьезная женщина.
«При первом удобном случае побеседую с Татаринцевой», – решил Рубанюк, подходя к своему дому. Его встретил Путрев, запыленный и усталый. Он только приехал из политотдела армии.
– Мост у Канева вчера наши взорвали, – тихо, почти шепотом, сказал он. – Здорово жмут, гады! Как бы не потеряли Днепропетровск. Там держит оборону одно лишь училище.
Рубанюк слушал молча. Ничего не могло быть хуже, чем переход врагов через Днепр. А они, видимо, накапливали для этого все свои силы.
– Ночью к нам прибывает пополнение, – сообщил в заключение Путрев. – Видимо, скоро и нас двинут в бой.
– Раз дают пополнение, значит так.
Вскоре, однако, стало известно, что маршевые роты, предназначенные для полка, были в пути задержаны и направлена куда-то в район Бубновской слободки.
Рубанюк побывал на рассвете в батальонах, затем обошел передний край обороны полка, который тянулся над самым берегом, и задержался там весь день.
В село возвращался уже перед вечером. В воздухе носилась мошкара, солнце садилось в оранжево-розовые тучи.
Рубанюк свернул к реке, намереваясь искупаться, и вдруг услышал в кустах женские голоса. Разговаривали Татаринцева и еще какая-то девушка, чей тихий, приятно сочный голос был Рубанюку незнаком.
– Ты еще пойдешь в воду? – спросила Татаринцева.
– Нет, обсохну и буду одеваться. Через час – на дежурство.
Девушка помолчала, потом с нескрываемым восхищением сказала:
– Очень ты ладно сложена, Алка. С тебя рисовать можно… или в музей изящных искусств.
Татаринцева засмеялась:
– Что толку-то?
– А разве тебе не приятно знать, что хороша?
Татаринцева громко зевнула, стала одеваться. Потом поднялась и лениво проговорила:
– Я сама себе противной стала. Пока в бою, около раненых, ничего. А останусь наедине – тоска, пустота в душе страшная.
– Ты о Грише своем тоскуешь.
– Его очень жалко. Такого человека уже не встретишь. Он меня по-настоящему понимал.
– Потому что любил.
Татаринцева тихонько насвистывала какую-то грустную мелодию, потом, оборвав ее, сказала:
– Знаешь, что обидно? Парни считают, раз мужа у меня нет, я все себе позволю. И пристают.
– Ко мне вот не пристают. Я живо отважу.
– Не умею я грубо. Все же ребятам скучно, я их понимаю.
– Ну, сказала! Если не мил, пусть он волком воет или соловьем заливается…
Рубанюк испытывал неловкость оттого, что стал невольным слушателем интимного разговора женщин. Однако обнаружить себя теперь было уже неудобно, и он продолжал сидеть, не шевелясь, пока женщины не оделись и не пошли к селу.
Спутница Татаринцевой была в форме сержанта. «Видимо, из зенитного подразделения», – решил Рубанюк, провожая их взглядом.
Он подошел к реке, смочил лицо. Вытершись платком, зашагал узенькой тропинкой, протоптанной мимо конопли и заросшего дерезой рва.
Уже совсем смеркалось. Под плетнями сидели дивчата, красноармейцы, грызли подсолнухи, смеялись. Рубанюк, различив голос Атамася, хотел позвать его. Тот подбежал сам.
– Никто не искал? – спросил Рубанюк.
– Никто, товарищ пидполковнык. Капитан Каладзе, правда, еще в обед заходил, но ничего не передавал. И медсестра прибегала.
– Ладно. Можешь быть свободен.
Рубанюк прошел несколько шагов и столкнулся с Татаринцевой.
– Зайдемте-ка ко мне, – сказал он. – Вы мне нужны… Он зажег лампу, пригласил Аллу сесть.
– Вы как попали на курсы медсестер, Татаринцева? – спросил он. – Действительно медицина вас увлекает?
– Нет, не поэтому. – Алла смущенно улыбнулась. – Я ведь танцами больше увлекалась, тряпками. После школы кассиршей в ресторан пошла… – Мне нравилось, что там шумно, красиво, музыка… В общем, свистело в голове! Потом подруги на курсы сестер начали записываться, я тоже. Если бы они на стенографию пошли, и я бы за ними. Самостоятельная девушка, верно?
– Все же какую-то цель в жизни каждый человек должен избрать. Ведь так?
– А я уже избрала.
– Какую?
– Кончится война – уеду на Сахалин.
– Что там делать?
– Все равно. Лишь бы подальше.
– Непонятное желание.
– Очень понятное. Там даже такие, как я, неприкаянные, нужны. Людей мало.
Рубанюк пристально смотрел на Татаринцеву, обдумывая то, что собирался ей сказать давно.
– Можно быть с вами откровенным? – спросил он. – Я затрону некоторые интимные вопросы.
– Говорите.
– Вы не оберегаете ни своего достоинства, ни чести мужа, – сказал Рубанюк. – Вы даете повод думать и говорить о вас оскорбительно.
Алла посмотрела на него удивленно:








