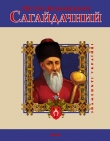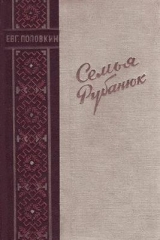
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 59 страниц)
– В госпитале я пела для вас, кокетничала, как последняя девчонка, только для вас. Когда у вас поднималась температура, у меня она падала, и я ревела так, что меня уводили в дежурку. Вы ничего этого не знали. Мне в девятой палате не удалось работать, но я вертелась около нее каждый день, каждую свободную минутку.
Петро слушал ее серьезно, без тени улыбки, и Мария, ободренная этим, продолжала уже спокойнее, даже с насмешливыми интонациями в голосе:
– Ведь глупо, Петя, понимаю. И то, что я рассказываю вам об этом, смешно. Мало ли в моем возрасте девчонок, теряющих голову непонятно почему?! А к вам… вас… Раненые рассказывали в госпитале, как вы от фашистов вырвались, несли знамя. Как вас чуть не убили. Я тогда уже решила: если вам отнимут ногу, все равно быть с вами.
Петро сидел, ошеломленный признанием девушки. У него было странное ощущение, словно он взял не принадлежащую ему ценную, очень хрупкую вещь и сейчас боится опустить ее на место, чтобы не разбить.
– Все, что я сейчас услышал, очень меня… трогает, – мягко сказал он. – И я уверен, Мария, вы встретите на своем пути человека, достойного вашего чистого чувства. Пусть он даже не будет таким героем, каким кажусь вам я.
– Вы меня утешаете?
– Нет, просто говорю о том, в чем крепко убежден.
Мария молчала.
– Завтра, – сказала она спустя минуту, – я принесу адрес вашего раненого комиссара и передам через часового.
Можно так?
– Хорошо. Я буду вам очень благодарен.
X
В казарму Петро возвращался с рассветом, по пустынным улицам. Большими неподвижными рыбинами казались аэростаты воздушного заграждения, смутно маячившие в мглистой вышине, торопливо шуршали шаги ранних пешеходов.
Давно у Петра не было так тяжело на душе. Вспоминая разговор с Марией, он испытывал такое чувство, будто чем-то незаслуженно обидел, оскорбил девушку. Настроение его стало еще более подавленным, когда он подумал о своем опоздании. «Подвел комбата, опозорился на весь полк», – точила его всю дорогу неотвязная мысль.
Часовой бегло взглянул на увольнительную записку, задержал взгляд на лице Петра.
– С небольшим опозданьицем, – сказал он ядовито. – Приказано немедленно по прибытии явиться к командиру полка.
Петро ускорил шаг. Встретившийся ему Сандунян сообщил:
– Комбат два раза тебя вызывал.
– Сердился?
– Кричал.
– Вот черт, влип в неприятность!
– Ничего. Может, как-нибудь обойдется…
У майора Стрельникова шло командирское совещание. Ждать пришлось минут сорок. Петро старательно расправил под ремнем полушубок и постучался.
Стрельников стоял за столом. Он молча наблюдал, как Петро, чеканя шаг, подошел к нему, щелкнул каблуками и ненатурально бодрым голосом доложил о прибытии.
– Поедете со мной к командиру дивизии, – сказал Стрельников. – Через десять минут быть готовым!
– Есть через десять минут быть готовым! – откликнулся Петро.
«Значит, не за опоздание вызвал, – подумал Петро с облегчением. – Не станет комдив такими пустяками заниматься».
Но тревожное чувство не покидало его. Всю дорогу, пока ехали на «газике», он ломал голову, стараясь объяснить причину вызова к комдиву.
Командир дивизии, седой, могучего сложения полковник, собирался завтракать. В комнате, которая служила ему и рабочим кабинетом, и спальней, и столовой, бойкий красноармеец накрывал на стол, предварительно убрав с него карты, исчерченные цветными карандашами.
– Прибыл со старшим сержантом Рубанюком, Антон Антонович, – доложил Стрельников, входя запросто, без официального доклада.
Полковник, чуть прихрамывая, вышел из-за стола, на ходу снял очки. Несмотря на то, что в комнате было жарко от раскаленной докрасна чугунной печки, он был в меховой безрукавке, в валенках.
– Это и есть Рубанюк? – спросил он окающим волжским говорком.
Пристально взглянув на Петра, комдив протянул ему мягкую, теплую руку.
– Самарин! – позвал он, приоткрыв дверь. – А ну-ка, давай!.. Получил на своих орлов новое вооружение? – осведомился он, повернувшись к Стрельникову. И, заметив, что Петро стоит вытянувшись, коротко бросил – Садись, Рубанюк!
Петро отошел к стене, опустился на краешек продавленного кресла.
Полковник, тяжело дыша, прочищал проволочкой мундштук. Не дослушав Стрельникова, он снова обратился к Петру:
– Полушубочек сними, старший сержант. У меня тут натопили, архаровцы, дышать невозможно. И ты раздевайся, майор. Завтракали?
– Не пришлось, Антон Антонович.
– Стало быть, знал, хитрец, что у комдива пельмени на завтрак. Сознайся, знал?
– Откуда же знать, Антон Антонович!
Полковник, засмеявшись, погрозил ему пальцем и шагнул к капитану Самарину, вошедшему с папкой.
– Ну, что ж, – сказал он, надевая очки и снова проницательно оглядывая Петра, – заработал, орел, – получай!
Он выпрямился и торжественно произнес:
– В бою под Выковкой хорошо дрался, товарищ Рубанюк. Правительство награждает тебя высокой наградой! Орденом Красного Знамени.
Полковник протянул коричневую коробочку. Затем сам раскрыл ее, извлек поблескивающий золотом и эмалью орден и прикрепил к гимнастерке Петра. Он крепко тряхнул его руку и, щекоча усами, поцеловал.
Все было так ошеломляюще неожиданно и просто, что Петро забыл даже, как положено ответить. Словно в полусне он чувствовал, как ему пожимают руку Стрельников, капитан, еще кто-то.
Уже за столом, принимая от полковника стакан с водкой и осознав, что произошло, Петро отставил стакан.
– Э-э, орел! – запротестовал комдив. – У нас так не делается. Посуда чистоту любит.
– Дайте опомниться, товарищ полковник. Я никак не ожидал, – чистосердечно признался Петро..
Он благодарно смотрел на командира дивизии и Стрельникова. Ему казалось в этот момент, что нет такого – самого трудного – боевого задания, которого он не взялся бы выполнить. В его памяти вихрем пронеслись воспоминания о бое с немецким батальоном, как живой, возник перед глазами Прошка, подающий диски для пулемета.
– А Шишкарев? – быстро спросил Петро Стрельникова.
– Шишкарев награжден тоже, – сказал комдив. – Посмертно.
– Вот это правильно!
– Раз правильно, ты, голубок, пей, – сказал, чокаясь с ним, полковник.
Петро подождал, пока комдив, смачно крякнув, коротким движением опрокинул в рот свой стакан, и тоже выпил.
Хмель быстро обволакивал его сознание. Петро неуверенно поднялся.
– Разрешите мне, – произнес он, – заверить командование, что старший сержант Рубанюк оправдает в боях свое высокое воинское звание.
Полковник потер пальцами мясистый красный нос и добродушно заметил:
– Звание у тебя не такое уж высокое. По твоей хватке совсем не высокое. В командиры пора пробиваться.
Мы его на курсы собираемся послать, – сказал Стрельников. Как, Рубанюк, смотришь на такое дело?
Предложение командира полка застигло Петра врасплох, и он взглянул на Стрельникова с недоумением. Сейчас, в разгар боев за Москву, полку был нужен каждый человек, владеющий оружием, а ведь он, Петро, воевал не хуже других! Досадуя на командира полка, он сдержанно сказал:
– За доверие очень благодарен, товарищ майор. Получиться не плохое дело. А если мое желание вам интересно знать, то я откровенно скажу: обстановка такая на фронте… Нельзя мне с передовой уходить.
– Зря артачишься, старший сержант, – вмешался комдив. – Месяца полтора в курсантах походил бы – взвод дали бы. А то и роту. Зря…
К этому вопросу ни он, ни Стрельников больше не возвращались, но Петро спустя некоторое время негромко спросил у Стрельникова:
– С курсов этих, о которых вы говорили, товарищ майор, не пошлют меня в другой полк?
– Курсы при армии. Поучишься – заберем обратно. Да ты не беспокойся, раньше чем через месяц – два сами не отпустим.
Через час Стрельников довез Петра до ворот казармы и поехал дальше, на интендантский склад.
Петро испытывал потребность побыть наедине с самим собой. Сейчас о его награждении узнают друзья, потом он напишет Оксане. Как бы радовался батько, если бы можно было сообщить ему!
Петру представилось, как после войны он вернется домой, скинет воинскую одежду, снова примется за сады, а на пиджаке его будет поблескивать орден.
Об этом времени можно было только мечтать. Гитлеровцы продолжали наступать, – и никто не знал, где их остановят.
Петро смотрел на снег, покрывавший улицу, на озабоченных прохожих, на заклеенные белыми полосками окна зданий.
– Барышня одна спрашивала, старший сержант, – окликнул его часовой. – Записочку оставила.
Письмо было от Марии. Петро, отойдя в сторонку, вскрыл конверт, прочитал:
«Старшего политрука Олешкевича вчера эвакуировали в Куйбышев.
Мария.
Послезавтра уезжаю. Мы никогда уже больше не встретимся. Это я решила твердо. Если очень захотите узнать что-нибудь, навестите маму. Она будет рада».
Петро бережно сложил записку и прошел в ворота.
Сандунян встретил его у входа в казарму. Широко раскинув руки, он сгреб его в объятия.
– Молодец, Петя! Это же здорово! – воскликнул он, засматривая черными блестящими глазами в лицо друга. – Пойдем живо к нашим!
В полку уже знали, для чего вызывали Рубанюка к комдиву. Марыганов, комвзвода Моргулис, бойцы из других рот обступили его, заставили распахнуть полушубок, рассматривали награду.
До вечера Петро ходил, как в угаре, распивая с друзьями и знакомыми бойцами пайковую водку, терпеливо повторяя рассказ о том, как все произошло.
Перед сном он раздобыл бумагу и карандаш и сел писать Оксане.
XI
Полк получил пополнение. В первых числах ноября ротам выдали новенькие, в складской смазке, автоматы.
Бойцы искренне им обрадовались: до этого в полку насчитывалось всего несколько автоматов.
«Наверно, Москва и другие сюрпризы врагу готовит, – думал Петро, наблюдая, как старшина вынимал из ящика один за другим новенькие пистолеты-пулеметы. – Екатерина Ивановна была права».
Он вспомнил о ее гостеприимстве, о записке Марии и решил при первом же удобном случае навестить дом на Арбате.
Такая возможность представилась лишь в канун октябрьского праздника. Все дни перед этим в полку шла напряженная боевая учеба, и в город никого не отпускали.
Шестого ноября, получив разрешение, Петро тщательно побрился, разгладил гимнастерку, прикрепил орден и поехал на Арбат. В половине пятого он был там.
Екатерина Ивановна только; что пришла с завода. Она встретила Петра в прихожей с полотенцем, перекинутым через плечо. Пригласив его раздеться, она грустно спросила:
– О Маше уже знаете? Уехала. В школу снайперов.
– Настояла все-таки? Ну, упрямица!
– Очень своевольная!
– Она на фронт уехала?
– Нет, школа эта где-то под Москвой. В Вишняках, кажется. Машу ЦК комсомола направил.
– На передовую ее сразу не пошлют. Может, все учебой и ограничится…
Екатерина Ивановна только теперь заметила орден.
– О Петя, вас с наградой!
– Спасибо.
– Молодец! За что же это?
– Так, за одно небольшое дело.
– За небольшое? – спросила Екатерина Ивановна с недоверчивой улыбкой. – Разве такие ордена дают за небольшие дела?
– Знаете, на фронте подчас люди находятся в меньшей опасности, чем сейчас здесь, в тылу. Так что о Марии вы сильно не беспокойтесь.
– Спасибо, Петя.
За окнами быстро сгущались сумерки. Екатерина Ивановна замаскировала с помощью Петра окна, зажгла свет.
– Завтра праздник, – сказала она, – а на душе тревожно, нерадостно. Помните, как бывало раньше?
– Правда, что правительство выехало в Куйбышев?
– Да. Знаете, все умом понимают, что так нужно, а все же не унять какого-то тоскливого чувства. На заводе у нас крепкий народ, и то загрустили.
Екатерина Ивановна спросила:
– Вы сегодня не очень торопитесь? Могу вас угостить чаем.
– Большое спасибо! Я ведь на несколько минут забежал.
– Если бы вы не пришли навестить, совсем была бы тоска.
Беспрерывно грохотали зенитки, и Екатерина Ивановна, вздрагивая при каждом близком выстреле, сказала со смущенной улыбкой:
– Никак не могу привыкнуть вот к этому. Все нервы изматывает.
– Злятся фашисты. Завтра седьмое, а Гитлер ведь вопил, что в этот день парад на Красной площади устроит.
Петро посидел еще немного и, пообещав навестить как-нибудь, попрощался.
Он шел затемненными, обледенелыми улицами, по которым непрерывно двигались войска, танки. Сыпал густой снег, ветер трепал полы полушубка. Около ворот казармы Петру повстречался командир батальона Тимковский.
– Рубанюк? – окликнул он еще издали.
Голос у него был веселый, и Петро, подойдя, заметил, что комбат чем-то возбужден.
– Слышал? – спросил Тимковский.
– Что, товарищ капитан?
– Торжественное заседание транслировали, как и обычно…
– Сегодня?
– Да, только что. Завтра парад. Дивизия участвует.
Петро прибавил шагу и через две минуты был в казарме.
Здесь царило радостное оживление. Бойцы приводили в порядок свое обмундирование, брились.
Парторга Вяткина не было – его вызвал командир полка, но Арсен Сандунян подробно рассказал Петру о торжественном заседании.
– Понимаешь? – поблескивая глазами, повторял Сандунян. – Враг у самой Москвы, а мы, как и всегда, спокойны, праздник свой отмечаем…
XII
Седьмого ноября полк подняли до рассвета. Стрельников приказал построиться, лично обошел каждый взвод, строго осматривая одежду и снаряжение бойцов.
Около семи утра полк, дружно отбивая шаг, подходил к Манежной площади.
С хмурого свинцового неба сыпал колючий снег, но вверху, невидимые глазу, гудели барражирующие самолеты, и Петро с опаской думал: «Черт его разберет в этом снегопаде, чей летает! Ахнет парочку пятьсоткилограммовых».
До его слуха донесся чуть слышный перезвон кремлевских курантов. Где-то впереди бойцы пели о Москве. Улицы и площадь были расцвечены алыми флагами.
Рассекая сырые сугробы снега, ползли танки, шумно проносились мотоциклы со связными. Вдоль тротуаров расположились артиллеристы со своими орудиями, минометчики, стояли бойцы с противотанковыми ружьями.
У Исторического музея батальон Тимковского остановился. Отсюда были видны мавзолей Ленина, заснеженные купола храма Василия Блаженного, часть островерхих крыш здания ГУМ. Все было, как обычно, и лишь защитные чехлы на рубиновых звездах кремлевских башен напоминали о том, что фронт рядом, под самой Москвой.
Петро жадно вглядывался в смутные очертания знакомых строений, таких близких и дорогих сердцу каждого советского человека. Ветер нес с площади снег. На штыках оседали белые хлопья, в черных раструбах мощных громкоговорителей шуршало, попискивало. Вслушиваясь и всматриваясь, Петро думал о том, что он присутствует на таком параде, о котором люди будут вспоминать века.
Да, он и его друзья стояли на той самой Красной площади, где Гитлер обещал своим головорезам устроить седьмого ноября парад. Эта площадь видала и празднества, устраиваемые Петром Первым в честь победы над шведами, и солдат Суворова и Кутузова, отправлявшихся отсюда на битвы с вражескими полчищами. Здесь первые отряды Военно-Революционного комитета громили юнкеров. Здесь не раз выступал Ленин, и тут же, в мавзолее, покоится его священный прах.
Над площадью разнеслась протяжная команда. Эхом откликнулись голоса командиров, и бойцы начали выравниваться. Несколько мгновений было тихо, и вдруг со стороны мавзолея донеслись шумные аплодисменты.
Петру и его товарищам не было отсюда видно то крыло мавзолея, где обычно появлялись руководители партии и правительства во время народных праздников, парадов, демонстраций. Но, охваченные общим чувством ликования, Петро, Марыганов, Сандунян закричали «ура».
Бой кремлевских часов. Восемь ударов, низких и дрожащих, вплелись в шум ликующей Красной площади. И снова глубокая тишина. Послышался цокот копыт по брусчатке, заглушенные расстоянием слова рапорта.
Спустя несколько минут показался скачущий на коне, сопровождаемый могучими перекатами «ура» всадник. Петро узнал его сразу, еще издали. Это был Буденный. Легко и привычно сидя в седле, он подъезжал к войскам, прикладывая руку в перчатке к папахе. Поздравив с двадцать четвертой годовщиной Октября, круто поворачивал коня, скакал дальше. Когда он приблизился, Петро мысленно отметил, что лицо Буденного осунулось, но глаза, устремленные на бойцов, смотрели молодо и задорно.
Объезд закончился. Стихли приветственные крики, и после минутной паузы над площадью раздался четкий голос:
– Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники…
Говорил Сталин.
Голос над площадью звучал гулко, откликаясь многократным эхом:
– На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков.
Впереди Петра стоял Марыганов. Широкая, в нагольном полушубке, спина его словно была выточена из белого камня. Справа, подавшись вперед корпусом, застыл Сандунян. Глаза его горели. За ним стоял сивобровый боец с приоткрытым ртом, еще дальше вырисовывались напряженные лица других.
Петру внезапно вспомнились сейчас родной отец, мать, Украина… Он смотрел затуманенными глазами на серебристые от снега ели у зубчатых стен Кремля и думал о тополях над заснеженным Днепром.
Увидит ли он когда-нибудь их снова? Прикоснется ли загрубевшими, покрытыми ссадинами руками к плечу матери, к нежным молодым яблоням, что выращивал вместе с отцом?..
Над площадью прозвучало «ура», загремела дробь барабанов, и шеренги зашевелились, выстраиваясь к торжественному маршу.
Петро шагал рядом со своими боевыми товарищами, четко отбивая шаг, крепко прижимая ремень автомата.
Вот все яснее и четче видны темные контуры мавзолея, где стояли члены партии и правительства.
Внимательно глядя на проходившие части, они время от времени приветливо поднимали руки и улыбались бойцам.
Уже по ту сторону площади Петро негромко спросил Сандуняна:
– Запомнится этот день, Арсен? А?
– На всю жизнь, Петя.
До самой казармы они больше не перемолвились ни словом. Слишком большие и сложные чувства владели каждым, чтобы о них можно было говорить обыденными словами.
…Через два дня дивизия, пополненная и снабженная новым автоматическим оружием, выступила в сторону Солнечногорска.
XIII
В погожий зимний день сыпалась над Чистой Криницей алмазная изморозь. Низко стояло над заснеженными кровлями негреющее декабрьское солнце, сухо скрипел снег под ногами.
Остап Григорьевич, кутаясь в кожух, вышел на крыльцо. Ноздри его обжег чистый, крепкий, как спирт, воздух.
Словно изваянные из розового, оранжевого, сизого, самородного камня, застыли в строгой, холодной синеве неба столбы дыма над хатами.
В такой день хорошо сидеть в жарко натопленной, пахнущей свежими пирогами хате, слушать, как за окном потрескивают от мороза деревья.
Но Остапу Григорьевичу предстояло с самого утра идти в «сельуправу». Накануне бургомистр прислал бумажку: согласно постановлению райхсминистра Украины о введении трудовой повинности, в Германию надо направить из Чистой Криницы шестьдесят парней и дивчат.
Остап Григорьевич в раздумье постоял на крыльце. Небритый, похудевший за ночь, с ввалившимися от бессонницы и усталости глазами, он выглядел глубоким стариком.
В фашистскую неволю вместе с другими девушками-сверстницами он должен был послать и Василинку. Когда Василинка вечером узнала об этом, она побледнела, разрыдалась и решительно заявила:
– Не поеду! Нехай хоть повесят.
Остап Григорьевич и сам не представлял себе, как можно отпустить дочку на чужбину, к немцам. Если они здесь, на Украине, ведут себя по-зверски, то что же может ждать девушку в Германии, вдалеке от родного дома, без батька и матери?
Нет, из Чистой Криницы не поедет на каторгу и издевательства ни один человек! Остап Григорьевич еще не знал, как это ему удастся сделать, бургомистр шкуру спустит за невыполнение приказа. Но решение созрело твердо: в Германию он, Рубанюк, людей не даст.
Остап Григорьевич решил посоветоваться с Девятко. Еще до завтрака он пошел к нему.
Кузьма Степанович сидел на кухне в ватных стеганых штанах, в башмаках на босу ногу и читал газету. Пелагея Исидоровна кончала топить печку.
– Что там брешут? – спросил Остап Григорьевич, сметая у порога снег с валенок и кивнув на газету.
– А я, сват, их брехни не читаю, – быстро сказал Кузьма Степанович и сдвинул очки на лоб. – «Голос Богодаровщины» как-то я поглядел, так вроде на меня целую свору кобелей напустили. Вроде обгавкали.
Он даже крякнул и поежился, вспоминая, как разозлило его беззастенчивое вранье газетки, которую издавали в Богодаровке гитлеровцы.
– Я, Григорьевич, старую нашу «Правду» перечитывал, – сказал он. – Теперь я в каждое слово вникаю. Думаю над тем, что оккупанты у нас отняли.
– У меня уже от этих думок голова распухла.
– Палажка, дай свату стул.
– Не беспокойтесь. Я вот с краешку тут сяду.
Остап Григорьевич сел на низенький стул и смахнул с багрового от мороза лица капельки талого снега.
– Прислал бургомистр бумажку. Требует детей наших до Неметчины отправлять.
– Что ты?!
– Бож-же ж ты наш! – воскликнула Пелагея Исидоровна, слушающая разговор мужчин. – Это же и Настуньку нашу заберут.
– Мы свою не отдадим, – со скрытой угрозой сказал Кузьма Степанович.
– Об этом и пришел потолковать, – откликнулся Остап Григорьевич. – Скотину, зерно еще туда-сюда. Верх ихний. А детей… Это не скотина.
Опасливо озираясь на дверь, он изложил свои мысли: надо мобилизовать комсомольцев и предупредить молодежь, спрятать ее по глухим хуторам, у родственников и близких знакомых. Говорил он не совсем твердо: провести оккупантов и бургомистра было нелегко. Но Девятко поддержал его решительно.
– Надо прятать, – сказал он. – Обязательно! Они же их на свои заводы посылать хотят. Видишь, куда гнут. Нашими руками нас же и душить.
Комсомольцы, поставленные в известность Остапом Григорьевичем о предстоящем угоне молодежи в Германию, сделали свое дело быстро и скрытно.
К вечеру из Чистой Криницы исчезли все дивчата и парни. Малынец, обошедший с полицаями десятки дворов, удивленно сказал старосте:
– Утром сам видел Груньку Кабанцеву, а сегодня зашел – говорят, до Киева, мол, уехала. И у Горбачевых, у Нетудыхаты дивчат припрятали. Обижаться пан бургомистр будут.
– Раз нету, так какой же спрос? – сказал Остап Григорьевич. – Ты дюже не налегай, Никифор, на людей. С родной дытыной никому не охота расставаться.
Дома он велел устроить для Василинки в теплом чулане ложе, сам завалил его мешками и рухлядью. В хату приходила Василинка только на ночь. Соседям объяснили, что приезжала из Тарасовки тетка и забрала Василинку к себе в гости.
Через несколько дней в Чистую Криницу прибыл в сопровождении своей, охраны – двух автоматчиков – Збандуто. Он вызвал в «сельуправление» Остапа Григорьевича и, с трудом сдерживая ярость, спросил:
– Вчера прошел срок, господин Рубанюк. Доложите, как у вас идет вербовка рабочей силы?
– Так что, господин бургомистр, с этим делом прямо-та неважно, – ответил Остап Григорьевич. – Подевали куда-то дивчат, как, скажи, и не было их никогда.
– Вы что?! – крикнул Збандуто и даже поперхнулся от гнева. – Смеяться изволите?
– Не хотят люди детей отдавать.
– Вы болван или хитрец! Что значит… э-э… не хотят? Немцы за нас головы свои кладут, а вы саботируете? В тюрьму!
Обычно спокойный и уравновешенный, Остап Григорьевич вдруг разъярился и закричал:
– Что вы меня все тюрьмой стращаете, пан бургомистр?! В тюрьму злодеев сажают. А среди Рубанюков не было ни воров, ни конокрадов, ни убийц. Никогда не было и не будет!
– Завтра лично представите в Богодаровку шестьдесят человек, – сказал твердо Збандуто. – Ваша меньшая дочь где?
– Она у тетки. Сестра у меня бездетная, ей интересно, что бы племянница погостила.
– Вижу вас насквозь, господин Рубанюк, – угрожающе предупредил Збандуто. – Вы мне голову не морочьте.
К удивлению Остапа Григорьевича, бургомистр ругаться больше не стал. Он задал несколько незначительных вопросов и уехал. Однако, перед тем как покинуть село, Збандуто пробыл около часа у Малынца, и Остап Григорьевич подумал: «Не к добру обмякла ехидна проклятая. И до почтаря завернул пан бургомистр выпытать, что к чему. Повадка известная».
Что бургомистр замышлял против него каверзу, – было Остапу Григорьевичу ясно из того, что Пашка Сычик под разными предлогами старался находиться все время поближе к нему, чрезмерно заискивал перед старостой и юлил.
Но, возвращаясь перед вечером домой, Остап Григорьевич встречал приветливые взгляды криничан, и на душе его становилось легче.
Поздно вечером из района приехал Алексей Костюк. Прямо с дороги он забежал к Рубанюкам.
– Выйдите на минутку, – позвал он Остапа Григорьевича, дыша на скрюченные от холода пальцы.
В сенях, плотно прикрыв дверь из кухни, он вполголоса сказал:
– Сегодня же ночью, дядько Остап, куда-нибудь сматывайтесь. Видел приказ коменданта. Арестовать вас хотят. Утром гестаповцы прибудут.
– Спасибо, Леша, – сказал Остап Григорьевич. – Я об этом и сам догадывался. Ты, сынок, Пашку Сычика забери. Он у соседей торчит, подглядывает.
– Я его горилкой напою. От этого он никогда не отказывался. Бутенко увидите, поклон ему.
Проводив Алексея до ворот, Остап Григорьевич вернулся в хату.
– Что он прибегал? – спросила Катерина Федосеевна.
Старик рассказал. Выпытав подробности, Катерина Федосеевна с несвойственной ей непреклонностью и решительностью заявила:
– Соберу тебе харчей на дорогу, и сейчас же иди. Тебе лучше знать, куда податься.
Остап Григорьевич сумрачно посмотрел на нее. Встретившись с ее жалостливым, тревожным взглядом, он ответил:
– Уйти – это не вопрос. А вот вас за меня тягать, казнить будут.
– Как-нибудь за людьми проживем. Ты не беспокойся. Василинку завтра с Настунькой Девятко отправим до родственников. Со сватьей мы уже столковались.
Василинка и Сашко́ спали на печке. Будить их не стали. Пока Катерина Федосеевна доставала портянки, укладывала в холщовый мешок харчи и белье, Остап Григорьевич пошел на другую половину проститься с невесткой и внучонком.
Александра Семеновна только что задремала. Услышав скрип двери, она испуганно, шепотом спросила:
– Это вы, папа?
– Ухожу, Саша.
– Подождите, я оденусь.
Александра Семеновна, не зажигая света, быстро накинула на себя полушубок и вышла в кухню.
Остап Григорьевич, взобравшись на лежанку, молча глядел на детей. Такая тревога была в глазах старика, что Александра Семеновна сразу же поняла все.
– Будут про меня спрашивать, – по-хозяйски строго сказал Остап Григорьевич, слезая с лежанки, – стойте на одном: вызвал, мол, кто-то ночью из приезжалых. И не вернулся, мол.
– Ты иди, ради бога, – сказала Катерина Федосеевна. – Найдем, что сбрехать.
– Детишек берегите. Я далеко не пойду. Ганну не повидал, жалко. Передайте, пусть… Ну, она сама знает… Пусть крепко держится, чему наша партия учила.
Остап Григорьевич обнял жену и невестку. Нахлобучив поглубже шапку, он переступил порог.
За воротами с минуту постоял. Снег, белевший в ночном полусумраке, делал его слишком приметным.
Остап Григорьевич, поскрипывая валенками, пошел в сторону площади. Потом, не доходя до больницы, свернул обратно к огородам и пошел в сторону Богодаровского леса.
XIV
С утра небо затянуло тучами, мороз отпустил. Медленно падали редкие хлопья снега. Потом посыпало гуще. С юго-запада подул резкий ветер: он не давал снежинкам оседать, озорничая, швырял их пригоршнями в стены и окна криничанских хат.
Катерина Федосеевна заметила сквозь залепленное мокрым крошевом стекло пронесшиеся сани с людьми и прильнула к окну.
Мимо двора к площади проехало трое саней, потом еще двое. Кутаясь в шинели, на санях жались друг к другу солдаты. На предпоследних санках, тавричанского фасона, пряча голову в воротнике романовского полушубка, сидел Збандуто.
Томясь от недоброго предчувствия, с трудом передвигая ноги, Катерина Федосеевна отошла к печи, поставила в угол припечка чугун, привычным движением закрыла заслонку.
После того как ушел Остап Григорьевич и чуть свет убежала к Девятко Василинка, хата казалась ей пустой, хотя за сенями, в чистой половине, Сашко́ шумливо играл, с Витей, стучала швейной машинкой невестка.
Катерина Федосеевна ждала, что мужа хватятся очень скоро, поэтому не удивилась, когда на подворье появились Пашка Сычик и три солдата.
Сычик без стука вошел в хату, и, распахнув двери, позвал солдат.
– Холода не напускай, Паша, – сказала Катерина Федосеевна. – Сейчас же не лето.
– Хозяин где, тетка Катря? – спросил Сычик, оставив без внимания ее замечание.
– А он мне не докладывает, куда ходит.
– Ну, то мы люди не гордые, поищем.
Сычик оттеснил ее локтем от двери и кивнул солдатам. Катерина Федосеевна молча наблюдала, как солдаты обшаривали все уголки хаты, заглядывали в сундуки. Она даже сама подивилась спокойствию, с которым встретила пришедших. А они, потребовав лестницу, полезли на чердак, потом обыскали сараи, клуню. Сычик оттаскивал мешки и кадушки, постукивал в стены с таким добродушным видом, словно выполнял приятную для хозяйки и для себя работу. Вытерев рукавом испарину на лбу и подмигнув Катерине Федосеевне, он нагло спросил:
– Опохмелиться нечем у вас, тетка Катря? Что-то голова болит.
– Нету, – коротко отозвалась Катерина Федосеевна. – Ты ж по всем куткам шаришь, сам видишь.
– А и жадная хозяйка!
Катерина Федосеевна промолчала.
Сычик, тщетно перерыв все в хате и на подворье, угрюмо заявил:
– Одевайтесь, тетка Катря, пойдем до «сельуправы».
– Чего я там не видела? Никуда я не пойду.
– Да уж извиняйте, придется, – ухмыльнулся Сычик. – Некультурно будет, если силком поволочим по селу.
Александра Семеновна, с тревогой наблюдавшая за обыском, сказала:
– Идите, мама. Я сейчас тоже приду.
Катерина Федосеевна покосилась на солдат и стала одеваться. Велев Сашку́ не отлучаться с подворья, она пошла за Пашкой и солдатами.
В «сельуправе» хозяйничал Малынец. Збандуто письменным распоряжением назначил его старостой, и почтарь, упоенный властью, был особенно словоохотлив.
В сенцах толпились криничане, вызванные к старосте. В углу, расстегнув полушубок, сидел Збандуто.
– Садитесь, пан Грищенко, – любезно предлагал Малынец, глядя не на него, а на бургомистра.
Крестьянин неохотно присаживался.
– Что же вы свою Варьку прячете? – укоризненно качая головой, упрекал его Малынец. – Нехорошо, пан Грищенко. Мы их на культурную жизню приглашаем, а вы… Они там в Германии с вилочек, ножичков кушать будут… Булочек, франзолек белых пришлют, а вы…
– Нехай она, пан староста, лучше с ложки ест, да с батькой, – угрюмо отвечал крестьянин.
– Глупые разговоры, – менял тон Малынец. – Завтра вашу Варьку в «сельуправу» пришлите. Все одно мы ж ее найдем.
Пока Малынец укорял, упрашивал, бранился, полицаи и солдаты ходили по селу с облавой. К вечеру человек пятнадцать, получивших повестки об отправке в Германию, были схвачены и заперты в помещении школы.
Катерину Федосеевну продержали в «сельуправе» до вечера. Так и не дознавшись у нее, где находится муж, Збандуто приказал ее отпустить.