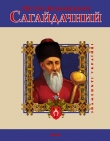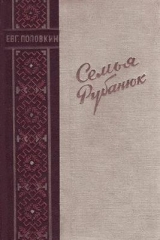
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 59 страниц)
– Что увидел? – спросил Олешкевич.
– Землячку. Из Чистой Криницы…
Олешкевич взял газету, посмотрел на портрет девушки.
– И до войны летчицей была?
– Рядовой колхозницей. В звене у сестры работала.
– Молодец! Ну, так ты на мой вопрос не ответил.
– Вы спрашиваете, чем я думаю после войны заняться. Самым что ни на есть мирным делом. Садоводством.
– В армии нет желания остаться? Пожизненно?
– Откровенно говоря, нет. Я человек сугубо мирный. Предпочитаю рыть землю для сада, а не для окопов. Если бы нас не трогали, я бы с большим удовольствием занимался агрономией.
Олешкевич еще долго расспрашивал о партизанах, о Сандуняне, потом сказал:
– Ну, иди, Рубанюк. Готовь свою роту. Самое серьезное еще впереди…
Бои предстояли жестокие. Противник сильно укрепил высоты перед Севастополем: Сапун-гору, Горную, Кая-Баш, «Сахарную голову». В штаб армии был доставлен захваченный разведчиками приказ главнокомандующего армейской группой «Южная Украина» генерал-полковника Шернера от 20 апреля 1944 года. Генерал писал:
«В ходе боев нам пришлось оставить большую территорию. Ныне мы стоим на грани пространства, обладание которым имеет решающее значение для дальнейшего ведения войны и для конечной победы. Сейчас необходимо каждый метр земли удерживать с предельным фанатизмом. Стиснув зубы, мы должны впиться в землю, не уступая легкомысленно ни одной позиции… Наша родина смотрит на нас с самым напряженным вниманием. Она знает, что вы, солдаты армейской группировки „Южная Украина“, держите сейчас судьбу нашего народа в своих руках».
* * *
Рота Петра была в числе штурмующих. За ночь, несмотря на беспрерывный обстрел, она выдвинулась вперед, к проволочным заграждениям у безыменной высоты, и хорошо зарылась в землю.
Чуть светало… Ярко-зеленая звезда, низко повисшая над темным кряжем, казалась взвившейся вверх ракетой. Голая с крутыми каменистыми скатами гора тонула в предутреннем голубоватом сумраке. Перед ней, правее и левее, синели очертания других высот; ветерок налетал из-за них порывами, оставлял на губах солоноватый привкус моря.
Обходя воронки, Петро подошел к укрытиям, где расположились подрывники, приданные его роте. Среди многих голосов он различил басок Евстигнеева. Слышался стук ложек. По ходу сообщения Петро прошел в укрытие, поздоровался.
– Завтракаем сегодня рано, товарищ гвардии старший лейтенант; – доложил Евстигнеев. – Обедать в Севастополе придется.
– Севастопольцы есть здесь? – спросил Петро.
– Есть! Стрижаков.
– Павлуша, отзовись…
– Я!
Поднялся худощавый, невысокий солдат. Держался он с Петром почтительно и в то же время с достоинством человека, видавшего всякие виды и уверенного в себе. Петро не смог сразу определить, сколько ему лет: за двадцать или все тридцать.
– Родились в Севастополе? – спросил Петро, обращаясь к севастопольцу на «вы», хотя большинству солдат, по фронтовой привычке, говорил «ты».
– Никак нет.
– Что ж, долго жили в нем?
– Не довелось. Оборонял в тыща сорок первом.
– А-а… тоже севастополец… Справедливо! Если возьмем гору, будет виден город?
– Как на ладошке… Там уж зацепиться фрицу не за что.
– Значит, сопротивляться будет отчаянно.
– Точно! Ну, сковырнуть его можно быстро. Запсиховал фриц… Думает о своей гибели, а не о победе. Это уже вояка никудышный…
– Сумеем первыми на высоту прорваться?
– Надо, товарищ командир роты. Я припас… Вот… Солдат извлек из-за пазухи алый кусок материи, развернул.
– Мечтаю первым достичь.
– Это по-гвардейски…
Позже, побывав у бронебойщиков, минометчиков, Петро увидел красные флажки у многих. Солдаты оживленно переговаривались, шутили, и Петро понял, что, пожалуй, в этом спокойствии людей, которым предстояло штурмовать сильно укрепленную гору, таилось для противника самое страшное.
Люди не только страстно хотели поскорее выбить противника из последнего, севастопольского, укрепленного района. Они знали, что сумеют сделать это так же мастерски, как и под Перекопом, на Сиваше, под Керчью…
Едва с рассветом началась артиллерийская обработка высоты, Петро быстро добрался к своему наблюдательному пункту. И здесь, приглядываясь к солдатам, которые должны были находиться при нем во время боя, Петро увидел, что и они так же оживлены, как те, кто ожидал в укрытиях сигнала к атаке.
Артиллерийская канонада все усиливалась, сливаясь в общий, несмолкаемый гул.
– Такого еще не было, – громко и восхищенно сказал пожилой солдат, наблюдавший из-за бруствера окопчика за происходящим.
Противник открыл ответный огонь. Снаряды и мины ложились то позади, то впереди наблюдательного пункта Петра. В безветренном, по-летнему жарком воздухе дым и пыль становились все гуще. Из-за гребня горы поднялось солнце; темный диск его проглядывал будто сквозь закопченное стекло.
За грохотом Петро не слышал, как над его головой низко пронеслись штурмовики. Он увидел их, когда рев моторов заполнил все бездонное небо. А к вершине горы, еще дрожавшей от ударов «илов», уже плыли бомбардировщики…
Во вражеские траншеи штурмующие группы ворвались через несколько минут после того, как над исходными позициями со свистом взвилась ярко-красная ракета. Первая высота была захвачена.
Петро перенес вперед наблюдательный пункт. Но еще до того, как он расположился со своими связными в глубокой воронке, которую чья-то бомба, словно нарочно, разворотила на удобном для энпе взгорке, гитлеровцы перешли в контратаку. Враг был тотчас же отброшен.
Лишенные растительности и почти отвесные скаты горы, густо покрытые железобетонными дотами, проволочными заграждениями, дымились, вздрагивали от разрывов.
В боевые порядки штурмующих групп и стрелковых подразделений артиллеристы выдвинули свои пушки, и штурм горы возобновился. Это была третья атака за день.
Медленно, шаг за шагом вгрызаясь в оборону врага, стрелки через час заняли первую линию траншей противника и с неимоверными усилиями продолжали пробиваться вперед.
Меняя наблюдательный пункт, Петро попал под пулеметный огонь, пополз, вскочил в развороченную снарядом траншею.
Она вся была завалена трупами вражеских солдат. Два пулеметчика из роты Петра, в мокрых, прилипших к телу гимнастерках, пытались установить на бруствере «максим».
– Черт!.. Поставить негде…
Петро выкарабкался и поспешил за связистами, тянувшими кабель.
К полудню у противника оставался только гребень высоты, но держался он за него упорно, и продвижение стрелков снова застопорилось.
Особенно досаждал наступающим пулеметный огонь из амбразур большого бетонного дота. Его долго и сосредоточенно обстреливали тяжелые орудия, бомбили штурмовые самолеты. Но как только поднималась пехота, из амбразур дота снова хлестал огонь крупнокалиберных пулеметов и прижимал атакующих к земле.
Рота Петра несла потери, орудия сопровождения отстали, и пока артиллеристы тянули их на лямках в гору, командиры взводов пытались прорваться вперед под прикрытием огня бронебойщиков и минометов.
– Что ж вы, гвардейцы?! – хрипло кричал впереди младший лейтенант. – Или сил не хватает?.. Не дадим им удрать из Севастополя… За мной, орлы!..
Он встал во весь рост и тут же упал, срезанный пулеметной очередью.
Петро понял, что теперь не оторвешь людей от земли, а это-то и было губительным: гитлеровцы вели по ним прицельный огонь.
Надо было во что бы то ни стало блокировать проклятый дот, ослепить, раздавить его!.. Петро глядел на бетонную грибообразную глыбу с узкими амбразурами, и у него перехватывало горло от ярости. Никаких скрытых подходов к доту, которыми могли бы пробраться подрывники, не было.
А Тимковский, нервничая, поминутно требовал:
– Поднимай людей! Что залегли? До утра будете тянуть?!
Петро с большим усилием сдерживал желание броситься лично в атаку. Может быть, ему удалось бы увлечь людей, оторвать их от земли… Но рассудок подсказывал другое: так можно поступить лишь в отчаянии. В лоб здесь не возьмешь.
– Принимаю меры к блокированию дота, – доложил он Тимковскому. – Прошу прибавить огонька…
Петро вызвал Евстигнеева, поручил возглавить группу и вместе с ней обезвредить дот.
– Да-а, без этого не продвинемся, – сказал Евстигнеев, измеряя прищуренным глазом расстояние до противника. И вдруг радостно воскликнул: – Флажок!..
Солдаты тоже заметили красный лоскут материи на гребне по цепи понеслись восторженные крики:
– Флажок! Флажок!.. Товарищ комроты, глядите!
Петро видел, что фашисты еще бьют из дота, но огонь их уже ослабевал. Красный флажок, поднятый каким-то смельчаком в тылу у противника, создал в настроении атакующих тот перелом, который должен был обеспечить успех атаки.
Петро вскочил на бруствер, поднял над головой автомат:
– Вперед, гвардейцы! Высота наша!
Он взбирался вверх не пригибаясь, хрипло дыша. Только один раз оглянулся… Гвардейцы поднимались за ним цепью, стреляя на ходу, скользя по крутому подъему. Сзади, не отставая от пехоты, волокли орудия артиллеристы. На плечи людей, на развороченную землю оседала белая, горьковатая пыль.
Уже на самом гребне Петро смахнул пот, заливавший глаза, огляделся.
Из траншей, испуганно вскинув руки, вылезали один за другим вражеские солдаты. Офицер, в мятом, испачканном известняком и глиной кителе, без головного убора, признав в Петре командира, шагнул к нему. Не опуская рук, услужливо доложил:
– Цейн зольдатен… ейн официр… Плен…
Из окопов, укрытий, щелей карабкались все новые и новые группы гитлеровцев. Петро, приказав одному из лейтенантов разоружать их и направлять на пункт сбора пленных, прошел с Евстигнеевым вдоль линии вражеской обороны.
В некоторых траншеях еще сидели растерянные, оглохшие от обстрела и бомбежки солдаты. Они робко и подобострастно следили за каждым движением Петра и Евстигнеева, заискивающе улыбались.
– Вылезай, хриц, вылезай! – покрикивал Евстигнеев.
Тучный лысый ефрейтор с бурыми от пота пятнами подмышками, уцепившись грязными руками за кромку щели, пытался выкарабкаться и никак не мог. Из-под скрюченных, с крупными заусенцами, пальцев его сыпалась рыхлая каменистая порода. Не спуская с Петра округленных от страха глаз, он с силой уперся тяжелым ботинком в грудь раненого, лежащего на дне щели, и, наконец, выбрался. Раненый застонал, но толстяк даже не обернулся.
– Эх, пес, а не человек! – выругался Евстигнеев.
– Не задерживаться! – донеслась до, слуха Петра команда. – Вперед, на Севастополь!..
Петро узнал голос Тимковского. Придерживая рукой полевую сумку, он подбежал к комбату.
Тимковский, возбужденный и сердитый, отдавал какое-то приказание начальнику своего штаба и одновременно переругивался с артиллерийским капитаном. На груди у него болтался вынутый из чехла бинокль; Тимковский брался за него, подносил к глазам, но его то и дело отвлекали.
К Петру подошел Сандунян, по-прежнему командовавший пулеметным взводом.
– Ругается – значит, доволен, – сказал он, показывая на комбата одними бровями. – Когда сердит, – вежлив, как… японский дипломат…
Петро засмеялся. Они закурили. Пыхнув папироской и уже спокойнее поглядев по сторонам, Петро только сейчас увидел внизу, в легкой дымке, зеленое море, бледно-золотые облака над ним, серые квадраты города… Он схватил Сандуняна за рукав гимнастерки:
– Севастополь!.. Арсен, да посмотри же!
Перед ними лежал город, о котором они за годы войны слышали столько легендарного!.. Он казался совершенно вымершим, безлюдным. Даже издали было видно, что строения разрушены, закопчены пожарами. И сейчас, справа, в районе южной бухты клубился угольно-черный дым.
– Это возле Графской пристани горит, – сказал кто-то. К городу спускались с горы тягачи, пехота… Штурмовики и тяжелые бомбардировщики обрушивали свои удары уже где-то дальше, за, городом.
Предстояло овладеть третьим рубежом обороны противника, и впереди уже велась разведка боем.
Потеряв ключевую высоту перед Севастополем, захватчики не могли оказать серьезного сопротивления. Днем, девятого мая, рота Петра вела бой у самых окраин города. К ночи разведчики ворвались в предместья. Через несколько часов наши орудия уже открыли огонь с Северной стороны…
Гитлеровцы, теснимые частями Четвертого Украинского фронта и Отдельной Приморской армии, отходили на последний свой рубеж в Крыму – к Херсонесу…
На рассвете Тимковский разыскал Петра в полуподвальной комнате трехэтажного жилого дома. В здании были выбиты все окна, пол усеян стеклом и штукатуркой. Лежа в самых разнообразных позах, спали солдаты. Петро, уронив на руки голову, со сбившейся на затылок фуражкой, сладко похрапывал в углу, около низенького детского столика.
Тимковский постоял над ним, тихонько потянул за прядь полос.
Петро вскочил, красными, воспаленными глазами посмотрел на майора.
– Все царство небесное так проспишь, – сказал Тимковский. – Поднимай роту, пойдем фашистов добивать…
Он показал на карте, куда нужно Петру вести людей. Петро поднял роту, забрал каску и автомат.
В полутемном коридорчике, очевидно служившем жильцам квартиры прихожей, он мимоходом взглянул в расколотое снизу доверху зеркало и так и застыл с протянутой к двери рукой. На него удивленно смотрел какой-то чумазый детина, с впавшими, небритыми щеками и вымазанным известкой носом.
Петро задержался у зеркала, немного привел себя в порядок и, вскинув автомат по-охотничьи, на плечо, вышел на улицу.
По изрытой взрывами брусчатке шли саперы с миноискателями, моряки, тянули провод связисты.
Пехотный майор в перетянутой ремнями шинели помогал растащить сбившиеся в узком проезде повозки.
– Ну, куда вас черти несут? – беззлобно кричал он на ездовых. – Фрицы еще в городе…
Повозочные, флегматично помахивая кнутами, упрямо пробивались куда-то вперед, к центру.
Над израненным, превращенным в камни и щебень городом поднималось утро… В легкой дымке вырисовывалась перед Петром гавань, Корабельная сторона. У памятника погибшим кораблям, то совершенно скрывая его, то четко вычерчивая белую высокую колонну, вздымались к прозрачно-синему небу исполинские клубы черного, жирного дыма. Петро вспомнил, что там еще с вечера было подожжено нефтеналивное судно.
С возвышения, на котором стоял дом, приютивший Петра и его роту, были видны контуры здания Севастопольской панорамы, памятник Тотлебену. Они были знакомы Петру по фотографиям.
Откуда-то, с горы, затянутой свинцовым маревом, протягивались в сторону Херсонеса бесшумные огненные пунктиры: били гвардейские минометы. Гитлеровцы беспорядочно и как-то вяло стреляли по городу из орудий. Снаряды рвались то на голых холмах, за окраиной, то в бухте.
На них никто не обращал внимания. Более неприятным было частое повизгивание пуль: трудно было определить, откуда стреляют…
Проходивший мимо Петра пожилой связист с катушкой провода беспокойно говорил своему спутнику, тащившему вслед за ним два телефонных аппарата:
– Шальных пуль сколько…
– Пули – дуры, – откликнулся солдат, – вот мину как бы не достать из-под земли ногой…
Связисты посторонились, уступая дорогу трем солдатам, катившим по тротуару внушительный бочонок.
Бочонок был массивный, крепкой работы, в нем тяжело плескалась какая-то жидкость, и солдаты, заметно взбудораженные, хлопотали около него с хозяйской рачительностью и усердием. Один из них, в мешковатой гимнастерке и рыжих обмотках, деловито покрикивал встречным:
– Поберегись, ребята!..
В нескольких шагах от Петра катившие бочонок остановились передохнуть. О чем-то таинственно переговариваясь, они оживленно жестикулировали.
Потом Петро слышал, как солдат в обмотках дружелюбно объяснял невесть откуда вынырнувшим двум морячкам-патрульным:
– Масла подсолнечного разжились… Верно говорю, масло…
– Ну и жадные вы! Зачем вам столько масла? – укоризненно говорил мрачный на вид моряк с черными бачками на висках, принюхиваясь к бочонку.
– Так это… На общее, сказать, питание… Всей хозкоманде, – отстаивал солдат в обмотках, ревниво придерживая бочонок рукой.
– Нет, дядя, ты пушку не заливай, – строго сказал моряк с бачками. – Никакое это не масло, а чистый спирт… Понял? А спирт хозкоманде ни к чему…
Беззвучно смеясь, Петро наблюдал, как бочонок, подталкиваемый расторопными морячками, покатился дальше, глухо погромыхивая по камням, подпрыгивая на выбоинах.
– Приходите… Полведерка отпустим, – пообещал второй моряк, оглядываясь на заметно приунывших солдат и широко улыбаясь. – Пожертвуем за труды…
Петро подождал, пока его рота разобрала свое оружие, построилась, и повел ее запруженными улицами и переулками к Камышевской балке.
У одного из перекрестков, над рядами колючей проволоки, стоял воткнутый в землю шест с прибитой к нему дощечкой. На ней было написано:
СТОЙ! КТО ПРОЙДЕТ ДАЛЬШЕ, БУДЕТ РАССТРЕЛЯН!
Мимо грозной надписи прошли посмеиваясь. Кто-то из задних рядов ударом ноги вывернул шест с дощечкой из земли, отшвырнул далеко в сторону, к куче щебня, золы и ржавого железа.
XI
Немецко-фашистские захватчики удерживали теперь в Крыму лишь Херсонесский мыс с Камышевской бухтой, в которой на скорую руку было сооружено несколько временных причалов.
Сюда, в район селения «Максим Горький», хлынули толпы вражеских солдат. Командир сто одиннадцатой пехотной дивизии генерал-лейтенант Грюнер, представлявший в эти последние часы боев за Крым гитлеровское командование, приказал срочно строить вторую линию обороны. Он рассчитывал, задержав натиск советских войск, эвакуировать остатки крымской группировки в румынские порты на кораблях, обещанных Гитлером.
Но солдаты и большая часть офицеров, бросая в панике имущество, устремились к морю в надежде попасть на суда. На них уже не действовали никакие увещевания и угрозы фанатиков офицеров и генералов, которые, вопреки здравому смыслу, пытались продолжать сопротивление.
Начальник штаба сто одиннадцатой пехотной дивизии подполковник Франц посоветовал Грюнеру отправить к русским парламентера для переговоров о сдаче. Он даже предложил для выполнения этой миссии свои услуги, но Грюнер резко и категорически отклонил его совет.
Огонь советских войск по Херсонесу все усиливался. Над клочком земли, в который вцепились гитлеровцы, беспрерывными волнами появлялись штурмовики.
Прорвавшись в бухту сквозь плотный заградительный огонь советских батарей, четыре вражеских судна смогли принять на борт лишь незначительную часть солдат и офицеров из тридцати тысяч, скопившихся на Херсонесе. Два корабля тут же были потоплены советской авиацией.
Паника и хаос усилились еще больше, когда распространился слух, что генералы Бэмэ и Грюнер, переодетые в летние комбинезоны, собрались бежать на самолете, который круглые сутки держали наготове.
У маленьких суденышек около причалов началась неописуемая давка. Сталкивая, друг друга в море, ругаясь и схватываясь в кулачной потасовке, незадачливые покорители Крыма старались как можно быстрее покинуть землю, которая жгла им пятки.
Двенадцатого мая советские войска мощным ударом танков и пехоты взломали оборону противника и, подавляя разрозненные группки сопротивляющихся солдат и офицеров, начали распространяться по Херсонесскому полуострову…
…Петро из своего неглубокого укрытия в расщелине меж камней, которое даже не хотелось ему «обживать», видел, как цепь вражеских солдат, с которой рота уже несколько часов вела перестрелку, внезапно дрогнула. Часть гитлеровцев побежала, некоторые продолжали отстреливаться.
Петро поднял солдат, и они рванулись вперед с такой яростью, что даже самые упорные из фашистов побросали оружие и торопливо подняли руки.
Проходя мимо пленных, Петро обратил внимание на то, что большинству из них давно перевалило за третий десяток и что, судя по регалиям, болтавшимся на их грязных мундирах и кителях, его роте довелось вести последний бой в Крыму с матерыми вояками.
– Капут! – кратко подытожил Арсен Сандунян, догоняя Петра, шагавшего вместе с Евстигнеевым к морю.
– Сработано чисто, – весело улыбаясь и усталым жестом вытирая пыль со лба, откликнулся Петро.
– Сколько же их тут! – удивлялся Евстигнеев, осматриваясь. Подозрительно разглядывая злые, грязные лица фашистов, он на всякий случай держал свой автомат наготове.
Небольшое пространство древнего Херсонесского полуострова было заполнено толпами оккупантов. На развороченной, пахнущей дымом и гарью земле валялись вперемешку с трупами людей и лошадей опрокинутые автомашины, орудия, остовы разбитых самолетов. Чем ближе к бухте, тем гуще была усеяна земля брошенными чемоданами с награбленным добром, ящиками с продуктами, бутылками, консервными банками, медикаментами, рулонами бумаги, деньгами, порнографическими открытками и сентиментальными семейными фотографиями, коробками с шоколадом и древесным спиртом, пачками сигарет.
Пленные, окликая друг друга гортанными резкими голосами, понукаемые своими офицерами и ефрейторами, собирались в кучу, строились.
– Эти уже отвоевались, – с удовольствием сказал Сандунян Петру.
– Разрешите, товарищи офицеры? – окликнул их низенький шустрый лейтенант с «лейкой» в руках и с какими-то футлярами, сумочками, чехольчиками на боку. – Херсонес очищали? Минуточку…
Петро и Арсен машинально поправили головные уборы, одернули гимнастерки.
– Так… А вы, папаша, извиняюсь, гвардии старшина, в серединку, – командовал фотокорреспондент. – Фриц, фриц, стань там… Хир!.. Дорт!.. Отлично!..
Щелкнув, он справился:
– Не больно? Тогда еще разочек… Великолепно… Папаша, подбородочек повыше… Ус не надо крутить… Превосходно!.. Минуточку… Фамилии…
Он исчез так же стремительно, как и возник.
– Бойкий! – похвалил Евстигнеев.
– Корреспонденту иначе нельзя, – сказал Петро.
Они дошли до крутого, кремнистого обрыва над морем, глянули вниз.
Море отделялось от обрыва узенькой кромкой песка, утыканного крупными валунами и отполированном волнами галькой. Пленные кишели на этой узенькой прибрежной полосе, как раки. Они бросали в плещущиеся волны оружие, документы… Лица их были зелеными, как морская вода.
От моря тянулись высеченные в скале лестницы. У одной из них стоял мокрый с ног до головы немецкий офицер; размахивая руками и почему-то коверкая слова, он истошно кричал вниз:
– Камрад! Сюда!.. На гора…
Сандунян принялся подсчитывать поднимающихся на берег пленных:
– Сто… Сто пятьдесят… двести…
– Их без нас потом сосчитают, – махнув рукой, сказал Петро.
Он беззлобно смотрел на давно не бритые, растерянные и угрюмые лица врагов, и вдруг его внимание привлек шум, одиночные выстрелы.
– Старшина, узнайте, в чем дело, – поручил Петро Евстигнееву.
Выстрелы стали чаще, и Петро, вынув из кобуры пистолет, поспешил вслед за старшиной.
За несколько десятков шагов он увидел небольшую, плотно сгрудившуюся кучку гитлеровцев. Они отстреливались от наседающих бойцов. Высокий старый офицер, яростно размахивая парабеллумом, что-то кричал. Потом, не целясь, он выстрелил.
– Генерал ихний, – крикнул бежавший рядом с Петром лейтенант и, опустившись на колено, вскинул автомат, зашарил пальцем по спусковому крючку.
– Не бей! – Петро ударил кулаком по стволу автомата, но лейтенант уже успел дать короткую очередь. Генерал ухватился рукой за плечо и выронил револьвер.
Петро метнулся к нему и вдруг согнулся, взялся обеими руками за живот. Сделав несколько мелких шагов, он со стоном стал валиться на бок.
Сандунян прибежал минутой позже. Он видел, что в Петра выстрелил стоявший за спиной генерала рослый немецкий офицер со многими орденскими ленточками на кителе.
Зажав в кулаке рукоять пистолета, Арсен бросился на стрелявшего. Заметив его сверкающие глаза, искаженное бешенством лицо, офицер попятился, рывком поднес к своему виску пистолет и застрелился.
Сандунян склонился над Петром. Он лежал, подвернув под себя руку, на зеленых бриджах густо проступала кровь.
…Очнулся Петро спустя несколько минут. Рана в верхней части живота нестерпимо горела.
Над ним вполголоса разговаривали. Петро с усилием открыл глаза и увидел командира полка Стрельникова и Олешкевича. Не разжимая зубов, он тихонько всхлипнул.
– Ну, ничего, ничего, – сказал Стрельников. – Живой… Заштопают, все будет в порядке…
– Пуля в животе осталась, – произнес женский голос – Надо срочно в госпиталь… Помогите, товарищ лейтенант. Чуть-чуть приподнимите…
От резкой боли в животе Петро снова лишился сознания… Очнулся он в санитарном автобусе.
Машина катила медленно и плавно, мягко шурша по асфальту шоссе. Покачиваясь на висячих носилках, Петро медленно размежил веки… В автобусе было душно, сильно пахло иодом, эфиром… Один из раненых непрерывно стонал, потом хриплый голос его перешел в рыдание. Рядом с ним сидела девушка, держа в своих руках его желтую, безжизненную руку.
– Куда мы? – слабо шевеля губами, спросил Петро. – Слышите, сестра?
– В госпиталь, в госпиталь… Скоро уже…
Вдоль шоссе тянулись нескончаемые колонны пленных. Петро безразлично смотрел на них. Заросшие щетиной, запыленные, они шли медленно, без конвоя, потом вдруг начинали почему-то бежать, сбиваясь в кучу, наталкиваясь друг на друга…
Автобус, гудя, обогнал голову колонны, и Петро неожиданно заметил сквозь стекло Сергея Чепурного. Моряк ехал рысью, впереди колонны пленных, понукая каблуками и хворостиной свою неказистую, явно трофейного происхождения кобыленку. Ноги его в широких матросских брюках были раскорячены, бескозырка лихо сдвинута на затылок.
Увидев, что колонну обогнал автобус, Чепурной махнул прутиком, сжал каблуками вспученные бока кобыленки:
– Шнеллер!..
Петро еще несколько мгновений видел покорно ринувшуюся за моряком колонну и вновь впал в забытье.
XII
Через несколько дней после операции Петро спросил у хирурга во время перевязки:
– Крепко меня заштопали? Скоро выпишете?
Хирург, седой человек со свежим шрамом на щеке, мыл над тазом руки. Он покосился на Петра:
– А куда вы так торопитесь?
– То есть как «куда»?.. На фронт.
Вместо ответа врач, обращаясь к сестре, распорядился:
– Можете к бульону добавить еще манной каши…
Он вытер салфеткой желтые от иода руки. Скручивая влажными еще пальцами папироску и глядя Петру прямо в глаза, он с подчеркнутой суровостью проговорил:
– На фронте, молодой человек, обойдутся уж без вас… Вам сделали резекцию желудка… Знаете, что это такое?
– Нет, – беспокойно сказал Петро.
– Это тридцать третья статья.
– А я не знаю, что это за статья.
– Демобилизация со снятием с учета. К службе в армии вы не пригодны…
Петро несколько минут молчал. Заметив, что санитары намереваются взяться за носилки, на которых он лежал, Петро слабым движением руки остановил их.
– Сколько мне придется проваляться, доктор? – спросил он.
– Месяц, полтора… Теперь уже все зависит от вас, молодой человек… от вашего организма…
В палате Петро первые дни после операции часами лежал молча, неохотно отвечая на вопросы своего соседа – раненного в бедро капитана. Подниматься ему не разрешали, читать – тоже; свое недовольство и злость за все – за нелепое ранение, тупую боль в животе, перспективу быть отправленным в тыл – он вымещал на дежурной сестре, низенькой рыжей девушке с зелеными глазами-щелками и задорно вздернутой кверху губой. Медсестру было легко раздразнить, и Петро донимал ее при всяком удобном случае, получая безотчетное удовлетворение, когда она вспыхивала и начинала ему дерзить.
Мрачно балагуря, Петро немного забывал о своем несчастье, но едва наступали летние сумерки, как он снова начинал хандрить.
В завешенное марлей окно доносился неумолчный плеск моря, шуршали по гравию шаги, слышались мужские и женские голоса, смех, – и при мысли, что совсем рядом жизнь идет своим чередом, а он прикован к постели, Петро едва не плакал.
Сосед-капитан долго ворочался на своей койке. Потом он брал костыль, стучал в стенку:
– Эй!.. Няня!.. Сестра!!
В дверях бесшумно возникал силуэт дежурной.
– Что вы шумите, больной?
– Сделайте мне укол… Я не могу заснуть…
– Все могут, а вы не можете, – сердито упрекала дежурная. – Сами не спите и другим не даете…
– Сделайте укол! – упрямо настаивал капитан.
– Мне же не жалко, – начинала колебаться дежурная. – Врач не разрешает…
– Он не узнает…
– Ладно! Только не выдавайте…
Сестра приносила шприц, производила инъекцию, и капитан тотчас же засыпал.
Петро знал от сестры, что капитану впрыскивают не морфий, а физиологический раствор и что делается это по совету самого врача. Сперва его развлекал этот безобидный обман, потом наскучил.
Подолгу рассуждая с самим собой, Петро сперва утешал себя тем, что как только он почувствует себя несколько лучше, ему удастся убежать из госпиталя. Сейчас, когда Крым полностью очищен от оккупантов, дивизия его здесь долго не задержится, а врачи, чего доброго, и впрямь вздумают его демобилизовать… Он никак не мог представить себя в тылу, пока продолжалась война…
Но заметного улучшения не наступало. Из разговоров с врачами и сестрами Петро понял, что ранение желудка чревато весьма неприятными последствиями. «Теперь уже на всю жизнь изуродованный и больной», – с отчаянием думал Петро.
«Но ведь живут же, работают, борются люди с еще более серьезными недугами, чем у меня», – мысленно успокаивал он себя. На память приходил Николай Островский с его страшной болезнью и неукротимой волей к жизни, борьбе.
В конце концов при мысли, что его собственная воля оказалась такой расслабленной, Петро испытывал чувство стыда. «И не пробовал еще бороться, а уже записался в инвалиды», – горько упрекал он себя.
Постепенно, по мере того как крепли его физические силы, все больше росла уверенность в том, что ему удастся сделать еще много полезного и нужного.
Спустя девять дней после операции Петру разрешили сидеть на постели. Он попросил у сестры бумагу, конверты, написал письма Оксане и в Чистую Криницу отцу. Немного передохнув, написал также и в свою дивизию. Но послать это последнее письмо не пришлось…
Петро доедал свой бульон с двумя тоненькими сухариками, когда в дверь просунула голову сестра. Щуря свои зеленые щелки-глаза, она сообщила:
– К вам товарищи…
Навестить Петра приехали Олешкевич и Сандунян. Натягивая беспрестанно сползавшие с плеч халаты, они вошли в палату, присели возле кровати.
– Да ты молодцом выглядишь, Рубанюк! – сказал, осматриваясь, Олешкевич.
– Герой… Только похудел немножко, – поддержал его Сандунян.
– С этих вот харчей – молодцом? – спросил Петро, пренебрежительно показывая на тарелку с остатками бульона.
– А мы тебя поздравить приехали, – сказал Олешкевич. – Со званием капитана и со вторым орденом Красного Знамени.
– Спасибо! – Лицо Петра просияло.
С минуту все помолчали.
– Ну, как там у нас? – спросил Петро.
– От всей роты большой привет, – сказал Сандунян. – А особый – от старшины Евстигнеева…
– Скоро уходить из Крыма собираетесь?
– Приказа нет, – ответил Олешкевич. – Пока учимся… Штурмуем, ползаем…
Он стал расспрашивать об операции, о самочувствии Петра, о книгах, которые тот читает, но Петро на все вопросы отвечал рассеянно, и Олешкевич понял, что Рубанюка волнует лишь один вопрос. Сам Петро вскоре его затронул.