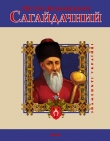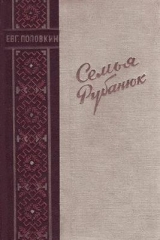
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 59 страниц)
– Благодарите бога, – сказал он, – что я, а не другой бургомистром. Муж ваш подлец, изменник. За такие дела все имущество ваше реквизировать надо. Ну, да уж ладно. Пришлете кабанчика – живите. Сычик завтра его заберет.
– Власть ваша, берите, – сказала Катерина Федосеевна.
Возвращаясь, домой, она видела, как со двора ее двор бродили полицаи и солдаты, как провели к школе заплаканную дочку Тягнибеды. Сердце ее сжалось. Она не знала, ушли Василинка с Настей или они еще в Чистой Кринице.
В сумерки собралась она пойти расспросить обо всем Пелагею Исидоровну, но на крыльце послышался быстрый топот, скрипнула дверь, и в хату влетела Василинка.
– Ты что, доню? – испуганно спросила Катерина Федосеевна. – По селу такое делается, а ты вернулась?
– Расскажу, мамо, вот разденусь.
Катерина Федосеевна поспешно завесила окна, заложила двери. Василинка аккуратно сложила пальто и платок, села против матери.
– Коней дядька Кузьма не может дать, – сказала она. – Полицаи по всем улицам шастают. Так мы с Настунькой чуть свет пешком пойдем. До ее тетки.
– А не дай бог, сегодня навернутся сюда?
– Соскучилась я за вами, – прижимаясь к матери, вздохнула Василинка. – Как сказали, что вас до «управы» забрали, я слезами залилась.
Возбужденно блестя глазами, Василинка принялась рассказывать, как хорошо будет у Настунькиной тетки. Живет она на хуторе, фашистов там и в глаза еще не видали. Завтра к вечеру они с Настунькой туда доберутся, а если случится попутная подвода, то и к обеду успеют.
Спать легла Василинка пораньше. Засыпая, сонным голосом спросила:
– Вы, мамо, кота кормили?
– Спи, спи, доню. Кормила.
Катерина Федосеевна пересмотрела бельишко Василинки, собранное в дорогу. Порывшись в скрыне, положила в узелок ее любимую голубую кофточку. «Нехай хоть чему-нибудь порадуется», – думала Катерина Федосеевна с ласковой грустью. Несколько раз она подходила к кровати дочери, молча любовалась ею. Косы Василинки разметались по подушке, нежный девичий румянец заливал щеки, чуть вздрагивали во сне длинные ресницы.
По селу брехали собаки, глухо доносились голоса.
В кухню вошла с шитьем Александра Семеновна. Ей тоже не спалось. Усевшись поближе к лампе, она шила, изредка переговариваясь со свекровью.
В сенях жалобно замяукал, запросился в хату кот. Катерина Федосеевна встала, чтобы открыть дверь. Кот испуганно юркнул между ног.
– А чтоб тебе неладно, – сказала Катерина Федосеевна, споткнувшись, и в ту же минуту с крыльца громко сказали:
– Тетка Катерина, а ну открой!
– Кто там?
– Свои.
Катерина Федосеевна узнала голос Сычика, и у нее перехватило дыхание. Рывком прикрыв двери, она бросилась к кровати и затормошила Василинку. Хотела спрятать ее куда-нибудь, но Сычик, посмеиваясь за окном, предупредил:
– Вы там не прячьтесь. Все одно вижу, что дочка дома.
В дверь глухо заколотили прикладами. Василинка сорвалась с постели, дрожащими руками кое-как натянула на себя юбку, кофтенку.
– Ох ты ж, боже наш! – суетилась Катерина Федосеевна. – Куда тебя деть, доню?
– Открывайте, никуда я не пойду! – ответила Василинка. Дверь затряслась от новых ударов, и Катерина Федосеевна, тяжело переставляя ноги, вышла в сени.
В клубах пара, щурясь от света, вошли Алексей, Сычик, два солдата. Сычик огляделся, задержал мутный взгляд на Василинке.
– Нагостевалась у тетки? – спросил он, шагнув к ней и сдвигая шапку на затылок. – Забирай свои манатки, пойдем в «управу».
– Никуда я не поеду! – крикнула Василинка. – Убивайте на месте.
Катерина Федосеевна притронулась к кожуху Сычика:
– Паша, не забирайте ее. Она ж малая еще. Куда она поедет?
– Опять двадцать пять. В Германию. Разве не знаете?
На печи, разбуженный голосами, проснулся и заревел Сашко́.
– Леша, ну скажи ты ему, – дрожащим голосом упрашивала мать. – Она ж одна у меня осталась.
– Я, тетка Катря, сейчас ничем помочь вам не могу, – сказал Алексей.
Сычик сладко отрыгнул и пошарил глазами. Найдя пальто Василинки, накинул ей на плечи.
– Не поднимай голос, все одно без пользы, – сказал он внушительно и, взяв Василинку за руку, потянул к двери.
Василинка яростно крутнулась, толкнула его в грудь. Сычик устоял. Нахлобучив шапку, он ринулся к ней.
Василинка ухватилась обеими руками за спинку кровати, изворачиваясь и кусаясь, отбивалась от полицая.
– Мамочка, родная, ратуйте!
– Немен панянку! – хрипел Пашка, обращаясь с солдатам. – Брать, брать!
– Не пойду! Все равно с поезда выкинусь! – рыдала Василинка.
Пашка оттолкнул Катерину Федосеевну, уцепившуюся за дочь, замахнулся на Александру Семеновну. Солдаты силой выволокли девушку, уже на крыльце накинули на нее пальто, потянули по улице.
Катерина Федосеевна побежала следом, причитая и спотыкаясь в сугробах.
До утра в школе собрали около полусотни дивчат и парней. Провожать их пришли со всего села. Перед самой отправкой у школы появилась с узелком Настунька. Она кинулась на грудь Катерине Федосеевне.
– Ты что, Настя? – удивилась Катерина Федосеевна.
– Я с Василинкой вместе поеду, – всхлипывая, объяснила та. – Раз подружку забирают, и я с ней.
– Ох, дочечки вы мои, – тихо заплакала Катерина Федосеевна, – за что же это на вас погибель такая?!
В одиннадцать утра «завербованных» погнали пешком на Богодаровку.
Автоматчики шли по бокам колонны, покрикивали на провожающих и отгоняли их.
Все же Катерина Федосеевна старалась держаться поближе. Она несла узелок Василинки, не спускала глаз с нее и Настуньки, шагавших рядом.
К четырем часам колонну привели на станцию. На путях стоял длинный состав теплушек, вдоль вагонов расхаживали немецкие жандармы. Они озябли и поэтому были особенно свирепы.
Пропустив отъезжающих к составу, жандармы резиновыми дубинками оттеснили на перрон провожавших.
Катерина Федосеевна едва успела передать узелок Василинке: девушек сразу загнали в вагоны.
Впереди состава лениво пыхтел паровоз, над запорошенными снегом крышами станционных построек кружились вороны, оглушительно хлопал и фырчал за вокзалом грузовик.
Катерина Федосеевна ничего не видела, кроме опухшего от слез лица Василинки. Девушка уже была в теплушке и, высунувшись из-за спин своих подружек, глазами разыскивала мать.
Катерине Федосеевне хотелось кинуться к вагонам и припасть к дочери, но впереди, широко расставив ноги, стояли жандармы и сердито покрикивали на женщин:
– Цурюк! Не мошно, матка.
От паровоза прошел к хвосту состава офицер. Он остановился, сказал что-то унтер-офицеру, и тот, щелкнув каблуками, побежал вдоль вагонов. Залязгали двери, девушки запричитали, заголосили. И вдруг из ближнего вагона взметнулся звенящий голос. Чернобровая смуглая дивчина, высунувшись в створки дверей, запела:
Ой, посию жито по-над осокою,
Чы не будешь плакаты, матинко, за мною.
И подружки ее подхватили:
Ой, не буду плакать, само сердце вьянэ,
Хто ж мою головку до смэрты доглянэ…
Рыдающий голос смуглой дивчины вновь взвился над вагонами:
Доглянуть головку всэ чужии люды,
А я одъизжаю и не знаю, куды…
Лязгнув буферами, состав тронулся. Расталкивая жандармов, женщины бросились к вагонам, побежали рядом. И все громче, заглушая плач матерей и сестер, молодые невольницы пели тут же родившуюся песню:
Згадай мэнэ, маты, хоч раз у вивторок,
А я тэбэ, маты, на день разив сорок,
Згадай мэнэ, маты, хоч раз у субботу,
Бо я одъизжаю в Берлин на роботу…
В последний раз мелькнуло в створке дверей теплушки бледное лицо Василинки. Катерина Федосеевна нечеловеческим голосом вскрикнула, сделала несколько неверных шагов и без памяти рухнула на снег.
XV
Эшелон, шедший из другого села – Песчаного, остановили партизаны, и молодежь, угоняемая в Германию, разбежалась по окрестным хуторам, а частью ушла в партизанские отряды.
Об этом рассказал Катерине Федосеевне Тягнибеда. Он подобрал и доставил ее, больную и разбитую, домой на санях, на которых отвозил в Богодаровку бургомистру продукты.
Повернувшись спиной к ветру, чтобы выкресать огня – коробок спичек стоил пятьдесят рублей, – Тягнибеда утешающе сказал:
– Если и этот эшелон смогут перехватить, прибежит ваша Василинка до дому.
– Хотя б дал господь бог! – вздохнула Катерина Федосеевна.
Она не очень верила словам полевода, но, вернувшись домой, всю ночь не смыкала глаз. Вскакивала на каждый шорох за окном, выходила в сени, долго стояла в ожидании, что вот-вот раздастся голос Василинки.
Поджидала она ее и на следующую ночь. Утром Катерина Федосеевна жаловалась Александре Семеновне:
– Как тихо стало у нас!.. И не стукнет и не грюкнет. А мне верится, что прибежит Василинка ночью, постучит в то оконце, что из сада. Она, бывало, когда у подружек засидится, всегда в то окошко стучала. Не хотела батька беспокоить.
– Ничего, мама, не горюйте, – утешала Александра Семеновна. – Из других сел дивчата в Киеве, говорят, остались. Может быть, и Василинке посчастливится…
Через два дня в Чистую Криницу пришел меньшой брат Катерины Федосеевны Кузьма, путевой обходчик, живший на разъезде. Раздеваться Кузьма не стал, попросил воды напиться и, осушив большую кружку, сказал:
– Видел, Катерина, нашу Василинку.
– Где? – рванулась к нему Катерина Федосеевна.
– Состав когда проходил на Германию, я около будки стоял. Глядь – племянница. Высунулась в окошко, черная, страшная. Я ее спервоначалу и не признал. А она руки выламывает, жалостно так кричит: «Дядько Кузьма, это ж я, ваша Василинка! Заберите меня!» – кричит. Да куда ж там! В каждом вагоне солдат стоит. Как каторжанов везут… Да ты что, Катерина?
Александра Семеновна кинулась к Катерине Федосеевне, успела поддержать ее.
Спустя минуту Катерина Федосеевна отошла, вытерла краем платка побелевшее, как мел, лицо. Слабым голосом спросила у брата:
– А верно, что эти… партизаны… освобождают людей? С поездов снимают?
Кузьма покосился на окно, понизив голос, сказал:
– Если б не верно, таких вот бумажек не расклеивали бы. Он достал аккуратно сложенный листок бумаги и вполголоса прочитал:
«Воззвание
1. Кто партизанам дает убежище, снабжает их съестными припасами или каким-либо другим образом помогает, будет наказан смертной казнью. Кто сохраняет или прячет оружие, амуницию или взрывчатые вещества, также подвергается смертной казни.
2. О появлении каждого партизана сейчас же следует доложить ближайшей германской военной части или местной комендатуре с точным указанием местопребывания таковых. Все оружие, амуницию и взрывчатые вещества следует немедленно отдать германским властям.
Села, которые не сообщают о местопребывании партизан и не сдадут оружия, должны считаться с тем, что они будут наказаны строгими мерами.
3. Во время ночной темноты никому нельзя выходить из своего жилища. Кто будет встречен вне своего жилища, подвергается расстрелу.
4. Села и хутора или лица, которые помогают германской армии в ее борьбе против коварных партизан, будут награждены особой добавкой хлеба, пользоваться особой защитой и другими благоприятствиями.
Верховное командование германской армии».
Кузьма спрятал бумажку, надел шапку.
– Темнеет сейчас рано, – сказал он. – Еще сдуру под расстрел попадешь.
– Иди, иди, – торопила Катерина Федосеевна. – Еще никогда такого не было, чтобы в своем селе люди ходить боялись.
Кузьма пренебрежительно махнул рукой:
– Им жалко, что ли? А того не учитывают, что партизан ихнего объявления не боится. Ему ночь – в самый акурат.
После его ухода Катерина Федосеевна пробовала взяться за хозяйство, но у нее все валилось из рук. Александра Семеновна, незаметно наблюдавшая за нею, предложила:
– Вы, мама, отдохните немножко. Я все сделаю.
– Теперь уже не доведется ее повидать, – сказала Катерина Федосеевна. – Никто ей головоньку не расчешет, никто спать не положит… «Згадай мэнэ, маты, хоч раз у субботу…» Дытыно моя!..
Она отвернулась к печке. Александра Семеновна подошла, обняла ее, и обе женщины заплакали облегчающими душу слезами.
Позже, поняв, что ей дома не успокоиться, Катерина Федосеевна надела мужнин кожух, платок и пошла к старшей дочери.
У Ганны недавно умер новорожденный. Первые дни она очень убивалась, никуда не выходила из дому, а потом как-то примирилась с утратой.
Не прошло и месяца, как по селу поползли слухи о ней и о вдовом Тягнибеде. Приметили, что он несколько раз проведывал ее дома, видели, как они долго разговаривали у колодца. Никто не мог знать, что Тягнибеда был связан с подпольным райкомом партии и, выполняя его задания, привлек на помощь Ганну, Варвару Горбань, еще несколько молодых женщин.
Тягнибеда был замкнут, малоразговорчив. Длинные, худые, как жерди, руки и ноги его, непомерно тонкая шея всегда были предметом ядовитых насмешек молодых баб и дивчат. Мальчишки втихомолку поддразнивали его «черногузом». Но полеводом он считался отличным; уважали его криничане за бескорыстие и честность.
Катерина Федосеевна по дороге к дочери увидела его длинную фигуру около бригадного двора.
– Жива, соседка? – крикнул он издали. – Ну и добре!
Ганны дома не оказалось. Старуха и невестка лущили на полу подле печки кукурузу, тут же играли кочнами босоногие ребятишки…
Катерина Федосеевна, расстегнув кожух и ослабив платок, присела на стульчик, погладила голову девчонки.
– А Ганька где ж? – спросила она устало.
– Пошла до Варьки юбку скроить, – откликнулась Христинья и недовольно добавила: – Она дома и минуты не посидит. Дела себе все выдумывает.
– Абы не тосковала, – ответила Катерина Федосеевна.
– Теперь вечером только заявится, – вставила старуха.
Но Ганна пришла минут через двадцать. Она обрадованно взглянула на мать, спрятала сверток с шитьем в сундук, разделась и потом уже спросила:
– А вы, мамо, чего не раздеваетесь? Скидайте кожух, вы до нас давно не заходили.
Она поправила перед зеркалом юбку, прошлась гребнем по волосам. Катерина Федосеевна с материнской жалостью подумала: «Моя доля досталась сердешной. Без Степана, как и я когда-то без своего, бедует».
Ганна подсела к кукурузе, из проворных ее рук золотистые зерна посыпались на ветошку обильной шуршащей струей.
– Не слыхали, что Митька Гашук рассказывал? – спросила она. – В Богодаровке этой ночью тот немец пропал. Помните, приезжал с трубкой, когда батька старостой выбирали?
– Как пропал?
– Пропал – и все. Там вся жандармерия, солдаты, полицаи на ногах. Шум, Митька рассказывает, такой поднялся! Он же у них за главного, тот немец.
– Разлютуются зараз, – с тревогой сказала Катерина Федосеевна.
– Нехай лютуют, – передернула плечами Ганна. – Хоть трошки бояться будут. Збандуто вон прослышал про это, так его из нашего села как корова языком слизнула.
– И, скажи, отчаянные какие! – со смешанным чувством восхищения и страха воскликнула Христинья.
– Есть еще казаки на свете! – весело ухмыльнулась Ганна.
Катерина Федосеевна давно не видела дочь такой оживленной и довольной. Глядя на нее, она и сама немного успокоилась и ушла домой умиротворенная, со смутными надеждами в душе. Не чуяло ее сердце новой беды. А она стряслась в тот же день.
К вечеру в село приехал на нескольких машинах карательный отряд. Солдаты разместились в школе. Около «управы» был выставлен усиленный патруль.
Часов около девяти в хату Рубанюков заскочила бледная, трясущаяся Христинья.
– Ганьку нашу забрали, – еще с порога рвущимся голосом крикнула она. – Кто-то доказал. Знамя нашли в подполье.
Катерина Федосеевна и Александра Семеновна с ужасом смотрели на нее.
– Куда забрали? Какое знамя?
– Да то, которое летом ей дали за работу, колхозное, – плача, говорила Христинья. – В «управу» Ганьку повели.
Чтобы сообщить об этом, Христинья с большой опаской пробралась огородами. Обратно идти побоялась и заночевала у Рубанюков.
Той же ночью арестовали полевода Тягнибеду. К нему нагрянули после вторых петухов. Пока он одевался, Пашка Сычик и еще два дюжих эсэсовца силились открыть сундук в углу, под божницей. Сундук был добротный, с крепким замком, и Сычик, тщетно провозившись над ним, кинул Тягнибеде:
– Ключи где?
– Нету.
– Нету? То мы замок и так собьем.
– Какое имеешь право сбивать? – хмуро спросил Тягнибеда.
Сычик ощерился:
– А ты кто такой – права мне вставлять?
– Я человек, а ты продажная шкура. Вот ты кто.
– Гляди, а то я…
Сычик, сузив глаза, шагнул к нему, но, встретившись со страшным взглядом полевода, трусливо юркнул за спины солдат.
– Я вот тебе посбиваю замки, погоди, – зловеще пообещал Тягнибеда.
Он все так же спокойно и неторопливо надел старенький полушубок, подпоясался цветным матерчатым поясом и пошел за солдатами.
Обыски и аресты по селу продолжались всю ночь: криничанские кобели охрипли, кидаясь на солдат.
Уже перед рассветом постучали в рубанюковскую хату. Катерина Федосеевна, так и не раздевавшаяся, быстро поднялась, вышла на крыльцо. Перед ней возникла в сером квадрате двери худощавая фигура офицера, за ним смутно маячили в предрассветном сумраке солдаты.
– Ви есть жена оберст-лейтенанта Рупанюк? – спросил офицер и перешагнул через порог. – Зажигайте лампа.
Он молча ждал, пока Катерина Федосеевна засветила лампу, и, внимательно посмотрев на хозяйку, сказал:
– Мне нужен жена подполковник Рупанюк, оберст-лейтенант Рупанюк.
Катерина Федосеевна только сейчас догадалась, о чем он спрашивал. Она намеревалась идти в другую половину хаты, но Александра Семеновна вышла сама. Она слышала вопросы офицера.
– Я жена подполковника, – сказала она, зябко кутаясь в платок.
– Мы вас должен забирать, потом пудем расследовать.
– У меня маленький сынишка, господин офицер, – сказала Александра Семеновна. – Он не совсем здоров.
Офицер подумал, помял в пальцах сигарету и добродушно разрешил:
– Сынишка можно забирать собой. Германский доктор даст вылечение.
– Да куда ты, Шура, его, хворенького? – горячо вмешалась Катерина Федосеевна. – Мы его и сами вылечим.
– Сынишка брать! – не раздумывая и уже строго приказал офицер. – Это ребьенок оберст-лейтенанта, дадим вылечение.
В глазах его промелькнула и погасла усмешка, и Александра Семеновна, чувствуя, как у нее холодеют руки, сдавленным голосом попросила:
– Пусть останется, господин офицер. Он очень болен.
– Ну! Шнеллер!
Офицер свирепо посмотрел на нее и подал солдатам знак пальцем.
Александра Семеновна торопливо собрала бельишко сына, потом разбудила его, сонного и горячего, старательно закутала в одеяльце. Ребенок заплакал.
– Не надо, маленький, – быстро шептала Александра Семеновна. – Гулять пойдем… Котик мой…
Она обернулась к Катерине Федосеевне и Христипье, губы ее дрогнули. Удобнее взяв на руки сына и узелок, она молча пошла за офицером.
XVI
Неделю стояла сухая морозная погода, потом посыпал снег, все гуще и гуще. К середине декабря хаты Чистой Криницы занесло до стрех, а сугробы все росли: день и ночь курились они белым дымом.
Катерина Федосеевна вставала до света, затапливала печь.
Потрескивал, шипел хворост, извивались в сизом дыму багряные, желтые змейки, потом огонь разгорался, вода в чугуне закипала. Щурясь, Катерина Федосеевна смотрела на пламя, блики играли на ее пожелтевших щеках, темной кофточке. Но думы ее были не здесь.
Каждое утро, невзирая ни на какую погоду, она носила еду в тюрьму, которую гестаповцы устроили в подвале «сельуправы». Уже два раза пыталась Катерина Федосеевна пробиться к офицеру, который распоряжался судьбой арестованных, носила гостинцы солдатам. Подарки от нее принимали, но к офицеру так и не допустили.
У Катерины Федосеевны созрела мысль сходить к Малынцу, задобрить его, упросить, чтобы помиловали дочь и невестку.
С вечера она зарезала и зажарила последних двух гусей. Утром завернула их в чистую тряпочку, прихватила бутылку первача, занятого у соседки, и пошла к Малынцу на дом.
У старосты готовились к крестинам. В хату Малынец приглашать не стал, разговаривал в сенях. Катерина Федосеевна вынула из-под платка гостинец и, покраснев, сказала:
– Это, Никифор Семенович, я вашему новорожденному. Нехай живет здоровенький.
Малынец принял подношение с достоинством и тут же передал его в двери хозяйкам.
– До вашей милости я… – начала Катерина Федосеевна и опять покраснела. Ей еще никогда не приходилось так унижаться.
– Говори, послухаем, – сказал Малынец и снисходительно добавил: – Мы ж с твоим как-никак вместе старостовали.
– Поэтому и пришла, – обрадовалась Катерина Федосеевна. – Насчет дочки и невестки. Их за зря посадили, Никифор Семенович.
– Ну, не за зря, – важно возразил Малынец. – Как это «за зря»? Невестка твоя… Муж ейный, твой Ванюшка, кто он есть? Подполковник! А-а-а! Как же «за зря»? А Ганна знамя скрывала, с партизанами связана, это точно. Ты вот матерь ей, а сама не знаешь… И не болтай, что «за зря».
Малынец глубокомысленно поскреб ногтями висок:
– Суд твоей дочке послезавтра. Такое распоряжение вышло. Я тут ни при чем. А невестку в Богодаровку переводят. Еще посидит трошки.
– За что же ей суд, бедолашной?! – взмолилась Катерина Федосеевна. – Никифор Семенович, век не забуду!.. Может, офицеру гостинца хорошего? Я б последнюю корову на базар повела… И вас не обижу. Сделайте милость, вызвольте.
Малынец долго молчал, сопел. Наконец сказал:
– Меня просить толку мало. Они до этих своих дел не допущают. Это истинно, Катря.
Он спохватился, что умаляет себя, и с прежней важностью добавил:
– Потолкую с офицером, но навряд. Скажу ему про корову. Может, польстится.
Ушла от него Катерина Федосеевна с еще большей тревогой в душе. До этого она втайне надеялась, что Ганну и Шуру подержат немного и выпустят. В уме ее никак не укладывалось, за что можно судить Ганну, пусть она даже и прятала честно заработанное ее звеном знамя.
А у Малынца тем временем подготовка к гулянке шла вовсю. Он пригласил, по совету бургомистра, важных начальников из района и лез из кожи, чтобы встретить их пышно.
На крестины гости начали собираться с утра в воскресенье. Малынец, в праздничном костюме, новых сапогах, подстриженный и сделавший себе коротенькие, как у Гитлера, усики, выходил на крыльцо, здоровался за руку:
– Проходьте, панове, пожалуйста, проходьте.
Одними из первых приехали Збандуто, в крытой овчинной шубе, и начальник районной почты.
Затем на двух автомашинах подкатили новый гебитскомиссар, несколько офицеров. Отряхивая снег с синего жупана и смушковой шапки, вылез «украинский» представитель.
Малынец, польщенный столь блестящим обществом и тем, что кумом был не кто иной, как сам бургомистр, не жалел ни водки, ни угощения.
Криничане в этот день обходили подворье бывшего почтаря с великой опаской (у ворот зябли на холоде полицаи и автоматчики). Но по улице далеко был слышен пьяный гомон. Низкой октавой рычал бас «украинского» представителя:
– За лучшую жизнь, Панове! За освобождение! Визжащим фальцетом откликался хозяин:
– Хайль!
Уже не один гость резво выскакивал на крыльцо, страдальчески вытаращив глаза, изрыгал съеденное и выпитое; сноха Малынца Федоска уже дважды пробегала через двор с бутылками самогона, а гулянке все не было конца.
После обильного обеда сидели в полусумраке, отдыхали. Гости, расстегнув кители и посасывая сигаретки, тянули маленькими глоточками самогон. Малынец в приступе хмельной восторженности мочил сладкими слезами сюртук бургомистра.
К вечеру перепившегося гебитскомиссара с превеликими почестями уложили на хозяйскую постель. Збандуто, ругаясь и икая, совал голову в цыбарку с ледяной водой. Лишь офицеры цедили и цедили в граненые стаканы пахнувшую кислым бураком самогонку.
– Рус крестин корошо. Панянки никс – пльохо.
– Панянки? – тонким голосом взвизгнул Малынец. – Бите! Панянки будут. Федоска, крикни Пашку. Ейн момент! Ейн, цвей, дрей. Аухвидерзейн.
Пашка Сычик вошел степенно, с несколько обиженным видом. Глаза его от морозного ветра слезились, нос посинел. Ему пришлось слишком долго ждать на холоде, пока его догадались пригласить.
Он охотно, без передышки опорожнил две кружки самогона, закусил огурцом, выпил еще. Узнав от Малынца, что господ офицеров надо сводить к дивчатам, деловито спросил, разжевывая свиной хрящ:
– На ночь или на время?
– Это как паны офицеры пожелают.
Сычик понимающе кивнул, нахлобучил шапку. Офицеры – тучный не по годам обер-лейтенант и его начальник майор – поднялись. Обер-лейтенант давно уже пронизывал сощуренными глазами присутствовавших на празднестве женщин: полногрудую сноху хозяина, сутуловатую вислоносую хозяйку. Майор был хмур и молчалив.
За офицерами и полицаем в некотором отдалении шагал автоматчик.
– У школьной уборщицы Балашихи две дочки есть, – раздумчиво произнес Сычик и для наглядности оттопырил два пальца. – Цвай панянок… Фарштейен зи? Конечно, меньшой тринадцатый год – не больше. А старшая в восьмой класс ходит.
Эсэсовцы шли, слегка покачиваясь, вразнобой мурлыкали песенки. Падал мягкий, редкий снежок. Но мороз не отпускал, пощипывал за уши, и майор, потирая их рукой в перчатке, торопил Сычика.
Балашиха спала на лежанке. Она открыла на стук двери и проворно юркнула под одеяло, пряча голые руки.
Сычик осветил ее карманным фонариком.
– Любка твоя где, Устя? – спросил он.
– Она уже три недели как в Богодаровке. Вроде ты не знаешь, Паша!
– Чего ее черти туда понесли?
– Ты же знаешь. В няньках у бухгалтера.
– Опять двадцать пять. Откедова я знаю?
Обер-лейтенанту надоело ждать. Он пошарил лучом фонарика по комнате, наткнулся на косички девочки и подошел к кровати.
Жмурясь от яркого света, девочка села и вопросительно поглядела на незнакомых людей.
– Раздевай себя! – произнес требовательный нерусский голос.
Мать испуганно переводила взгляд с офицера на шерстяной свитер дочери. Лишь позавчера она выменяла его у солдат на бутылку самогона.
– Скидай, дочка, раз требуют, – сказала она. – Отдай им. Оно, видно, казенное.
Девочка покорно сняла свитер, протянула офицеру. Тот пренебрежительно швырнул его на пол и расстегнул шинель.
– Весь раздеваться. Аллее!
Он быстро обхватил девочку рукой. Фонарик выпал, погас. Балашиха только сейчас поняла намерения эсэсовцев. Она соскочила с лежанки и, задыхаясь от страха, закричала:
– Паны офицеры! Что вы надумали? Она дытына совсем. Не дам дочки! Танюша!
Сычик рывком оттянул ее к порогу, вытолкал в сени и припер спиной дверь.
– Чего кричишь? – недовольно пробурчал он, дыша ей в лицо самогоном. – Ничего с твоей Танькой не будет. Погуляют офицеры и оставят. С собой не заберут, не бойсь.
Балашиха с яростью рванула его за ворот и, чувствуя, что не справится, цепенея от ужаса, слушала возню за дверью, громкий плач, потом истошный вопль дочери. Она кинулась к двери, но Сычик наотмашь ударил ее, свалил на землю и прижал коленом.
XVII
С утра полицаи ходили от двора к двору и зазывали на собрание.
Балашиха сидела в окружении соседок. Плача, она рассказывала о ночном злодеянии. Вошел Сычик.
– На сходку, Устя, – сказал он таким добродушным голосом, будто накануне ничего не произошло. – Все бабы на сходку! На майдане будет.
Он лихо сплюнул сквозь зубы, наступил на плевок валенком и, помахивая резиновой палкой, пошел дальше.
– Иди жалься, дурная, – дружно советовали Балашихе соседки. – До самого главного, до Збандуты, ступай.
– Это ж, глянь, что ироды вытворяют!
– До сих пор дытына не пришла в себя, – всхлипывала Балашиха. – Я кик доползла до ее кровати… Ну, мертвая… Водой отливала.
Она косилась на постель, на укрытую с головой девочку.
– Как бы умом не тронулась. Ничего не ест, не говорит.
Подстрекаемая женщинами, Балашиха решилась пойти в «сельуправу».
Збандуто сидел со старостой в прокуренной комнатушке. Его еще мутило после вчерашнего, под глазами вспухли дряблые, трупного цвета мешки.
Он угрюмо выслушал плачущую уборщицу и рассвирепел:
– Что ты мне басни сочиняешь? Дуреха! Не смей болтать! Господа офицеры этого не позволят.
Алексей, которому бургомистр только что поручил доставить в район срочный пакет, задержался.
– Так Пашка, ваш свояк, при том был, – не унималась Балашиха. – Какие басни, когда девчонка не при своем уме.
– Партизаны! – отрезал Збандуто. – Поняла? Партизаны… э-э… были у тебя. Запомни. Пошла вон! Полицейский, выведи ее, лгунью!
Скрипнула дверь, и Збандуто стремительно поднялся, учтивой улыбкой приветствуя гебитскомиссара и сопровождающих его офицеров.
Алексей вышел следом за Балашихой. Он тронул ее за рукав.
– Пожаловалась? – спросил он насмешливо. – Глупая ты, Устя. Это же одна чашка-ложка. Ты еще к гебитцу пойди. Он тебя пожалеет.
– Все вы хорошие, – зло, со слезами в голосе огрызнулась Балашиха. – И где погибель на вас, чертей?
Заметив Пашку Сычика, появившегося из-за угла «сельуправы», она посмотрела на него с ненавистью и быстро пошла домой.
Сычик подошел к Алексею и ухмыльнулся:
– Жалиться прибегала?
– Ага.
– Ну, и как?
– Ей еще влепили.
– Нехай не бегает. Дай-ка свернуть.
Сычик поплевал на пальцы, отодрал от газетки лоскуток.
– Людей, знаешь, зачем на майдан скликают? – спросил он, расправляя бумажку на ладони.
– На сходку?
– Э, балда! Вешать будут.
– Кого?
– Ганьку Степанову, Тягнибеду.
– Брось ты!
– Ей-богу! Сейчас виселицу ставят. Я подслухал. Ночью, в арестантской судили. Гебитц, бургомистр. И этот, что в синем жупане и смушковой шапке, сидел. Клятый, стерва. Прямо кидался до Тягнибеды.
Алексей широко раскрытыми глазами смотрел на равнодушное, опухшее с перепоя лицо Сычика, потом быстро сунул кисет в карман полушубка и подошел к коню.
– Далеко, Лешка?
– Пакет везу в район.
– Вертайся шибчей. Интересно поглядеть, как ногами дрыгать будут.
Алексей отвязал жеребца, придержал рукой стремя и легко вскочил в седло.
Он поехал было к площади. Солдаты действительно тесали подле кооперативной лавки бревна. Двое долбили ломами мерзлую землю.
Алексей хлестнул коня, наметом вынесся в переулок, ведущий к подворью Девятко. «Если не задержать хотя бы до вечера, повесят, – лихорадочно думал он. – Пятнадцать километров туда… Пока соберутся… Еще пятнадцать…»
Около хаты Девятко он соскочил, торопливо привязал жеребца и вбежал во двор.
Кузьма Степанович сидел за столом, глубоко задумавшись. Пелагея Исидоровна возилась около припечка.
– Выйдите на минутку, – скороговоркой попросил ее Алексей.
Пелагея Исидоровна прихватила цыбарку, пошла в коровник.
– Беда, Кузьма Степанович, – сказал Алексеи. – Ганну и Тягнибеду поведут сегодня на виселицу. Ночью суд им был. Народ затем и скликают.
– Ах ты ж горе!
Кузьма Степанович трясущимися руками стал натягивать валенки на толстые шерстяные носки.
– Я зараз в лес подамся. Не может быть, чтобы хлопцы не выручили, – торопливо говорил Алексей. – И верховоды из района акурат слетелись. Застукают в самый раз. Но, боюсь, не поспеют. Как можно, придержать надо… Голова идет кругом – что придумать?
– Ты давай поспешай, – сказал Кузьма Степанович. – Дорогу добре знаешь?
– Два раза ездил.
– Давай, давай шибчей. Я в село пойду.