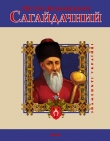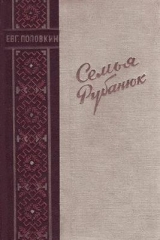
Текст книги "Семья Рубанюк"
Автор книги: Евгений Поповкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 59 страниц)
Иван Остапович налил всем вина и, поднявшись с бокалом, провел рукой по волосам.
– Выпьем прежде всего за нашу победу, – предложил он. – За то, чтобы все семьи смогли снова встретиться и чтобы час этот был недалек…
Оксана, усаживаясь рядом с Петром, стиснула горячей ладонью его руку.
– И я думала о том же, – шепнула она и, чокнувшись со всеми, громко добавила: – И за то, Иван Остапович, чтобы встретили мы всех наших родных после войны живыми и здоровыми.
– И за это!
Иван Остапович был ко всем внимателен, острил, смеялся. Незаметно он исчез и, вернувшись через несколько минут, отозвал Петра в сторонку.
– Заночуешь с жинкой здесь, – предложил он. – Я все уладил. А то и поговорить ей с тобой не удастся…
– Мы тебя не стесним?
– Никоим образом. Гостиница большая, места свободного много.
Иван Остапович вернулся к столу. За чаем, подвинув свое кресло поближе к креслу врача, он сказал:
– Я слышал, у вас в Таллине семья погибла. А мои остались на Украине. Жена и сынишка… И вот – вы замечали? – когда видишь, что у других благополучно, как-то легче становится. Надежд на личное счастье больше… Верно?
– Вы абсолютно правы!..
– Обдумываю, как этим вот, молодым, помочь. Вместе им быть, конечно, не удастся. Хочу Оксану к себе в дивизию перевести, в медсанбат. Людей у меня там не хватает. Выйдет?
Оксана, угадав, о чем беседует Иван Остапович с врачом, прислушалась.
– Она прекрасный работник, – сказал Александр Яковлевич. – Нужен запрос из санотдела фронта. Тогда, как сумею, посодействую.
– Запрос мы устроим, – заверил Иван Остапович. – В штабе фронта пойдут навстречу.
– Может быть, и мне поможете? А? – спросил врач. – Возьмите в медсанбат, право.
– Вас? Да отпустят ли? Вы крупный специалист.
– Я несколько рапортов подавал. Обязаны же учесть желание.
– Хорошо. Потолкую в санотделе.
Оксана, не упустившая из этого разговора ни слова, наклонилась к Петру и шепнула:
– Две недели уже сидим без дела, Петро. А в резерве иногда по нескольку месяцев торчат.
Близился вечер, и врач стал прощаться. Вместе с ним уехала на вокзал и Оксана за увольнительной.
Иван Остапович, отпустив Атамася в город, скинул сапоги, гимнастерку и, устроившись на диване, сказал Петру:
– Садись. Докладывай, как жил, как воевал. Орден тебе за что дали?
– Под Москвой дрался. Комдив представил.
– Ну, и Военный Совет нашей армии тебя к награде представил… за знамя. Как судьба столкнула тебя с Татаринцевым?
Петро рассказал о своих странствованиях в окружении, о ранениях. Иван Остапович внимательно слушал, черные блестящие брови его то сдвигались над переносицей, то высоко поднимались, и лицо его светлело, становилось добрым и веселым.
– Да что это только про меня да про меня, – спохватился Петро. – Ты больше моего пережил… О Шуре так ничего и не знаешь?
– Знаю только, что до стариков с сыном добралась. И то добре.
– Батько, наверное, партизанит.
– Партизанит, не иначе.
– У тебя, Иван, седина появилась, – заметил вдруг Петро…… а у матери ни одного седого. Как они с отцом тебя ждали!..
– Не вышло. А жалко очень… Теперь, кто знает, когда удастся…
– Как ты полагаешь, союзники скоро выступят?
– Надо рассчитывать на свои силы…
Петро не сводил с брата глаз. Иван очень изменился за годы разлуки. Черты его лица были все те же, того Ванюшки, который запомнился с детства, но и внешность и манера держаться и разговаривать показывали его как зрелого, много повидавшего человека. Военная профессия наложила на него свой отпечаток: что-то суровое и властное было во взгляде его строгих серых глаз, даже когда он улыбался. Петро представил себе брата в бою и подумал, что ему, наверно, не трудно подчинять своей воле людей; такого командира должны и любить и побаиваться.
Короткий московский день истаял незаметно, и, когда Оксана вернулась в гостиницу, столица уже погрузилась в темноту.
Петро и Оксана, проводив Ивана Остаповича, остались одни. Усевшись с ногами на диван, Оксана всем телом прижалась к мужу.
– Мий! Коханый! – Порывисто и страстно обняв Петра, она долго вглядывалась в любимое лицо, и слезы, внезапные, как ливень, хлынули из ее глаз, полных любви и нежности. – Серденько мое! Я так ждала тебя!..
Петро, тронутый горячим порывом обычно сдержанной Оксаны, молча и жадно целовал ее лицо, руки, шею.
.
…Нет, не спалось Петру и Оксане в эту ночь! Они говорили о будущем, о завтрашнем дне, о своих планах так, будто не было страшной, кровопролитной войны, затемненной насторожившейся Москвы, предстоящих долгих дней новой разлуки и новых испытаний. Петро видел себя в садах Чистой Криницы, Богодаровки, выводил в грезах новые невиданные плоды. Оксана мечтала о том времени, когда им не нужно будет разлучаться и она снова сможет учиться. Смеясь, она говорила, что после войны надо будет перевести мединститут из Киева в Чистую Криницу.
Но потом Петро заметил, что Оксана стала отвечать ему невпопад, все больше задумывалась.
– Ты что вдруг такая стала? – спросил он.
– Какая?
– Рассеянная…
– Показалось тебе. А вообще, разве не о чем призадуматься? Ты через несколько часов уедешь… Мне иногда кажется, что я больше не выдержу, – сказала она тоскливо. – Поставлю твою фотографию перед собой, смотрю, разговариваю… как маленькая девочка…
– Знаешь, и я как мальчик, – сказал с улыбкой Петро. Потянувшись рукой к гимнастерке, висевшей на спинке стула, рядом с кроватью, он достал из кармана гимнастерки пачку бумажек. – Видишь? Это твое письмо. Еще в Чистой Кринице мне дала. – Письмо было истерто на сгибах, буквы расплылись. – Я его часто перечитываю. Смотри, какое стало, – Петро бережно разгладил его. – Оно как твоя клятва. Прочту… и легче как-то…
– Петрусь… милый…
Оксана порывисто привлекла к себе Петра. Потом она попросила подать со стола ее сумочку.
– Петро… Только ты ничего плохого не думай. Я тебе покажу… Ты должен знать…
Она произнесла это таким странным, подавленным голосом, что у Петра забилось сердце. Ее смутная боль и тревога передались ему. Но он взял бумажку, развернул.
– Это Александр Яковлевич, – сказала Оксана. – Я потом с ним объяснилась…
Петро сперва медленно, потом все быстрее разбирал строки, написанные, видимо, поспешно и потому неразборчиво:
«Оксана Кузьминична!
Я не имею права писать Вам это, но и молчать выше моих сил. Вы заметили в последнее время, что я более резок с Вами, чем Вы заслуживаете, несправедлив – и придирчив. Я боролся с собой, но не сумел избежать того, что произошло… Оксана Кузьминична, милая! Только Вы можете поддержать меня в самые тяжелые минуты. Только рядом с Вами я обретаю новые силы, которые так нужны сейчас мне, моим раненым… Все это очень плохо, – я знаю, как Вы любите мужа, и знаю, что вы достойны друг друга. Вы можете не отвечать на это письмо, но я хочу, чтобы Вам было известно: моя придирчивость к Вам, порой грубость – тщетная попытка скрыть истинные чувства. Лучшим выходом было бы расстаться, но… это не в моих силах.
А. Р.»
Петро, вернув письмо Оксане, спросил:
– Что ты ответила?
– Я ему ответила так, что он больше никогда не напишет. Родненький, почему же ты сердишься?
– Я не сержусь.
– Думаешь, я не чувствую?
Оксана прижалась к нему. Петро тихонько высвободился.
– Но ему хочется в тот же медсанбат, куда тебя забирают, – сказал он с нехорошей усмешкой.
– Петрусь!.. Ну и что же из этого? Неужели ты мне не веришь?
Петро долго молчал, о чем-то раздумывая, хотел рассказать о своем знакомстве с Марией, но решил, что ничего лишнего себе не позволил и не стоит зря огорчать Оксану. Усталым голосом он произнес:
– Я верю тебе…
– Я так и знала! – обрадованно воскликнула Оксана. – Ну его, Романовского! Я вот сказала тебе, теперь на сердце легче.
Больше ни Оксана, ни Петро к этому разговору не возвращались, и только утром, на вокзале, Оксана тихонько, чтобы Иван Остапович не слышал, сказала Петру:
– Я тебе, пожалуй, напрасно о Романовском сказала.
– Почему напрасно?
– Ничего у нас нет и быть не может, а ты будешь думать…
Иван Остапович вдруг вспомнил:
– Я тебе на память ничего не подарил, Петро…
Он снял с себя полевую сумку, переложил бумаги в карманы, повесил ее брату через плечо.
– Носи на здоровье. Тебе, видно, быть командиром, так что пригодится.
Проводник настойчиво предлагал пассажирам занять места, и Петро, подойдя к Оксане, сказал:
– Ну, Оксанка…
Подбородок Оксаны задрожал. Крепясь, она улыбнулась и, не вытирая слез, зашептала:
– Пиши, риднесенький… Пиши, мий любый…
Она стояла на перроне рядом с Иваном Остаповичем и махала рукой, пока поезд не скрылся за виадуком.
II
В первых числах мая Петро, закончив курсы и получив звание младшего лейтенанта, выехал в Ворошиловград.
Возвращение его на фронт совпало с тяжелыми событиями.
В пути случайный попутчик Петра, интендант третьего ранга, едущий из тыла в часть, рассказал о большом контрнаступлении гитлеровцев в районе Изюма и Барвенкова.
Интендант, пожилой, лысый мужчина, непрестанно вытирал большим клетчатым платком шею, затылок и то и дело испуганно поглядывал вверх. Когда в небе не было видно самолетов, он успокаивался и начинал уныло рассуждать о количественном превосходстве нацистов в танках и самолетах, о совершенстве их автоматического оружия и автотранспорта.
Неопрятный вид интенданта и, главное, его разглагольствования сразу же восстановили Петра против него.
Они сидели у открытой двери теплушки, свесив ноги, и Петро, сдерживая нарастающее раздражение, слушал, как интендант, отдуваясь и посапывая, изрекал:
– Конечно, весна нынче затяжная. Пока грязь да распутица, далеко они не прорвутся… Это им не Европа. А вот подсохнет, ручаться нельзя. За зиму таночков да самолетиков они настрогали.
– Много? – угрюмо спросил солдат, сидевший на корточках за спиной оратора.
– Изюм-барвенковская операция – только начало, – не ответив ему, продолжал интендант. – Боюсь я за – Москву. Очень боюсь.
– Болтаете, извините меня, всякую ерунду, – зло сказал Петро. – Слушать противно. «Боюсь, боюсь…» Валерианки выпейте.
– Верно! – поддержали внутри вагона. – Распустил человек язык…
Интендант обиженно замолчал и на первой же остановке, забрав свой чемодан, сошел.
Через сутки состав прибыл в Ворошиловград, и Петро стал наводить справки о своей дивизии. В военной комендатуре ему сообщили название поселка, где расположился ее штаб. Дежурный помощник коменданта предупредительно сказал:
– Советую подождать с полчасика, младший лейтенант. Будут попутные машины…
Выйдя на привокзальную площадь, Петро увидел толпу возле газетной витрины. Он протиснулся, жадно пробежал глазами последние сообщения. В сводке Информбюро говорилось об оставлении советскими войсками Керченского полуострова и об отражении контратак противника на изюм-барвенковском направлении.
Не замечая, что его толкают, Петро стоял у витрины, читая сухие, лаконичные строки сообщения.
Послышался резкий вой сирены. И тотчас же город откликнулся разноголосым гулом ближних и дальних заводских гудков, а где-то рядом репродукторы призывали граждан к спокойствию и порядку.
Петро, не торопясь, сошел в убежище, терпеливо переждал воздушную тревогу.
Самолеты к городу не подпустили, но когда Петро нашел, наконец, попутную машину и отъехал километров пять, снова послышались протяжные гудки и яростное бабаханье зениток.
– Часто налетают? – спросил он у сидящего вместе с ним в кузове пожилого мужчины в замасленной спецовке.
– Та ни. Вже давненько не заявлялысь, – ответил тот, подкладывая под себя аккуратно сложенный ватник. – Сьогодни щось их мордуе… – Он из-под ладони посмотрел на город и веско, угрожающе произнес: – Боны долитаються… Боны до свойого долитаються!..
В уверенном, спокойном голосе рабочего, во всей его крепкой, коренастой фигуре, ярко освещенной солнцем, было столько скрытой силы, что Петро, глядя на нею, с удовольствием подумал: «Такой ни перед какими таночками да самолетиками не оробеет».
Вдоль улиц рабочего поселка, с опрятными садиками и заборчиками, согретый майским солнцем ветер лениво гнал прошлогодние листья, покачивал ветви еще не распустившихся акаций и тополей. К строениям жались грузовые машины, у колодцев фыркали кони, оживленно переговаривались с женщинами бойцы. Петро шагал по просыхающим песчаным улицам в приподнятом настроении. Еще немного времени, и он встретится с, друзьями, о которых столько думал и так скучал все это время.
В штабе дивизии Петро не задержался. Начальник штаба принял документы, коротко распорядился:
– К подполковнику Стрельникову! Я позвоню ему. Он уже о вас спрашивал.
Разузнав, где стоит полк, Петро напился у колодца воды и, вскинув за плечи вещевой мешок, пошел пешком.
Через час он входил в большое село и вскоре разыскал дом, где помещался командир полка.
Стрельников умывался в темноватых, прохладных сенцах.
– Проходи, Рубанюк, в комнату, – пригласил он. – Прости, твоего звания не вижу. Дали тебе звание?
– Так точно! Младшего лейтенанта.
Закончив свой туалет, Стрельников сел за стол, напротив Петра.
– Ну вот, – произнес он, разглядывая его и набивая трубку табаком. – Поздравляю с командирским званием. А ты еще, помнишь, от курсов отказывался!
– Боялся свою часть потерять, товарищ подполковник. А так очень доволен, что получился.
– Дадим тебе взвод. Пока стоим в резерве, познакомься с людьми, пусть и они к тебе присмотрятся… Впрочем, ты в полку не новичок.
– Мне к комбату Тимковскому прикажете явиться?
– Его нет. Он в госпитале!
– Ранен?
– Малярия его треплет… Вернется. Его капитан Мочула заменяет. Алтаев! Соедини с третьим.
Пока адъютант дозванивался в батальон, Стрельников пробежал бумаги, лежавшие перед ним. Подписывая одну из них, он спросил:
– Комиссара Олешкевича помнишь, младший лейтенант?
– Как же! Я ведь в госпиталь его сопровождал.
– А-а! Ну да, я забыл. Скоро возвращается. Снова комиссаром будет.
– Это хорошо, товарищ подполковник! – сказал Петро. – Прекрасный он человек!
– Скоро возвращается, – повторил Стрельников, и по тону его и потеплевшим глазам Петро почувствовал, что командир полка очень доволен.
Стрельников вышел с ним на крылечко. Поглядев вверх, на звено истребителей, с глухим жужжанием спешащих в сторону города, он сказал:
– Тяжелая обстановка на фронте. Видимо, придется нам город Климентия Ефремовича оборонять. Не выдохлись еще фашисты…
Петру предстояло пройти еще километра четыре; батальон Тимковского располагался в соседнем совхозе.
Шагая по дороге, он обдумывал речь, которую произнесет перед бойцами своего взвода. Петро, как, впрочем, и каждый молодой командир, впервые получающий подразделение, был уверен в том, что его бойцы станут в кратчайшие время самыми примерными в полку.
Однако никакой речи произносить ему не пришлось. За несколько минут до его прихода капитан Мочула, исполняющий обязанности комбата, неожиданно получил от Стрельникова приказ срочно подготовиться к маршу. Мочула, которому впервые довелось руководить батальоном, растерялся, без особой надобности бегал по ротам.
О предстоящем марше Петру сообщил Арсен Сандунян, повстречавшийся ему невдалеке от конторы совхоза, где размещался штаб батальона.
Узнав Петра еще издали, Арсен поставил на землю цинковые ящики с патронами, которые нес из склада вместе с другим, незнакомым Петру бойцом, широко раскинул руки и быстро пошел навстречу.
– Дай я тебя обниму, – охрипшим от волнения голосом кричал он, приближаясь и не спуская с Петра блестящих черных глаз.
Они горячо расцеловались. Петро схватил Арсена еще раз в объятия, крепко стиснул.
– Ох, осторожней! – вскрикнул Сандунян. – Рука… Болит еще.
– Зябыл, забыл, друг, прости, – поспешно произнес Петро. – Действует рука?
– Медведь! Отъелся на курсантских харчах, – добродушно ворчал Арсен, легонько потирая раненую руку. – Ого! Ты уже младший лейтенант! Прошу прощения за фамильярность.
– Давай не будем.
– На радостях не заметил.
– Что за беготня? – спросил Петро, оглядываясь.
– Ночью снимаемся.
Арсен понизил голос, недовольно махнул рукой бойцу, который звал его, и сказал:
– Фронт где-то прорван. Вяткин слышал.
– Василий Васильевич Вяткин? Жив?
– Жив. Парторгом по-прежнему.
– А как Марыганов? Как командир взвода?
– Марыганова немножко царапнуло. Воюет… Моргулиса эвакуировали. Ногу оторвало.
Сандунян торопился и не мог рассказать обо всем, что интересовало Петра.
– Первый взвод, Петя, вон там, – показал он рукой. – Видишь постройки под черепицей? В нашей роте будешь. Комвзвода на марше при бомбежке убило. Я побегу. Увидимся…
Улучив минутку, когда капитан Мочула заскочил в штаб, Петро доложил ему о прибытии.
Капитан взглянул на него отсутствующим взглядом и, налегая грудью на стол, повелительно крикнул в соседнюю комнату:
– Связной! Командира хозвзвода ко мне! Быстрей!
– Разрешите подразделение принимать? – мягко напомнил о себе Петро.
– Что? Какое подразделение? Да-а… Рубанюк? Звонили из полка. Принимайте! Через час доложите командиру роты о готовности к маршу. Все?
– Пока все.
Петро шагнул к двери, но капитан окликнул его:
– Погоди-ка, младший лейтенант. Раньше воевал?
– Приходилось.
– Снова придется.
– Ясно!
III
Ночью дивизию перебросили на автомашинах к железнодорожной станции и стали грузить в вагоны.
Петро, накинув на плечи шинель, стоял около теплушки, где уже разместились солдаты его взвода. Ночь выдалась непроглядно темной, и казалось непостижимым, как в этом кромешном мраке не сталкивались машины, люди, обозные повозки.
Петро слушал, как перекликались солдаты, неспокойно всхрапывали, били копытами по дощатым подмосткам кони, как где-то еще на подходе к станции скрипели колеса повозок.
Мимо прошли, позвякивая котелками, неразличимые в темноте бойцы. Слух Петра уловил обрывок фразы:
– …И так мне соленого арбуза захотелось. Ну, терпения моего нету…
Около соседнего вагона спрашивали:
– Какая рота? Командира во второй вагон.
Еще кто-то прошел мимо, громко разговаривая. Петро узнал голос парторга Вяткина.
– Василь Васильевич, – окликнул он. – Спешишь?
Вяткин подошел. С Петром они виделись днем, но мельком, на ходу, и парторг пообещал в дороге навестить его.
– Устроился? – спросил Вяткин.
– Все в порядке! – Петро понизил голос. – Не знаешь, куда мы?
Вяткин взял Петра за рукав, отвел в сторону.
– Как будто в Миллерове будем разгружаться. Иди отдыхай. Утром приду, потолкуем.
– Буду ждать…
Петро и раньше задумывался над тем, почему в батальоне и бойцы и командиры питали к Вяткину особое расположение. Он видел, что в окопах, в землянке, на привале Вяткина всегда встречают с неизменным и искренним радушием. Отчасти это можно было объяснить общительностью и неиссякаемой энергией старшины. Вяткин обладал удивительной способностью появляться именно там, где в его присутствии ощущалась необходимость. Он охотно включался в работу редколлегии, помогал чтецам, участникам самодеятельности, умел просто и доходчиво ответить на любой вопрос бойца. Помимо того, он был завзятым шахматистом, любил разгадывать сложные ребусы, кроссворды. У него на все хватало времени.
Однако это был не просто весельчак, шутник и балагур, какие обычно имеются в каждой роте и каких солдаты любят. Вяткин обладал такими качествами, которые вполне естественно всюду делали его умелым и умным вожаком, и это, пожалуй; больше всего нравилось в нем Петру.
Приняв взвод, Петро испытывал настоятельную необходимость о многом посоветоваться с парторгом и нетерпеливо ждал беседы с ним.
Вяткин поднялся в вагон к Петру рано утром, когда эшелон был уже в донских степях.
Петро сидел на ящике из-под мин. Еще накануне, во время погрузки, два командира отделения крепко повздорили между собой, и теперь Петро разговаривал с ними.
– Садись, Василь Васильевич, – сказал он Вяткину. – Уступите место старшине…
– Опять гранаты подзаняли один у другого? – полюбопытствовал парторг, мельком взглянув на красные лица младшего сержанта и ефрейтора, стоящих перед Рубанюком навытяжку.
– Саперные лопатки, – ответил ефрейтор и сердито посмотрел на товарища.
– У меня было десять, товарищ младший лейтенант, все они и есть, – хладнокровно сообщил тот, «окая» по-волжски. – А два автомата, которые Топилин забрал, так то трофей. Они у меня с метками.
– Метки поставить недолго, – сказал ефрейтор.
Бойкие глаза его искрились лукаво, но во взгляде командира взвода, пристально устремленном на него, он не увидел для себя ничего приятного и поспешил переменить тон.
– Если прикажете, товарищ младший лейтенант, – сказал он, – я их Шубину отдам. Нехай пользуется… А только это будет несправедливо.
– Почему?
– Эти автоматы мы вместе брали, когда в разведку ходили…
– Как не совестно, товарищи! – вмешался Вяткин. – Оба кандидаты партии, хорошие друзья. Спите даже вместе.
– Они спят вместе, чтобы следить друг за другом, – вставил кто-то с нар негромко, но реплику услышали, и в вагоне сдержанно засмеялись.
– Ну, ясно! – твердо произнес Петро. – Насколько я понимаю, у вас дружба дружбой, а табачок врозь… Лишнее оружие и инструмент один у другого потаскиваете.
– Они не лишние, – встревоженно сказал Топилин, поняв, к чему клонит командир взвода. – Они пригодятся…
– Раз автоматы, лопатки можно утащить, значит они лишние, – перебил его Петро. – Евстигнеев!
– Я! – громко и басовито откликнулся с нар усатый пожилой старший сержант и с неожиданной для его огромного тела легкостью соскочил на пол. – Слушаю, товарищ младший лейтенант.
– Вы докладывали о некомплекте оружия в вашем отделении?
– Так точно.
– Получите у Шубина три лопатки, у Топилина – два автомата.
– Есть!
Евстигнеев отвечал командиру взвода так молодцевато и в то же время с таким сознанием собственного достоинства, что в нем нетрудно было угадать опытного, хорошо знающего солдатскую службу человека.
– Все! – коротко объявил Петро. – В следующий раз, если повторится, накажу!
– Суд строгий, но справедливый, одобрил Вяткин, цедя в алюминиевую кружку воду из питьевого бачка.
– Нравятся мне они, – вполголоса признался Петро, когда командиры отделений разошлись по своим местам.
Евстигнеев у тебя крепкий сержант. Еще в прошлую войну воевал. Сибиряк. Охотник.
Вяткин знал в батальоне всех, и Петро слушал его с живым интересом. Ведь предстояло вести этих людей в бой.
– Топилин из казаков, старый комсомолец, – рассказывал парторг, – станицы… дай вспомнить… Багаевской… Он у нас лучший агитатор. Две благодарности имеет от командования за находчивость в бою. Мы его недавно в партию приняли. Шубин… Этот горьковчанин, сормовец. На его счету три «языка». Командир полка к ордену представил.
Вяткин ввел Петра в курс всех событий и, уходя, сказал:
– Учти, Рубанюк, ротная парторганизация тебя уважает и за бой под Быковкой и вообще… Тебя в пример ставят. Для коммуниста это все.
– Постараюсь не подкачать, Василь Васильевич, – заверил Петро, обрадованный похвалой.
Приглядываясь в дороге к бойцам, он все чаше останавливал свое внимание на Евстигнееве, который и внешностью и деловитостью своей очень напоминал отца. И Петру было приятно, что молодежь часто советовалась с ним, относилась к нему почтительно-любовно.
Спустя двое суток, когда дивизия, выгрузившись из эшелона, маршем прошла до Миллерова и получила приказание готовить здесь оборонительный рубеж, Петро разговорился с Евстигнеевым.
Бойцы рыли за городом окопы и ходы сообщения. Евстигнеев, скинув пилотку и поблескивая на солнце круглой, как мяч, лысой головой, поправлял на бруствере маскировочный дерн.
Петро постоял, любуясь искусными, ловкими движениями его рук, потом присел у окопа. Доставая из кармана шаровар голубенький кисет, расшитый Оксаной, он предложил Евстигнееву:
– Курите… Хороший табачок.
Евстигнеев распрямился, смахнул рукавом гимнастерки крупинки пота с лысины, надел пилотку и присел рядышком.
– Не пользуюсь я вообще-то. Ну, разрешите, цыгарочку испорчу. Для компании.
Евстигнеев щепочкой счистил с широких ладоней налипшую землю, взял из рук Петра кисет осторожно, как хрупкую вещь.
– Извиняюсь, любушка подарила или супруга? – спросил он добродушно.
– Жена.
– И дети есть?
– Детей нет.
– Так-так… И еще спрошу, по отчеству как вас?
– Петро Остапович.
– У нас взводный был Петр Николаевич, подпрапорщик.
– Запомнили? Это когда же, еще в ту мировую войну?
– Так точно. В тыща девятьсот пятнадцатом и шестнадцатом. Как не упомнить? Всех знали по отчеству. Ротный – подпоручик Георгий Симонович Ферапонтов, полковой командир – Андрей Игоревич Сухомлинов.
Петро облокотился на бруствер и подпер щеку ладонью. Солнце согрело землю. В глубине еще влажная и холодная, она уже покрывалась нежными молодыми побегами, настойчиво пробивающимися сквозь жухлый прошлогодний бурьян.
– Ну вот опять пришлось воевать, Алексей Степанович, – сказал Петро, провожая взглядом коршуна, парящего над степью.
– Пришлось.
Евстигнеев бережно снял со штанины жучка, рассмотрел его и, отбросив, добавил:
– Это конечно…. Заставил проклятый фашист…
Последние слова Евстигнеев произнес раздельно и сумрачно, и сросшиеся брови его сошлись к переносице еще туже.
– Только я вот что скажу, – продолжал он, разглядывая нераскуренную самокрутку, которую неумело держал большим и указательным пальцами. – Конечно, воевал наш мужик и в ту войну, при царе Николае, исправно. Земля-то родная, русская… И на проволочные заграждения кидался, и, бывало, в атаку идем, так ни пулей, ни снарядом – ничем не остановишь. Лютый был мужик на тех, кто землю эту, русскую, отнять хотел… А охолонешь трошки, сидишь в землянке или в секрете, про дом вспоминаешь, про землицу эту… «Чья она?» – думаешь. У меня до самой революции земли-то с воробьиный скок было. А у полкового командира нашего, Андрея Игоревича Сухомлинова, все мы знали, тридцать тыщ десятин, чистеньких… Да лесу сколько! И речки свои, и конные заводы, и зерновые ссыпки, и так и далее… «Эх, думаешь, дали тебе в руки винтовочку трехлинейную: за веру, царя, отечество, мол, братцы, вперед! А чье же это самое отечество?»
Евстигнеев приподнялся.
– Эй, не так, орлы, не так! – крикнул он молодым бойцам, возившимся у пулеметной ячейки. – Извиняюсь, товарищ комвзвода, я сейчас…
Он подошел к бойцам, что-то объяснил им и, вернувшись, снова сел рядом с Петром.
– Дозвольте, я уж закурю… Так вот… Сейчас мне сказали бы: «Собирай, сержант Алексей Степанович, пожитки да ступай домой». Без тебя, мол, довоюем… Не пошел бы! Истинно говорю. И раненый не пошел бы. Пока фашиста не прогоним, пока и духу его поганого не будет на нашей земле, пригодится Алексей Степанович… Конечно, как говорил мой родитель, в первую силу под старость не войдешь… Ну, силы покудова есть… Не на одного фашиста хватит…
– У меня батько вот такой же, – вставил Петро. – Вероятно, партизанит сейчас.
Евстигнеев с его умными, проницательными глазами, с обстоятельными, мудрыми рассуждениями все больше нравился Петру.
– Вы вот, Степанович, сибиряк, – сказал он. – Оккупанты до вашего села никогда не доберутся. А говорите так, будто ваша хата и семья остались на Украине… или в Белоруссии.
– Ну-к что ж?
– Вообще, так, конечно, рассуждает каждый советский человек…
– Во-во! Жизнь одну строим, что я в Сибири, что, скажем, Арсен Сандунян в своей Армении… Об одной, говорю, жизни мечтаем. Как же совесть у меня может быть чистая, если я, скажем, сижу дома, колхозом своим любуюсь, трудодни подсчитываю, а фашист этот в Белоруссию помещиков обратно понасажал, людей в ярмо впрягает…
Евстигнеев выбросил окурок и нагнулся, чтобы сорвать травинку. Перекусив ее, продолжал ровным, спокойным тоном:
– …Когда в Запорожье Днепростанцию воздвигнули, а потом заводы поставили, я ездил с нашими ударниками в эту… экскурсию. Премировка нам такая была… Поглядел. «Ну, думаю, дюже это хорошо да ладно будет, если мы таких побольше понастроим. В общественный котел, для общего, сказать бы, нашего… богатства». И вот же, сам я в этом деле ни топориком, ни молоточком не работал, а хожу гордый. Потому что в гражданскую гнал я и гайдамаков и белополяков с Украины И акурат был раненный на Украине, за Днепром. Теперь рассудите, товарищ комвзвода, мог я или другой такие думки иметь в голове, когда над нами всякие Сухомлиновы командовали? У меня старший сынок, он постарше вас, на инженера выучился, мосты строил. А сейчас полковником. Недавно письмецо получил….
Петро заметил Вяткина, ходившего между окопами со свертком газет, окликнул:
– Что новенького, Василь Васильевич?
Вяткин подошел, вытянул из пачки газету и протянул ему:
– Бои сильные под Харьковом и Барвенковом. По восемьдесят самолетов наши сбивают.
Он присел рядом и сказал:
– Кончите рыть окопы, прошу готовить взвод баню.
– Вот это толково! – одобрил Петро.
В город батальон повели спустя два часа. Петро вымылся вместе с людьми своего взвода и, с удовольствием ощущая в теле легкость и свежесть, ожидал, пока выйдут все бойцы.
Евстигнеев и Вяткин озабоченно пересчитывали белье, укладывали тючки на повозку. Вдруг Евстигнеев поспешно поправил сползшую на затылок пилотку, одернул выгоревшую на солнце гимнастерку и, шепнув что-то Вяткину, вытянулся. К ним, опираясь на палочку и заметно прихрамывая, шел какой-то военный с двумя шпалами на петлицах.
Петро узнал его. Это был комиссар полка Олешкевич. Он очень похудел, узкое моложавое лицо его с шрамом на левой скуле вытянулось еще больше и стало болезненно-бледным, волосы на висках поседели совершенно. Но шагал он бодро, даже весело, здороваясь за руку со знакомыми ему бойцами.
Вяткина он заметил издали.
– Василь Васильевич! Привет тебе из твоего родного города!
Вокруг Олешкевича столпились. Узнавая некоторых, он, как бы проверяя свою память, вслух вспоминал:
– Стасенке. Еще один треугольник дали? Справедливо.
– Э, Сандунян! Что спрятался? Покажи, покажи-ка медаль… Давно заслужил!
Петро подошел поближе. Взгляд Олешкевича скользнул по его лицу, потом комиссар поглядел на него более внимательно.
– Рубанюк! – воскликнул он не совсем уверенно, продолжая разглядывать Петра. – Ну да… конечно! Батюшки мои, да он уже командир! Ну, поздравляю! От всей души… И с орденом поздравляю, – Олешкевич крепко пожал руку Петра; не отпуская ее, – сказал бойцам – Еще увидимся, товарищи! Пошли, Рубанюк, проводи немного. Василь Васильевич, занят? Ну, потом с тобой…
Он шагал, слегка морщась, и Петро, искоса наблюдая за ним, сказал:
– Не рано, товарищ комиссар, выписались? Вас ведь тогда сильно покорежило…
– Ничего. Медицина приказывает побольше двигаться. Здесь быстрей подживет. Ты мне вот что расскажи: жену свою разыскал? Когда меня в госпиталь эвакуировали, тебе для этого отпуск дали.
– Ну и память у вас, товарищ комиссар! – сказал Петро изумленно. – Вы ведь тогда были очень плохи… Виделся с женой, спасибо.