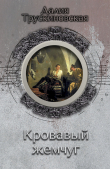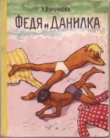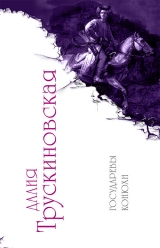
Текст книги "Государевы конюхи"
Автор книги: Далия Трускиновская
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 74 страниц)
– Ну так что там был за человек в рясе и с мешком? – напомнил Деревнин.
Стенька торопливо примостился боком на лавку, схватил перо, ткнул его в оловянную чернильницу с синими чернилами, взял с верха стопки нарезанной под столбцы бумаги два листа, пристроил их с подьяческим щегольством на колене и принялся лепить одну за другой впритык быстрые буковки с жирными росчерками – наловчился!
– А лет ему от роду до тридцати, а росту восьми вершков…
Предполагалось, что о двух аршинах, к которым добавлены те восемь вершков, и так всякий догадается.
Деревнин с любопытством глядел на Стенькин труд.
– Пятно на роже, говоришь?
– На левой щеке, преогромное! Ну, как… как… как перепелиное яичко!
– Гляди ты… А на что смахивало? Или кругловатое?
Стенька задумался.
– Нет, вроде мыши, жопка толстенькая, к головке – поуже.
– И головкой куда?
– Да к носу.
– Так и пиши.
– И про жопку?
– Пиши, пиши! По твоей записи людям его, сучьего сына, искать!
Стенька закончил описание, провел пером по краю чернильницы, сгоняя лишние чернила, и положил на место.
– В этом дельце, Гаврила Михайлович, непонятного много. Дворня толковала, что младенца подземной норой унесли. Ведь ни один пес не взлаял! Так для чего же его обратно инок в мешке доставил? Через ворота? Не проще ль перекинуть через забор было?
– А что там у боярина за тыном? – спросил Деревнин.
– С одной стороны – князя Сицкого двор.
– Ну а коли, не приведи Господи, князь Сицкий руку приложил? Сразу бы и сделалось ясно, чей грех. Либо тот злодей не хотел на Сицкого подозрение наводить… – Подьячий задумался. – Пойдешь, поглядишь, что там еще в соседстве.
– Да что глядеть, коли я знаю, где младенца нашли? Я с той стороны подойду, да все и пойму! – бодро отвечал Стенька, и Деревнина охватило привычное беспокойство: когда подчиненный так решительно рвался в бой, можно было ожидать всяких недоразумений.
– Гляди мне! – на всякий случай одернул он Стеньку.
– Другая закавыка – куда он, блядин сын, подевался, – продолжал Стенька. – Он ведь не через погреб уходил. Кабы через погреб – бочку бы за собой впопыхах не задвинул. А бочка плотненько лаз прикрывала. И сдается мне, уж не в доме ли он прячется? И не тот ли, кто дитя из дому вынес, ему, стервецу, пособляет?
– Всех баб и девок, которые дитя вынести могли, к ответу призвали, такой не осталось, чтобы под твое подозрение подпала.
– А коли не баба и не девка?
– А кто еще в горницы да в светлицы полезет?
Стенька пожал плечами – подьячий был чересчур хорошего мнения о бабьей и девичьей добродетели.
– Есть еще девки и няньки, что за боярышнями ходят, – добавил он.
– А как ты полагаешь, почему их не тронули? – спросил Деревнин. – К ним особая лестница из сеней ведет. Им до покоев боярыни так просто не добраться. Я сказки, что у боярского ключника да у приказчика отбирали, со всем тщанием читал.
– Так, может, ключник с приказчиком и скажут, куда инок подевался? – дерзко спросил Стенька. – Уйти через ворота или через тын не мог – псы бы всполошились. Через погреб – не мог! Выходит, он у боярышень в светлице до сих пор сидит?!
– Ты что околесицу несешь? – одернул его Деревнин, однако призадумался. – А что, Степа, коли инок тут ни при чем? Прибрел да и убрел ни свет ни заря? А дитя через забор подбросили?
– Не мог он незамеченным к воротам подойти. Ты, Гаврила Михайлович, тех кобелей не видывал.
Стенька представил себе вороных, с телка ростом, кобелей, пришел в восторг от их песьих статей и выпалил:
– Не псы – орлы!
– Да ну тебя! – сказал, отсмеявшись, Деревнин. – Инока искать, конечно, будем. Да только вряд ли сыщем.
– Сыщем, Гаврила Михайлович! А теперь Мирона вызволить надобно!
– Да, Мирон! Так, говоришь, он в том подвале под боярскими хоромами, куда из ледника попасть можно через нору?
– Именно там, Гаврила Михайлович!
– Там-то там… – Деревнин задумался.
Он пока не мог взять в толк, как объяснить боярину, что у него в подвале сидит земский ярыжка. Сказать про розыск – боком бы не вышло. Опалится гневом старый черт, что к нему на двор без спроса залезли…
– Собирайся, Степа… – Подьячий забрал столбцы с приметами и пошел к дверям, что вели из столовой палаты в малую крестовую. – Жди на дворе. Вели Матюшке, чтобы сухие онучи тебе дал.
Когда Стенька дождался Деревнина, то просто ахнул. Подьячий медленно спускался по ступеням высокого крыльца. Был он в лисьей, бархатом крытой шубе поверх дорогой, тонкого скарлатного сукна, однорядки, в желтых сапогах, а в руке – посох, отделанный рыбьим зубом, и борода на стороны важно так расчесана. Коли не приглядываться, так и не увидишь, что к поясу с серебряными бляхами еще и чернильница подвешена…
Солнце припекало, а Деревнин шел по двору неторопливо, с достоинством. На Стеньку взглянул свысока, чуть кивнул – за мной, мол, следуй. Деревнинская челядь повыскакивала из всех углов, бабы с девками разинули рты – хозяин-то почище иного князя!
– Извозчика мне раздобудь, – велел Деревнин. – Да не на кляче!
Стенька опрометью кинулся за ворота. Сапоги еще не успели высохнуть, с мокрых волос на рубаху натекло, да это все – дребедень! Подьячего нужно с достоинством в тележку усадить, чтобы прибыл ко двору боярина Троекурова во всем великолепии и как можно поскорее, пока от жары не взмок!
– А сам – живо в приказ, и жди меня там, – велел Деревнин, садясь в тележку. С тем и отбыл, держа посох промеж расставленных колен, глядя не перед собой, а ввысь.
Стенька побежал в приказ. Его кафтан с буквами «земля» и «юс» остался у Мирона дома, без кафтана он на торгу был – никто. Поэтому он забрался в угол, к писцам, попросил перо и стал помогать Гераське Климову перебелять черновые записи по делу о покраже церковной чарки.
Деревнин пропадал у боярина довольно долго. Вошел неожиданно, уже без шубы, шубу тащил за ним следом пристав Кузьма Глазынин. Стенька, подражая писцам и подьячим, сунул перо за ухо, вскочил и вылупил глазищи.
– Пойдем, Степа, – мрачно, мрачнее некуда, сказал подьячий. Они забрались во второй ярус приказного здания, согнали с места двух пожилых писцов и сели тихонько под образами.
– Мирон-то как? – не удержавшись, первым делом спросил Стенька.
– Не добрался я до Мирона.
– Как же быть-то?!?
– Не вопи. Как быть – это мы сейчас вдвоем решать будем…
Коли подьячий Деревнин своей волей тайно отправил подчиненных на двор к знатному боярину, то лучше бы об этом лишние люди не знали – это Стенька и без намеков понимал. И вызволять Мирона тоже надобно без шума – не то Троекуров и до государя с челобитной доберется. А что такое Деревнин против Троекурова? Сирота убогий со всем своим серебришком в поставце да яйцом строфокамиловым!
– Гаврила Михайлович… – явив в шепоте все сочувствие, на которое способен, Стенька вытянул шею и снизу вверх уставился в лицо начальника.
– Явился я, велел к боярину отвести – ведомо-де нам учинилось, что пропавшее дитя нашлось. Вызвали приказчика, он не пустил, боярин-де в крестовой палате с боярыней, Богу молятся, и прочим тоже не до пустых разговоров, горе… Я тогда приказчику велел отвести меня хоть в какую из палат, чтобы у него сказку об отыскании младенца отобрать. Он меня и к окну подводил, и перстом тыкал, я все слушал. Потом и говорю – ведомо-де нам учинилось, что под боярским домом в земле норы вырыты, и одна даже в погреб, где ледник, выходит, и по тем норам-де могли дитя сперва вынести, потом обратно принести.
– Ну, ну?.. – нетерпеливо шептал Стенька.
– И почему-де боярин, да и ты, блядин сын, когда у вас сказки отнимали, ничего про те норы не сказали?!
– Так его, ирода!
– Он мне и говорит – потому и не сказали, что боярин не велел.
– Ого?!?
– Да помолчи ты, Степа, дай слово вымолвить. Боярину, когда в погребе до норы докопались, сразу донесли, и он велел шуму не поднимать, нора-де только до подвалов тянется, и он про нее-де ведает. Когда дом перестраивали, много в земле всяких ям и дыр видели, иные закопали, иные так оставили. И я спросил тогда – а нельзя ли на двор через те погреба попасть? И он сказал, что попасть через них нельзя, сам там бывал, сам все видел и знает.
Странное сложилось положение – обычно Стенька все докладывал своему подьячему, теперь же Деревнин докладывал ярыжке, но оба этой нелепицы пока не замечали.
– Мне бы туда… в служивом кафтане… – затосковал Стенька. – Ты, Гаврила Михайлович, на боярина зуб вострил, да ему не до розысков, а я бы с дворней потолковал…
– Дурак! – сказал на это Деревнин. – Как будто я не толковал! Троекуров меня видеть не пожелал, а приказчику Ваське велел, чтобы людишки на вопросы отвечали.
– И что? И что?!
– Запуганы, лишнее словцо брякнуть боятся. Я уж с иного конца заезжал – не было ли покражи, не пропало ли вместе с ребенком что ценное? Думал, заговорят. Какое там… И тебя вдругорядь не пошлешь – признают.
– А про иноков? Про иноков-то?..
– Которые ночевать просились? Спрашивал. Куда все трое подевались – никто не ведает. Полагают, когда тело обнаружилось да шум поднялся, они и сбежали. Один лишь мешок остался, и тот пустой.
Стенька насторожился.
– Какой мешок, Гаврила Михайлович?
– Почем я знаю? Кто-то из вас троих у крыльца мешок позабыл. Где ночевали…
– Пустой? Гаврила Михайлович, ниточка!!!
Все, кто был на тот час во втором ярусе приказа, обернулись.
– Еще раз ниточку помянешь – выгоню со службы! – рявкнул подьячий.
Стенька орлиным взором уставился на писца Иванова, шагнул к нему и протянул плохо отмытую руку к стопке аккуратно нарезанной для столбцов бумаги. Иванов прикрыл свою бумагу обеими руками, всем видом показывая – без боя и лая не отдаст. Но Стенька замер, соображая. Эти листки были для его замысла маловаты. Он завертел головой – где тут наверху, на полках, неразрезанную бумагу хранят? Увидел, сорвался с места, полез на скамью, обрушил на себя сверху кучу всякой дряни, разбил пустой горшок для клея, притащил целые листы, положил перед Деревниным на стол, выдернул из-за уха перо и начал рисовать.
Он видывал чертежи отдельных частей Москвы, составленные в Разрядном приказе, видывал и чертеж всего города, он представлял себе, как это дело делается, и начал с главного: провел две линии, одну под другой, и написал промеж ними крошечными буковками «стена». Нарисовал на «стене» домик с двускатной крышей, приписал «Спасские ворота». Подумал, развернул лист так, как ежели бы он сам входил сейчас в ворота, отчего надписи вышли вверх ногами, и вывел прямоугольник, а в нем принялся было рисовать
крошечный храм с несколькими главами, да толщина пера не позволила. Тогда Стенька приписал попросту «монастырь», имея в виду Вознесенcкую девичью обитель.
Таким образом он добрался и до двух граничащих дворов – Троекурова и Сицкого. Деревнин с любопытством наблюдал за этими упражнениями и дивился – такой способности он за своим ярыжкой не примечал.
– Вот, Гаврила Михайлович, – сказал, завершив свой труд, Стенька и утер со лба пот. – Вот тут боярышень крыльцо, вот тут тело подняли… вот подклет, куда нас ночевать пустили…
– Мелко у тебя, ничего не понять, – щурясь, отвечал Деревнин.
– А мешок, выходит, тут валялся? У крыльца? – Стенька был возмущен беспредельно. —
Стало быть, тот инок вышел спозаранку, дитя из мешка вынул, мешок кинул, а сам дитя еще вон куда понес! Ну, не дурак ли? Да и для чего мертвое дитя из мешка было вынимать? В остатний раз полюбоваться? Гаврила Михайлович, что-то тут неладно!
– Помолчи, сделай милость…
Деревнин задумался.
– И к чему она была, твоя ниточка?
Стенька задумался, восстанавливая причудливый ход своей мысли.
– Мертвое дитя либо в мешке принесли, либо через забор перекинули, – сказал он. – Мы с Мирошей свои мешки с собой прихватили – стало быть, у крыльца нашелся того инока мешок. Почему он там мешок бросил? Вот я бы бросил ненужный мешок перед тем, как удрать. А он вынул младенца, понес его в сад, еще куда-то из сада шел…
– Ты себе нелепицами башку дурную забиваешь, – сказал на это Деревнин.
– Но ведь сгинул тот инок?!
– Сгинул… Не миновать еще раз к Троекурову тащиться, Степа.
– Гаврила Михайлович, а коли меня не признают? Я же весь в саже был, грязный, как прах! Так и я бы…
– Ты и теперь не лучше. А Мирона нужно поскорее вызволять. Ага! Вот кто нас выручит.
Деревнин поднялся и направился вниз. Там он вызвал из общей комнаты Аникея Давыдова.
У подьячих была своя служебная лестница. Старый подьячий Семен Алексеевич Протасьев занимал на ней весьма высокую ступеньку. Он был «подьячий с приписью». Это значило, что Протасьев имел право «приписывать» выходящие из Земского приказа бумаги, то есть ставить на них свой росчерк и тем придавать им государственное значение. Он при нужде распределял работу между другими подьячими, проверял самые важные задания, вел приходно-расходные книги, от него зависели выплаты средств, необходимых для ведения дел.
Деревнин – тот был «подьячий со справой». Он своей подписью подтверждал правильность составленной в приказе бумаги, имел обязанность делать выписки по делам, а также в какой-то мере отвечал за молодых подьячих, но не столько приказывал им – на то был Протасьев, – сколько учил их.
А вот Аникушка Давыдов как раз и был «молодым». Сперва его взяли в приказ «неверстанным подьячим», то бишь без жалованья, потом, убедившись, что ремеслу учится успешно, назначили оклад.
Так что Деревнин был вправе давать Давыдову поручения и проверять их исполнение.
Мысль старого подьячего была проста – сам он ходил к Троекурову по делу об убийстве младенца, в котором розыск невозможен без самого боярина, а Давыдов пусть пойдет как бы по другому делу – искать монахов, о которых ведомо учинилось, что будто бы связаны с изготовителями воровских денег. Боярин, услышав, вряд ли сам пожелает принять подьячего, но велит кому-то из челяди ответить на его вопросы.
Аникушка был весьма доволен – чем просиживать штаны в приказе, лучше пройтись по Кремлю, глазея на женок и девок, угоститься в боярском доме (вряд ли отпустят без угощения, время такое, что подозрение в пособничестве фальшивомонетчикам Бог весть во что выльется…), да и Деревнин, глядишь, отплатит когда-либо добром.
Стеньку усадили и отобрали от него сказку о подземных приключениях. Важно было, чтобы Давыдов удачно нагнал страха на троекуровскую дворню, описав подвал и ход под капустной бочкой. А для того чтобы ему успешно извлечь оттуда Мирона Никанорова, Деревнин придал Давыдову целое войско – приставов Кузьму Глазынина и Никона Светешникова. И наказал спешить!
Стенька рухнул на колени и взмолился:
– Батюшка Гаврила Михайлыч, не губи душу, пусти меня, сироту, с ними в розыск, я ж там был, я знаю, как Мирона добывать!
– Ты, Степа, сейчас как та обезьяна, которой в прошлом году государя в Измайловском тешили, – отвечал на это Деревнин.
Пристава засмеялись, но добрый Аникушка пожалел Стеньку и велел живым духом нестись хоть на берег, опять умываться и оттираться. А ярыжку Захара послал к себе домой за новой шубой – когда идешь в гости к такому человеку, как Троекуров, без шубы быть вовсе неприлично, пусть хоть какая стоит на дворе жара.
Конечно же, Стеньке очень хотелось скорее помочь товарищу, но была у него и другая мысль – поглядеть внимательно на троекуровский двор. Ему не давали покоя появление тела в саду и исчезновение красавца-инока.
Когда он прибежал в приказ с красной от растирания, но весьма довольной рожей, все вышли на площадь, построились и пошли неторопливо, с большим достоинством: за главного Аникей Давыдов, задравши нос, в куньей шубе, крытой дорогим зеленым сукном, за ним парой – Кузьма с Никоном, оба здоровенные и плечистые, а впереди, расталкивая народ и требуя простора для подьячего, – разумеется, Стенька в служилом кафтане, позаимствованном у Захара Дедилова.
Уже у боярских ворот он вдруг вспомнил, что не рассказал Деревнину любопытное – про женку, которая расхаживает под Кремлем и безнаказанно палит из пистоли.
И все время, пока вместе с приставами был безмолвной свитой молодого подьячего, Стенька думал: говорить, не говорить?
Давыдов все проделал именно так, как научил Деревнин. Боярин, правда, сам не вышел, выслал приказчика, ну да оно и лучше – спора с боярином Давыдов бы не одолел. А на челядинца и прикрикнуть не грех.
– Ведомо нам учинилось, – грозно сказал он приказчику Василию Ильичу, – что просились к вам на ночлег трое иноков, а просились потому, что разведали – с вашего-де двора идет тайный ход в иное подземелье, и там чеканят воровские деньги. И те иноки сами – воры, тати, мошенники. И ты, коли не хочешь на одну доску с ними встать, показывай незамедлительно, какой такой у вас погреб, через который чуть ли не под государевы покои заползти можно!
Приказчик, сам не свой от страха, помчался докладывать боярину и вскоре вернулся, имея вид человека, сбросившего с плеч немалую тяжесть.
– Батюшка наш велел вас к погребу вести. А дыру в земле мы засыплем, камнями заложим, да и сам погреб засыплем! Нам тут измены и воровских дел не надобно!
– Веди, – позволил Давыдов.
Стенька поморщился – уж больно молодой подьячий старался показать свою значительность. А как ни пыжься – все равно почтеннее Деревнина выглядеть не будешь, стать не та, голос не тот.
Пока шли к погребу, Стенька внимательно глядел по сторонам, запоминал расстояния. Боярский двор был невелик, пришли быстро, Давыдов приказал отпирать, послал вниз Стеньку, велел сдвинуть с места бочку и поглядеть, каков лаз. Сам стоял в шубе, выпятив бородку, неподвижно – еще недоставало, чтобы Земского приказа подьячий сам по грязным погребам в куньей шубе мыкался!
Стенька поднял в погребе неслыханный галдеж. Отодвинув капустную бочку, вопил он прямо в лаз, по имени Мирона не называя, но все известные товарищу имена приказных поминая исправно.
– Батюшка Аникей Порфирьевич! – голосил Стенька. – Как старым подьячим Деревниным говорено, лаз тот неширок, длинен, ползти можно!
– Скидывай кафтан, заползай! – приказал наконец сверху Давыдов.
Стенька бы полез, но услышал в лазе пыхтение.
– Мироша, выбирайся… – прошептал он. – Руку давай!
Он помог Мирону выбраться и отряхнул его от грязи.
– Слава те Господи, – сказал Мирон. – Дальше-то как?
– А как уговорились, – и тут Стенька вновь заблажил отчаянно: – Аникей Порфирьевич! Кузьма! Никон! Я его словил!
Приставы без лишних слов устремились в погреб и схватили Мирона.
– Он за бочками прятался! – восклицал Стенька, вылезая на свет Божий. – Ишь, кусаться вздумал! Не на такого напал! Я коли что изловлю – держу крепко!
– Молодец, хвалю, – весомо молвил Давыдов, явно подражая повадке подьячего Колесникова. – Этого человека мы забираем.
– Да уводите его, Христа ради! – сказал приказчик. – Нам он тут не надобен! Допросите у себя хорошенько, от кого он про наш погреб прознал. А дыру теперь заделаем, и помину не останется.
И вроде должен был вспотеть Аникушка в своей роскошной шубе, а пот со лба утер приказчик Василий Ильич. Стенька прошмыгнул мимо него и поспешил к воротам, за ним шествовал Давыдов, за Давыдовым приставы тащили Мирона.
Таким образом они покинули боярский двор, прошли через Кремль, явились в Земский приказ и там только отпустили свою добычу.
– Слава те Господи! – сказал Деревнин, когда ему обо всем доложили. – Обошлось! Благодарственный молебен в Казанском соборе закажу.
У Стеньки же мысли были отнюдь не божественные. Ему больше всего хотелось найти свой чертеж боярского двора, припрятанный Деревниным, и еще раз поразмыслить над расстояниями.
Мертвое тело либо перебросили через забор, либо его притащил загадочный инок Феодосий. Исчезновение инока могло означать что угодно – может, это он к красивой боярышне пробирался. Или же по каким-то своим хитрым причинам решил спрятаться на троекуровском дворе. Коли так – вряд ли он поволок бы с собой тельце в мешке, уж больно много приключений для одного человека получается. Тем более – дитя не первый день мертво, должен быть запах…
Стеньку опять посетила отчаянная мысль. И он уже не чаял, как бы поскорей добраться до дому.
Но не вышло – его отправили на торг, чтобы хоть под конец дня потрудился там, где по службе положено. А потом пришлось вместе с Мироном идти к нему домой за оставленным кафтаном, и было уже не до отчаянных затей.
Но Стенька, что бы ни делал, держал в голове свою распрекрасную мысль, поворачивал ее и так, и этак, она зрела, и это состояние умственной работы радовало его несказанно.
* * *
Пригнав аргамаков в Коломенское, Данила и Богдан пообедали, чем Бог послал, а послал он уху лещовую с пшеном сорочинским, гусиные потроха, пироги с сыром, оладьи с патокой. И по чарочке – как водится! Все это им выдали щедрой рукой на государевой кухне. Конюхов все знали и морить голодом бы не отважились – нажалуются Башмакову, поди потом оправдайся…
Не успели, вздремнув, подняться на ноги – новая забота. Кони есть – сбруи нет! А государю угодно любоваться, как молодых стольников учат, так что кони должны быть оседланы и взнузданы богато. А кому скакать в Кремль? Не так уж много конюхов на Аргамачьих и Больших конюшнях, и из того количества сколько-то взяли в Коломенское, каждый человек на счету. Тех, кого держат больше для черной работы, выходит, гонять не станут. А отправят уже несколько отдохнувших Богдана, Данилу, а также Семейку Амосова и Тимофея Озорного – вчетвером надежнее, ведь повезут дорогое конское снаряжение.
Данила, узнав про новое приказание, надулся – чаял отдохнуть подольше. Когда же Богдаш по дурной своей привычке принялся его вышучивать, Данила от скверного настроения вспомнил, как товарищ недавно вдруг ни с того ни с сего заговорил о Настасье-гудошнице.
С самой зимы не было о ней слышно. После Масленицы она, скорее всего, убралась из Москвы да и ватагу с собой увела. Убралась бы она так же и из Данилиной памяти!
Не мог позабыть, да и только. Выходит, не один он помнил…
Данила произвел целый розыск. И увидел, что Богдашка – в более выгодном положении, чем он сам. Взять хотя бы знакомство. Данила повстречал Настасью, будучи в самом жалком положении, замерзший, нищенски одетый, вспомнить хотя бы, как его зазорные девки принарядили – со стыда сгореть впору! А Богдаш не просто повстречал – в лесу от смерти спас. Такое не забывается. Да и хорош собой Желвак, они с Настасьей были бы славной парочкой, ее смоляная коса да его золотистые кудри…
И потом, зимой, когда ночью Данила схватился драться со скоморохом Томилой, валялся под ним в снегу, кто возник вдруг, словно архангел Михаил, поймал Томилину руку с ножом, спас товарища словно бы играючи? Богдаш! Опять показал свое молодечество, бесшабашную свою отвагу, а она-то смотрела…
Словом, Данила сделал все возможное, чтобы вогнать себя в лютую хандру.
Выехали не сразу – ждали послания к Конюшенному приказу, чтобы подьячие велели выдать из кладовых сбрую. Потом Тимофею приспичило зайти в Вознесенский храм, как будто раньше не мог. Вроде Великий пост давно окончился, до Петровского поста далеко, не время ему помышлять о божественном. Однако пришлось ждать с оседланными бахматами у белого церковного крыльца.
И, казалось бы, езды от Коломенского до Аргамачьих конюшен – менее десяти верст, однако тащились, как вошь по шубе. И притащились – пользуясь отсутствием государя, подьячие Конюшенного приказа разбежались, не дожидаясь вечера. Двери на запоре, сторож Сергейка (лет ему под семьдесят, а все – Сергейка) знать ничего не знает. Стало быть, с утра пораньше придется брать сбрую, а ночевать на Аргамачьих.
Тимофей очень обрадовался – хоть и с опозданием, а попадает на богослужение в Успенский собор. Богдаш и Семейка переглянулись, Богдаш показал Семейке кулак – что ж ты, брат, за нашим богомольцем не уследил? Того гляди, завел он нового знакомца в черном духовенстве, и тот знакомец его в обитель сманивает. Данила, видевший это, из чувства противоречия Богдашке увязался за Тимофеем. Опять же – есть о чем попросить Господа. Чтобы послал какого ни есть ангела вынуть из Данилиной души память о Настасье и ее поцелуях.
Богдаш и Семейка молча пошли следом.
Успенский собор был дивен несказанно – изнутри весь золотой. Так было сделано полтораста лет назад, роспись шла по золотому полю, и когда при государе Михаиле Федоровиче ее обновляли, то знаменщики тщательно перенесли все иконописание на листы. Государь пожелал возобновить внутреннюю отделку собора с большим против прежнего великолепием, и обошлась роскошь почти в две тысячи золотых червонцев. Тысяча квадратных сажен храмовых стен сияла золотом, Царские же врата пятиярусного иконостаса, установленного как раз накануне чумы, были серебряные. Тут не столько молиться, сколько дивиться на убранство и ощущать бессловесный внутренний трепет перед старинными намоленными образами.
Тимофей знал правила поведения в храме, и все же пошел, протискиваясь между богомольцами, к кануннику. Данила, не понимая его замысла, – следом.
Свечкой Тимофей запасся еще у входа, у свечного ящика. И, затеплив, прилепил ее, тоненькую, в широком, заросшем воском гнезде.
– Помяни, Господи, душу раба твоего младенца Ильи… – прошептал он. – И прости ему все прегрешения, вольные и невольные, и даруй ему царствие свое небесное…
Данила удивился – вроде никаких младенцев с таким именем в родне у Тимофея не числилось, а он, когда нападала святость, заказывал сорокоусты во здравие и за упокой по такому пухлому помяннику, что возникало сомнение: точно ли он хоть раз в жизни видел всех, кто туда вписан.
Два часа спустя, после службы Тимофей и Семейка объяснили, что за младенец такой. Причем Тимофей искренне жалел Илюшеньку, даже молвил горестно: «Вот так-то и заводи чадушек…», что заставило Богдана опять нахмуриться – явственно повеяло ладаном. Семейка же отнесся к смерти мальчика куда более спокойно – где город, там и воры, и злодеи, и мертвые тела, без этого город не живет…
Богдан и Данила, путешествуя в Казань и обратно, не знали о беде в троекуровском доме. А Семейка с Тимофеем очень хорошо знали – Кремль невелик, любая весть мгновенно его облетает.
Невелик-то невелик, а Данила не сразу понял, где тот троекуровский двор. Время было такое, что пора бы в постель, но вечер выдался теплый, ласковый, решили вчетвером пройтись. Во всяком кремлевском дворе росли яблоньки, во многих – сливы и вишни, сады стояли дымчато-белые, да еще бабы и девки разводили цветы. Хотя и прочих запахов хватало, но ветер с реки сейчас унес их и дышалось легко. Тимофей, пребывая после богослужения в просветленном состоянии, принюхивался, жмурился и наконец произнес в восхищении:
– Благорастворение воздухов! До чего же мир твой прекрасен, Господи…
Семейка, вполголоса рассказывавший товарищам об исчезновении и возвращении младенца Илюшеньки, замолчал. Богдаш тяжко вздохнул, но его вздох имел особое звучание – как если бы конюх набрал в грудь побольше воздуха для гневной речи, да передумал.
Данила усмехнулся – возможно, Тимофей просто поддразнивал товарищей, угрожая своим уходом в монастырь. А сейчас и самому Даниле хотелось тихо радоваться майскому вечеру. Таким бы вечером вызывать свистом в сад зазнобу и целовать под яблоней, и чтобы слетали на обоих нежные лепестки… а зазноба-то далеко, чем занята – Бог весть…
Чтобы отвлечь Тимофея от божественных мыслей, Семейка предложил выйти из Кремля из Спасских ворот, вместе с припозднившимися богомольцами, выйти к Васильевскому спуску, прогуляться берегом Москвы-реки и вернуться на Аргамачьи конюшни через калитку у Боровицких ворот. Там, на берегу, может статься, уже устраивается на ночь кто-то из знакомых рыболовов, тех, что приходят на конюшни просить белого конского волоса на лесу. Можно сговориться, чтобы знакомец принес на рассвете свежую рыбу к завтраку, а пожарить – у Богдана с Семейкой в домишке.
Водились в Москве-реке плотва, язь, голавль, жерех, лещ, карась, судак, окунь, сом, попадались белуга и стерлядь. Тимофей обожал и рыбу, и сами разговоры о ней, охотно согласился на прогулку, а Данила пошел просто потому, что с товарищами. Да еще хотелось ни о чем не думать и радоваться аромату черемухи.
Он еще в Коломенском ощутил в себе эту тревожную радость. Что-то ему обещала в этот год черемуха, а что – поди разбери.
Настасья могла ворваться в его жизнь только чудом… да и к чему?.. не судьба – значит, не судьба…
Днем это место было не слишком многолюдным – разве что по дороге вдоль берега шли телеги к Тайницкой воротной башне – там были малые ворота, удобные, чтобы доставлять мешки на Житный двор и чтобы попасть в большое приказное здание. Была там также пристань для лодок. Дорога, в сущности, занимала в ширину едва ли не всю полоску суши у воды, далее начинался невысокий откос, поросший всякой ненадобной зеленью – бурьяном, чертополохом, кое-где кустами бузины, ивняком, вербой. На пристани с удобствами устроились рыболовы.
Набрели на первого знакомца и завязался совершенно не любопытный Даниле разговор.
– Вот сейчас-то самый лов! – утверждал этот знакомец. – Рыба икру выметала, и после того на нее нападает жор! На все кидается, хоть на пустой крючок лови! Правда, такое счастье нам ненадолго…
– А что, лещишки отметали икру? – спрашивал Тимофей.
И знакомец, позабыв про уду, толковал о рыбьих повадках, после чего разговор сам собой свернул на варку тройной ухи с приправами, и ухи царской, и ухи архиерейской.
Данила не понимал, как можно часами сидеть, глядя на воду и не шевелясь. Потому и пошел себе потихоньку туда, где виднелась уже почти по колено в воде стоящая отводная стрельница Тайницкой башни.
Сторожевые стрельцы прогуливались по-над стеной, выглядывали, рыболовы задирали их, получая в ответ соленое словцо, но странным образом эта ночная жизнь не нарушала тишины. И, при всей своей умиротворенности, не давала Данилиной душе покоя. Он видел мелькающие меж зубцов фонари, он следил за отблеском на темной воде от фонаря, что на стрельнице, и была в мельтешении огоньков какая-то смутная тайна, обещание какое-то давнее, надежда невозможная…
– Данила! Куда подался, свет? – окликнул его Семейка. И пошел следом, как будто чуял, что вот-вот будет без него не обойтись…
В кустах на откосе, где-то между Тайницкой и Благовещенской башнями, послышалась возня. Кто-то вскрикнул, чьи-то шаги пролетели, раздался свист, ответили свистом же от Водовзводной башни.
– Эй! Кто там балует?! – заорал, выставившись меж зубцов, сторожевой стрелец с факелом.
– Посвети-ка! – крикнул ему снизу Семейка.
– Ты кто таков?
– Конюх я с Аргамачьих, Амосов! Свети, дурень!
Уж коли Семейка, для всякого находивший тихое и ласковое слово, назвал стрельца дурнем – стало быть, тревога, беспокоившая Данилу, была не придуманной, а настоящей.