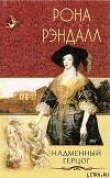Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 55 страниц)
Это была цена, которую она или, скорее, ее отец назначили за ее любовь.
Сюлли, игравший при Генрихе IV роль резонера, заметил королю, что в то самое время, когда тот потребовал у него эту сумму, составляющую шестьсот или семьсот тысяч нынешних франков, ему нужно сделать запас в четыре миллиона для того, чтобы возобновить союз со швейцарцами.
Однако, несмотря на свои возражения, Сюлли был вынужден выплатить ей сто тысяч экю.
Но стоило мадемуазель д’Антраг получить эти деньги, как она, понимая, что теперь ее отказ должен казаться королю странным, решила ссылаться на отца и мать.
И потому она написала Генриху:
«Мой великий король! За мной наблюдают так пристально, что у меня нет совершенно никакой возможности дать Вам все доказательства благодарности и любви, в которых я не могу отказать величайшему королю и любезнейшему мужчине. Для этого нужен благоприятный случай, но разве меня не лишают их всех с таким старанием и почти непреодолимой жестокостью? Я обещала Вам все, и я подарю Вам все; но для этого нужна возможность, а могу ли я ее иметь, находясь под надзором бдительных стражей, неотступно преследующих меня? Не будем обольщаться: у нас никогда не будет свободы, если мы не добьемся ее от г-на и г-жи д'Антраг; теперь уже вовсе не от меня зависит, проявлю ли я благосклонность к Вам, ведь я к этому более чем расположена. Вы завладели моим сердцем, так разве нет у Вас права потребовать меня?»
Ну а средство добиться от г-на и г-жи д’Антраг несколько большей свободы состояло в том, чтобы дать мадемуазель д’Антраг брачное обещание.
Вначале Генрих отказался.
Но мадемуазель д’Антраг была так красива!
Генрих предложил дать устное обещание в присутствии родителей.
Мадемазель д’Антраг ответила:
«Мой дорогой государь, я завела разговор и беседовала с г-ном и г-жой д’Антраг. Надеяться не на что. Я ничего не понимаю в их поведении. Но что я точно могу сказать Вашему величеству, так это то, что они никогда не уступят, если, дабы обезопасить их честь, Вы не согласитесь дать им брачное обещание. Они не соглашаются на устное обещание, но исходит это не от меня. Они упорствуют, требуя письменного обещания. Однако это не значит, что я не объясняла им ненужность и неоправданность подобной формальности и не говорила, что письменное обязательство будет не более действенным, чем данное слово, ибо нет на свете духовного судьи, который мог бы вызвать в суд человека, обладающего таким мужеством, такой славной шпагой и всегда имеющего для своих надобностей сорок тысяч хорошо вооруженных солдат и сорок готовых к бою пушек.
И все же, государь, коль скоро они упорно настаивают на этой пустой формальности, разве есть какой-нибудь риск в том, чтобы пойти навстречу их причуде? И, если Вы любите меня так, как я люблю Вас, разве можете Вы препятствовать тому, чтобы они были довольны мною? Выставьте все условия, какие пожелаете выставить; меня же удовлетворит все, в чем заверит меня мой возлюбленный».
Генрих был страстным игроком в подобных опасных любовных играх. Его легко можно было оторвать от игры, если он выигрывал, и никогда не удавалось сделать это, пока он был в проигрыше.
«В итоге, – говорит Сюлли, – эта спесивая и хитрая бабенка сумела так ловко увлечь короля и задурить ему голову, донимая его любовными письмами и ласковыми обещаниями, каждый день доходившими до его слуха, что он согласился дать обещание, без которого, как его убедили, ему никак не удалось бы получить то, за что им уже было так дорого заплачено».
К счастью, Сюлли был рядом.
Генрих IV ничего не предпринимал, не посоветовавшись с ним.
И вот, находясь в Фонтенбло и готовясь сесть в седло, чтобы отправиться на охоту, Генрих IV послал за Сюлли и, взяв его за руку, переплел его пальцы своими, как он это обычно делал, когда намеревался обратиться к нему с какой-нибудь просьбой, смущавшей его самого.
– Ну же, государь, – промолвил Сюлли, – в чем дело?
– Дело в том, мой дорогой Сюлли, – сказал король, – что, поскольку я делюсь с тобой всеми своими тайнами, у меня есть намерение доверить тебе один секрет, показав, что я хочу сделать ради завоевания сокровища, которое, возможно, мне не удастся найти.
И, вложив в руку Сюлли какую-то бумагу, он отвернулся в сторону, словно ему было стыдно видеть, как тот будет ее читать.
– Прочти это, – сказал он ему, – и выскажи мне свое мнение.
Сюлли прочел. То было брачное обещание короля мадемуазель д'Антраг.
Правда, это обещание предполагало выполнение одного условия.
Там говорилось, что Генрих обязуется жениться на мадемуазель д’Антраг лишь в том случае, если в течение года она произведет на свет ребенка мужского пола.
Закончив чтение, Сюлли подошел к королю.
– Ну, – спросил его Генрих, – что ты об этом думаешь?
– Государь, – ответил ему главноуправляющий финансами, – я еще недостаточно поразмыслил о деле, которое так сильно волнует вас, и потому не готов высказать вам свое мнение.
– Ну же, ну же, говори откровенно, мой дорогой, – промолвил Генрих, – и не скрытничай. Твое молчание обижает меня больше, чем это могли бы сделать все твои возражения и все твои упреки; ибо по поводу вопроса, о котором идет речь и в отношении которого мне не приходится ждать твоего одобрения после тех ста тысяч экю, что я заставил тебя отдать и что еще держат тебя за сердце, я позволяю тебе говорить все, что угодно, и уверяю тебя, что меня это вовсе не рассердит. Так что говори откровенно и скажи мне, что ты об этом думаешь. Я этого хочу, я это приказываю.
– Государь, вы и вправду этого хотите?
–Да.
– И вы не рассердитесь, что бы я ни сказал и ни сделал?
– Нет.
– Государь, – произнес Сюлли, разрывая надвое брачное обещание, – вот мое мнение, раз уж вы хотите его знать.
– Черт побери! Что это вы натворили, сударь?! – воскликнул Генрих. – По-моему, вы сумасшедший!
– Да, государь, – ответил Сюлли, – я сумасшедший и даже глупец, и очень хотел бы им быть, если я буду один такой во всей Франции.
– Я выслушал вас, – сказал король, – и, дабы не нарушать слова, которое я вам дал, не желаю, чтобы вы продолжали говорить.
С этими словами он покинул Сюлли.
Но, покинув Сюлли, он молча вошел в свой кабинет, попросил у Ломени чернил и бумагу и собственноручно написал новое брачное обещание, которое и было отослано.
Столкнувшись затем с Сюлли у подножия лестницы, он прошел мимо него, ничего ему не сказав, и на два дня уехал охотиться в Мальзербском лесу.
Вернувшись в Фонтенбло, Генрих обнаружил на полу своего кабинета сто тысяч экю.
Он приказал позвать Сюлли.
– Что это такое? – спросил он его.
– Это деньги, государь, – ответил Сюлли.
– Я прекрасно вижу, что это деньги.
– Угадайте, государь, сколько их здесь.
– Как, по-твоему, я могу угадать это? Мне понятно лишь, что их здесь много.
– Нет, государь.
– Что значит «нет»?
– Здесь всего только сто тысяч экю.
Генрих все понял и после минутного молчания произнес:
– Клянусь святым чревом! Дорогая вышла ночка!
– И это не считая брачного обещания, государь.
– О, что касается брачного обещания, – произнес Генрих IV, – то, поскольку оно действительно лишь при условии, что появится ребенок, а это уже зависит от меня ...
– Но, возможно, не от вас одного, государь?
– Да, но ребенок должен быть мужского пола, мужского.
– Доверимся же Господу, государь! Господь велик!
– А в мое отсутствие, – поинтересовался Генрих, – ничего нового не произошло?
– Произошло, государь. В Риме официально утвержден ваш развод.
– Ах, черт! – воскликнул Генрих, немного отрезвев. – Это сильно меняет дела.
Как раз через несколько дней после получения этой новости, и вправду сильно изменившей дела, помирившиеся Генрих IV и Сюлли, оставшись с глазу на глаз и положив ноги на каминные подставки для дров, вели беседу о новом браке короля, описанную нами в начале этой главы.
VIII
Как мы уже говорили, они остановили свой выбор на Марии Медичи. Однако Генрих все еще колебался.
Сюлли, сознававший, какое влияние он имеет на своего повелителя, все взял на себя и вместе с Вильруа и Силлери подписал брачный договор.
Затем, поскольку во время этой процедуры Генрих дважды вызывал его к себе, он отправился к королю.
– Чем, черт побери, ты сейчас занимался, Рони? – поинтересовался король, увидев его.
– По правде сказать, – ответил Сюлли, – я вас женил, государь.
– Ах так! – воскликнул Генрих. – Ты меня женил?
– Да, так что возражений у вас уже быть не может: договор подписан.
Генрих полчаса хранил молчание, почесывая голову и грызя ногти.
Наконец он прервал молчание и, ударив одной ладонью о другую, произнес:
– Что ж, пусть будет так; женимся, коль скоро для блага моего народа необходимо, чтобы я был женат. Но я сильно опасаюсь столкнуться со злобной особой, которая доведет меня до домашних дрязг, а их я опасаюсь больше всех вместе взятых трудностей войны и политики.
О какой злобной особе говорил король? О Генриетте де Бальзак д'Антраг или о Марии Медичи?
Но как бы то ни было, все было устроено так, как хотел Сюлли. И на самом деле, почти всегда именно так все и происходило между министром и королем.
Скажем несколько слов о Сюлли, самом известном после Генриха IV человеке той эпохи.
Об этом государственном муже знают не так уж много, так что неплохо взглянуть и на него в домашнем халате. Пока Генрих ссорится с любовницей по поводу своей женитьбы, о которой она только что узнала, воспользуемся этой минутой, чтобы заняться его министром.
Вы ведь вполне догадываетесь, что они могут сказать друг другу, не правда ли? А вот что я могу сказать вам о Сюлли, вы догадаться не в состоянии.
Сюлли утверждал, что он происходит из рода графов Бетюнских во Фландрии, тогда как его враги утверждали, что он является потомком всего-навсего какого-то шотландца по имени Б е т е н.
Его блестящая карьера подле короля началась, в действительности, во время осады Амьена; побуждаемый Габриель д'Эстре, он способствовал падению г-на Арле де Санси, тогдашнего главноуправляющего финансами.
Арле де Санси оказал огромные услуги Генриху IV, и, среди прочего, желая добыть для него деньги, заложил у ростовщиков в Меце прекраснейший бриллиант, входящий сегодня в число бриллиантов короны и носящий имя Санси.
Но однажды, когда Генрих IV советовался с ним по поводу своей женитьбы на Габриель д'Эстре, тот ответил ему:
– По правде сказать, государь, что та шлюха, что эта, но по мне лучше дочь Генриха Второго, чем дочь госпожи д'Эстре.
Генрих IV вполне простил это высказывание г-ну де Санси, которого он любил и ценил.
Однако Габриель ничего не простила ему и сделала все, чтобы поставить на его место Сюлли.
Сюлли весьма усердно обхаживал Габриель, но, став главноуправляющим финансами, он, совершенно естественно, выступил против нее.
Мы видели, какое горе он испытал при известии о ее смерти.
Что же касается Санси, слывшего честным человеком в такой же степени, в какой Сюлли считался окаянным грабителем, то он вернулся в частную жизнь и, наделав долгов на службе у короля, умер столь бедным, что Генрих издал указ, запрещавший всем кредиторам требовать заключения Санси в тюрьму, а всем судебным исполнителям препровождать его туда. Старик никогда не выходил на улицу, не взяв с собой этот указ, который он носил под камзолом, в бумажнике на цепочке. Нередко случалось, что его хватали приставы. Он позволял довести его до тюремных ворот и там показывал этот указ, что вынуждало приставов отпустить его.
Когда же его спрашивали, почему он так поступает, бедняга отвечал с наполовину веселым, наполовину грустным смехом:
– Я так беден, что это единственное развлечение, которое я могу себе позволить.
Скажем еще пару слов о г-не де Санси, под именем которого был издан «Сатирический развод» д'Обинье, а точнее, пару слов о его детях; после этого мы вернемся к Сюлли, а после Сюлли – к Генриху IV.
У г-на де Санси было два сына.
Один из этих сыновей был камер-пажом Генриха IV. Устав пешим носить факел перед королем, он счел правильным купить иноходца и верхом на нем разъезжать с факелом в руках. Король счел подобную роскошь несколько чрезмерной для пажа. Он осведомился о его имени, узнал, что это сын г-на де Санси, и приказал, чтобы по возвращении в Лувр пажа выпороли.
Все время, пока продолжалась порка, юноша кричал: «Par la mort!»[30]. А поскольку он картавил и вместо «Par la mort» у него выходило «Ра-la-mort», за ним закрепилось прозвище Паламор, и с того дня его только так и звали.
По словам Таллемана де Рео, это был довольно забавный человек. Однажды он повстречал на Орлеанской дороге г-жу де Гемене. Она возвращалась в Париж, а ему наскучило ехать верхом, поскольку стояла плохая погода. Он подъехал к карете г-жи де Гемене и остановил кучера.
– О сударыня! – обратился он к г-же де Гемене. – В долине Торфу орудуют грабители, и, так как вы одна, я предагаю вам себя в сопровождающие.
– Я признательна вам, но у меня нет страха перед грабителями.
– О сударыня! – продолжил настаивать Паламор. – Да не скажет никто, что я покинул вас в беде!
С этими словами он открыл дверцу и, несмотря на все возражения г-жи де Гемене, забрался в карету, предоставив своей лошади бежать позади нее, подобно собаке.
Как-то раз, когда г-жа де Бриссак, жена посла в Риме, должна была посетить там виноградники Медичи, Паламор отправился вперед посмотреть, все ли там на месте. Одна из ниш оказалась пустой. Стоявшую в ней статую накануне забрали в починку.
– О, да это скверно! – промолвил Паламор.
И, раздевшись и спрятав свою одежду в кустах, он встал в нише и принял позу Аполлона Пифийского.
В пятьдесят лет он сделался отцом-ораторианцем. С тех пор его называли исключительно отцом Паламором. То, что он носил имя Санси, было полностью забыто.
Поведение его было безукоризненным. Однако в комнате у него не было изображений других святых, кроме как верхом на коне и с мечом в руке, вроде святого Маврикия и святого Мартина.
Другой сын г-на де Санси, исполнявший прежде должность посла в Константинополе, тоже стал отцом– ораторианцем. Однажды он по пути заехал в монастырь кармелиток, основанный его дедом. Но монахини оказали ему почестей не больше, чем любому человеку, перед семьей которого у них не было никаких обязательств.
Он посетовал на это.
Когда же он заехал туда снова, настоятельница пожелала загладить свою вину; однако случилось так, что как раз в это время ключ от решетки куда-то запропастился. Понадобилось полчаса, чтобы его найти, а затем потребовались всякого рода церемонии, чтобы уговорить настоятельницу приподнять ее покрывало.
Наконец она его подняла, и монах увидел желтое как лимон лицо.
– Черт бы побрал эту ханжу, – воскликнул он, – заставившую меня полчаса ждать обед и в итоге показавшую мне яичницу!
И он повернулся к ней спиной.
Вернемся к Сюлли.
Его первой должностью стало место проверяющего пропусков во время осады Амьена. Весьма невежественный по части финансов, он, как только его назначили главноуправляющим финансами, взял себе в помощники некоего Анжа Каппеля, сьера дю Люа, который одновременно был сочинителем и, будучи верным своему начальнику, что случается весьма редко, напечатал во время опалы Сюлли небольшую восхваляющую его книжицу, носящую название «Наперсник».
Из-за этой книжицы сьера дю Луа арестовали и заключили в тюрьму.
Когда он предстал перед судебным следователем, тот спросил его:
– Обещаете ли вы говорить правду?
– Черт побери, – воскликнул сочинитель, – я поостерегусь делать это! Ведь я стою сейчас перед вами лишь из-за того, что говорил правду.
Хотя Сюлли и занимал пост главноуправляющего финансами, кареты у него не было, и в Лувр он ездил н а чепраке, как говорили в ту эпоху, желая сказать «верхом». Было это проявлением его скупости? Или это проистекало из того, что Генрих IV, не желавший, чтобы его паж ездил на иноходце, не хотел, чтобы его министр ездил в карете?
Маркиз де Кёвр и маркиз де Рамбуйе были первыми, кто обзавелся каретами. Второй оправдывался своим плохим зрением, а первый – слабостью ахиллова сухожилия. Король постоянно проявлял недовольство по их поводу, и они прятались, оказавшись на его пути.
Людовику XIII точно так же претило видеть вельмож, позволявших себе подобную роскошь. Как-то раз ему встретился г-н де Фонтене-Марёй, ехавший в карете.
– Почему мальчишка едет в карете? – поинтересовался король.
– Он едет жениться, – ответили ему.
Но это не было правдой.
Во времена Генриха IV мало кто даже знал, что такое лошади, обладающие иноходью. У одного лишь короля был иноходец, а позади него все ехали рысью.
Когда король назначил г-на де Сюлли главноуправляющим финансами, этот человек сделал то, что обычно делают короли Франции, когда их призывают к власти: он составил перечень своего имущества и вручил его королю, поклявшись, что намерен жить лишь на свое жалованье и сбережения от доходов со своего поместья Рони.
Король, который был гасконцем, долго смеялся над этой поистине гасконской похвальбой.
– Право, – сказал он, – до нынешнего дня я никак не мог решить, шотландское у Сюлли происхождение или фламандское. Теперь ясно, что он шотландец.
– Но почему, государь? – спрашивали его.
– Да потому, что шотландцы – это северные гасконцы.
Дело в том, что Генрих IV видел лишь то, что он желал увидеть, свидетельством чего служит тот день, когда г-н де Прален вознамерился показать королю Бельгарда в спальне у Габриель. Так что Сюлли не обманул его своей мнимой непреклонностью.
Однажды, когда он с балкона наблюдал за тем, как Сюлли проходит по двору Лувра, Сюлли поклонился ему и, кланяясь, споткнулся и чуть было не упал.
– О, не удивляйтесь этому, – сказал король, обращаясь к тем, кто находился рядом с ним. – Если бы у самого горького пьяницы из моих швейцарцев голова кружилась от стольких же магарычей, сколько мзды взял этот человек, он растянулся бы во весь рост.
IX
Сюлли, который пользуется столь широкой известностью после своей смерти, при жизни не особенно любили. Объясняется это его грубостью и неприветливым видом.
Однажды вечером, после обеда, пять или шесть сеньоров из числа тех, кого милостивее всего принимали в Лувре, явились на поклон к Сюлли в Арсенал.
Имена этих сеньоров не позволяли ему выставить их за дверь: имея право входить в покои короля, они вполне имели право входить и в покои Сюлли.
Так что он принял их, но с присущим ему хмурым видом.
– Что вам угодно, господа? – спросил он у гостей.
Один из них, полагая, что он и его товарищи будут лучше приняты, если сразу же известить главноуправляющего финансами, что никто из них не явился просить у него милостей, ответил:
– Будьте покойны, сударь, мы явились лишь ради того, чтобы увидеть вас.
– О, если вы пришли лишь ради этого, – ответил Сюлли, – то нет ничего проще.
И, дабы они могли его увидеть, повернулся к ним лицом, затем спиной, а потом вошел в свой кабинет и закрыл за собой дверь.
Один итальянец, из числа тех, кто приехал во Францию вслед за Марией Медичи, неоднократно являлся к нему по денежному вопросу, но, встречая каждый раз грубый прием, не вытянул из Сюлли ни пистоля.
Выйдя в очередной раз из Арсенала, он проходил через Гревскую площадь как раз в то время, когда там вешали трех злоумышленников.
– О beati impiccati, – воскликнул он, – che non avete da fare con quel Rosny! (О счастливцы висельники, не имевшие дела с этим Рони!)
Неохота, с какой он давал деньги, чуть было не кончилась для него бедой. Прадель, бывший дворецкий старого маршала де Бирона, человек, хорошо знакомый королю, никак не мог добиться справедливости от Сюлли, отказывавшегося платить ему жалованье. Однажды утром, когда Прадель проник в обеденную залу к Сюлли и тот начал настаивать, чтобы он оттуда убрался, а посетитель упрямо там оставался, Сюлли решил вытолкать его в спину; но Прадель схватил с накрытого стола нож и заявил Сюлли, что, если тот коснется его хотя бы пальцем, он всадит ему нож в живот.
Сюлли укрылся в своем кабинете и дал слугам приказ выгнать Праделя вон.
Прадель отправился к королю.
– Государь, – сказал он, – по мне лучше быть повешенным, чем умереть с голоду, ибо это происходит быстрее. Если через три дня мне не выплатят жалованье, я с прискорбием извещу вас, что убил вашего главноуправляющего финансами.
И он в самом деле поступил бы так, как сказал; однако Сюлли, подчиняясь недвусмысленному приказу Генриха IV, выплатил Праделю все сполна.
Сюлли пришла в голову мысль, вполне, кстати, неплохая, украсить главные дороги, посадив вдоль них вязы.
Эти вязы стали называть р о н и.
Главноуправляющего финансами ненавидели так сильно, что крестьяне рубили эти вязы, чтобы доставить ему неприятность.
– Это р о н и, – говорили они при этом, – сделаем из них б и р о н о в.
Бирон, напомним, в 1602 году был обезглавлен.
По поводу этого Бирона, о котором, естественно, у нас еще пойдет речь, как и о всех других великих людях эпохи царствования Генриха IV, Сюлли в своих «Мемуарах» рассказывает следующее:
«Господин де Бирон и двенадцать самых блестящих придворных никак не могли довести до ума балет, который они взялись разучить.
Чтобы балет состоялся, — добавляет он, – король приказал мне прийти и взяться за это дело».
Вы вряд ли представляете себе Сюлли в качестве балетмейстера, не так ли, дорогие читатели? И все же это было если и не его призванием, то, по крайней мере, предметом его гордости. В отличие от Крийона, никак не желавшего научиться танцевать, поскольку для этого нужно было сгибаться и отступать, танцы были страстью Сюлли. Каждый вечер, вплоть до самой смерти Генриха IV, королевский камердинер по имени Ла Рош являлся к Сюлли и играл на лютне мелодии танцев, бывших в то время в моде, а Сюлли танцевал совершенно один, водрузив на голову причудливый колпак, который он обычно носил у себя в кабинете, и не имея других зрителей, кроме Дюре, именовавшегося позднее президентом Шеври, и своего секретаря Ла Клавеля.
Однако иногда, по большим праздникам, туда приводили девиц легкого поведения и все паясничали вместе с ними.
Став вдовцом после смерти своей первой жены Анны де Куртене, он вторым браком женился на Рашель де Кошфиле, вдове Шатопера. Это была бойкая бабенка, не отказывавшая себе в удовольствии иметь любовников. Сюлли, впрочем, не обманывался на ее счет, и, дабы никто не обвинял его в неведении того, что на самом деле ему было прекрасно известно, он в счетах, где записывались деньги, выдаваемые им жене, помечал:
«Столько-то на ваш стол,
столько-то на ваши наряды,
столько-то на ваших слуг,
столько-то на ваших любовников».
Он приказал построить отдельную лестницу в покои его жены, никак не связанную с его собственной лестницей.
Когда новая лестница была закончена, он вручил ключ от нее графине, сказав ей при этом:
– Сударыня, велите известным вам людям пользоваться этой лестницей. Если в дом они будут входить по ней, я не скажу ни слова. Но предупреждаю вас, что если какой-нибудь из этих господ встретится мне на моей лестнице, я заставлю его пересчитать все ее ступени.
Он был кальвинистом и, дав королю совет отречься от протестантской веры, сам отречься так и не пожелал.
– Душу спасти можно, пребывая в любой вере, – говорил он.
Умирая, он на всякий случай приказал, чтобы его похоронили в освященной земле.
Спустя двадцать пять лет после того, как все уже отказались от моды носить усыпанные алмазами ожерелья и ордена, он носил их ежедневно и, разукрашенный таким образом, шел прогуливаться под портиками Королевской площади, рядом с которой находился его особняк.
На склоне своих дней герцог удалился в Сюлли, где он содержал нечто вроде швейцарской гвардии, бившей в барабаны и отдававшей ему честь, когда он входил в дом и выходил из него.
«Помимо прочего, – говорит Таллеман де Рео, – он держал пятнадцать или двадцать старых павлинов и то ли семь, то ли восемь старых рейтаров из дворян, которые по звону колокола выстраивались в ряд, отдавая ему честь, когда он выходил на прогулку, а затем шли за ним следом».
Наконец он умер в своем замке Вильбон, через тридцать один год после смерти Генриха IV.
Людовик XIII присвоил ему звание маршала в 1634 году.
Поместье Рони в 1817 или 1818 году, насколько я помню, было куплено за два миллиона герцогом Беррийским.
Господин де Жирарден вел торг с герцогом Беррийским по поводу продажи ему поместья Эрменонвиль.
– И за сколько ты хочешь продать мне поместье Эрменонвиль? – спросил его герцог Беррийский, когда они охотились в Компьене.
– За два миллиона, монсеньор.
– Как?! За два миллиона?
– Да, разумеется. Разве не столько вы, ваше высочество, заплатили за Рони?
– А призрак Сюлли, по-твоему, в счет брать не надо? – спросил принц.
Господин де Жираден мог бы возразить ему: «Ваше высочество, а у нас есть призрак Жан Жака Руссо, и он стоит ничуть не меньше призрака министра».
Вернемся, однако, к Генриху IV.
X
Мы оставили его пререкающимся с мадемуазель д’Антраг, в то самое время, когда она узнала о предстоящей свадьбе короля с Марией Медичи.
Мадемуазель д’Антраг пребывала в тем большем гневе, что, напомним, согласно полученному ею брачному обещанию, Генрих должен был жениться на ней, если в течение года она произведет на свет ребенка мужского пола.
А мадемуазель д’Антраг была беременна.
Вопрос, таким образом, состоял лишь в том, чтобы узнать, окажется ее ребенок мальчиком или девочкой.
Королевский двор пребывал в Мулене, а мадемуазель д’Антраг находилась в Париже.
Она делала все для того, чтобы король приехал в Париж и присутствовал при ее родах.
Но Провидение решило не ставить Генриха в еще одно затруднительное положение.
Разразилась сильная гроза, молния ударила в комнату, где спала мадемуазель д’Антраг, прошла под ее ложем, не причинив ей никакого вреда, но вызвала у нее такой испуг, что она родила мертвого ребенка.
При известии об этом король поспешил приехать и окружил больную всяческими заботами. Мадемуазель принялась упрекать его в предательстве и в нарушении клятвы, но, понимая, что чересчур долго упрямиться нельзя, ибо это может наскучить ее августейшему любовнику, и что нет больше никакой надежды заставить его вернуться к ней, по крайней мере в качестве супруга, кончила тем, что согласилась принять как удовлетворение за убытки титул маркизы де Верней. Затем, переходя от крайнего высокомерия к полнейшей покорности, она попросила короля сохранить за ней хотя бы звание его любовницы, раз уж ей не удалось добиться звания его жены.
Но что в особенности склонило короля дать согласие на брак, столь ловко устроенный Сюлли, так это его подозрения в отношении Бельгарда. С Бельгардом, который, по слухам, был тайным любовником герцогини де Бофор, совсем неплохо, опять-таки по слухам, обходилась и мадемуазель д’Антраг.
Скажем пару слов об этом сопернике, которого Генрих IV всегда обнаруживал на пути в спальню своих любовниц.
Роже де Сен-Лари, герцогу де Бельгарду, великому конюшему Франции, было в то время, к какому мы подошли, всего лишь тридцать шесть лет.
Ракан говорил, что г-ну де Бельгарду приписывали три качества, которых у него не было:
во-первых, трусость;
во-вторых, учтивость; в-третьих, щедрость.
Бельгард был очень красив, а поскольку в ту эпоху красота служила превосходным средством добиться высокого положения при дворе, его обвиняли в том, что он этим средством пользовался. Он был фаворитом Генриха III, и в те времена о нем ходили весьма дурные толки.
– Смотрите, – попрекнули какого-то царедворца– неудачника, – как продвигается при дворе господин де Бельгард, а вот вы ничего не можете добиться!
– Черт побери! – отвечал царедворец. – Не велико чудо, что он продвигается при дворе, ведь его изрядно подталкивают сзади.
Он имел очень красивый голос и прекрасно пел, был чрезвычайно опрятен и отличался изысканностью речи. Но поскольку он слишком часто нюхал табак, то при всей этой опрятности и изысканности речи «к тридцати пяти годам, – говорит Таллеман де Рео, – у него стало течь из носу».
Со временем это недомогание усилилось.
Людовика XIII, который возвел Сен-Симона в герцоги за то, что тот не пускал слюну в его охотничий рог, чрезвычайно коробило от вида капли, неизменно висевшей на кончике носа у Бельгарда, и, тем не менее, он никак не решался сказать ему об этом, ибо испытывал к нему уважение как к другу отца, покойного короля.
– Маршал, – сказал он однажды Бассомпьеру, – ну возьмите же на себя труд сказать Бельгарду, что мне крайне неприятно видеть, как у него течет из носа.
– Право, государь, – ответил Бассомпьер, – я попросил бы вас, ваше величество, оказать, если вам будет угодно, кому-нибудь другому честь взять на себя это поручение.
– Тогда подскажите мне средство добиться того, что я хочу.
– О, это же очень легко, – сказал Бассомпьер. – В следующий раз, когда Бельгард явится к вашему утреннему выходу или к вечернему отходу ко сну, вам достаточно будет со смехом приказать всем высморкаться.
Король не преминул последовать его совету.
Однако Бельгард, догадавшись, кто нанес ему этот неожиданный удар, заявил королю:
– Государь, это правда, что я страдаю недомоганием, которое вы ставите мне в укор; но вы вполне можете смириться с ним, раз вы смирились с ногами господина де Бассомпьера.
Эта острота чуть было не привела к поединку между Бассомпьером и Бельгардом. Но вмешался король, и дуэль не состоялась.
Что же касается упрека в том, что он не был храбр, то упрекали его несправедливо; и в этом отношении герцог Ангулемский, сын Карла IX и Мари Туше, которым нам предстоит вскоре заняться, отдает ему полную справедливость в своих «Воспоминаниях»:
«Среди тех, кто во время осады Арка дал более всего доказательств своей доблести, следует назвать г-на де Бельгарда, главного шталмейстера, мужество которого сочеталось с такой скромностью, а дурное расположение духа с такой любезностью речи, что там не было никого, кто в бою выглядел бы более уверенным, а при дворе – более учтивым. Однажды он увидел разукрашенного перьями всадника, предлагавшего обменяться пистолетными выстрелами во имя любви к дамам; а поскольку г-н де Бельгард был более всех любим ими, он решил, что этот вызов на поединок адресован ему, и, без промедления пустив в галоп низкорослого испанского коня по кличке Фрегуз, напал столь же ловко, сколь и отважно, на этого всадника, который, выстрелив в г-на де Бельгарда издалека, промахнулся. Однако тот, приблизившись к противнику, пулей перебил ему левую руку, после чего всадник показал спину и стал искать спасение в бегстве, отступая к ближайшему из своих эскадронов».
Он не мог расстаться с привычкой волочиться за королевскими любовницами и женами. Побывав любовником герцогини де Бофор и мадемуазель д'Антраг, а затем прослыв любовником Марии Медичи, он начал волочиться за Анной Австрийской, хотя ему было уже пятьдесят или пятьдесят пять лет.