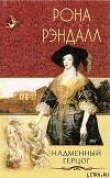Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 55 страниц)
– Ах, черт побери, господин Буаробер! – воскликнул государственный секретарь. – Вам следовало бы обойтись без того, чтобы докучать мне со всех сторон по поводу вашего брата, то есть человека никчемного.
– Сударь, – промолвил Буаробер, – то, что вы говорите сейчас о моем брате, мне прекрасно известно; вы могли и не говорить такое, ибо я пришел сюда не ради того, чтобы узнать это. Но, повторяя то, что я и так знал, вы открыли для меня нечто новое, а именно, что государственные министры умеют сквернословить. «Черт побери!», которое вы столь любезно бросили мне в лицо, подобало бы куда больше ломовому извозчику, чем вам. Запомните, сударь, мой брат будет восстановлен в списке, вопреки вам и назло вам!
С этими словами он покинул г-на де Ла Врийера и отправился к кардиналу Мазарини.
– Монсеньор, – сказал он ему, – вы за всю жизнь ничего не сделали для меня, за исключением того, что однажды, когда я не испытывал никакой надобности в кровопускании, выпустили три тазика крови из моего тела; так вот, я пришел просить вас восстановить моего брата в списке пенсионеров, что бы ни говорил и ни делал против этого господин де Ла Врийер: речь идет о моей чести.
Мазарини дал ему слово.
Но, поскольку те, кому Мазарини дал слово, мало на что могли рассчитывать, Буаробер, зная цену таким обещаниям, решил для начала дать выход своей злобе: он сочинил сатиру против государственного секретаря, назвав его Тирсисом.
В этой сатире, помимо других строк такой же силы, были две следующие:
И Дух Святой, с плеч трех ослов поднявшись со стыда,
Из нашей Галлии, в сердцах, унесся навсегда.
Закончив сочинять сатиру, Буаробер сел в экипаж и, переезжая от двери к двери, декламировал ее всем подряд.
Господина де Ла Врийера вовсе не обожали: кто-то запомнил две строчки, кто-то шесть, кто-то десять, так что по прошествии недели эту сатиру знал весь Париж.
Однажды утром г-н де Шавиньи прибежал к Буароберу предупредить его, что Ла Врийер намерен идти жаловаться в Пале-Рояль.
Буаробер тотчас помчался к своему другу маршалу де Грамону и вместе с ним явился к Мазарини.
– Стало быть, – промолвил Мазарини, прежде чем Буаробер успел открыть рот, – вы сочинили сатиру против бедного монсу Фелипо?
– Монсеньор, – ответил Буаробер, – стихи, которые я сочинил, никоим образом не направлены против господина Фелипо; я прочитал «Характеры» Феофраста и позабавился тем, что в подражение ему изобразил характер некоего смешного министра.
– Вы видите, как это несправедливо, монсеньор! – добавил маршал де Грамон. – Бедный Буаробер! Обвинять его в таком, тогда как он невинен, словно новорожденное дитя!
– Ну-ка, Буаробер, – произнес кардинал, – прочтите мне вашу сатиру.
Они уже дошли до последнего стиха, и кардинал покатывался от смеха, когда доложили о приходе Ла Врийера.
– Пройдите туда, – сказал Мазарини г-ну де Грамону и Буароберу, – и ни о чем не тревожьтесь.
Ла Врийер явился, исполненный ярости.
– Монсеньор, – крикнул он от порога, – я пришел просить у вас правосудия.
– Правосудия, монсу Ла Врийер?! – переспросил Мазарини. – Но оказать вам его это мой долг; и против кого вы просите правосудия?
– Против ничтожного поэтишки, трусливого памфлетиста, который оскорбил меня, облил грязью!
– Вот оно что!
– Он буквально выплеснул мне в лицо склянку чернил!
И Ла Врийер рассказал кардиналу о том, что произошло.
– Так что, это все? – спросил кардинал.
– Что значит «это все»? Стало быть, ваше высокопреосвященство полагает, что этого недостаточно?
– Но ведь речь там идет вовсе не о вас, мой дорогой монсу Ла Врийер.
– А о ком же?
– О неком смешном министре.
– О неком смешном министре?
– Ну да, и вам, разумеется, понятно, что это не можете быть вы; к тому же эта сатира является подражанием «Характерам» Феофраста.
В итоге монсу Ла Врийеру пришлось удовольствоваться этим ответом.
Ла Врийер удалился; кардинал выпустил из кабинета Буаробера и маршала де Грамона, которые все слышали и лопались от смеха.
– Однако, монсеньор, что будет с моим дураком– братом? – не забыл напомнить Буаробер.
– Будьте покойны, – ответил Мазарини, – он получит свой пенсион, я ведь дал вам обещание.
Однако, невзирая на обещание Мазарини, пенсиона так и не было, и потому Буаробер каждое утро являлся в переднюю кардинала.
– Приказ отдан, монсу Буаробер, – сказал ему Мазарини.
– Возможно, приказ и отдан, – ответил Буаробер, – но ничего не сделано.
– Все будет сделано.
– А господин де Ла Врийер, напротив, утверждает, что ничего не будет сделано, даже если ему прикажет это лично королева; после этого, как вы понимаете, монсеньор, ему остается лишь взойти на трон.
Во время этих пререканий г-н д'Эмери, тесть Ла Врийера, пригласил своего зятя отужинать у него дома и, словно по забывчивости, пригласил на тот же обед Буаробера, посадив врагов лицом друг к другу.
Буаробер блистал остроумием.
В итоге г-н де Ла Врийер был вынужден приказать своему секретарю Пенону выдать д'Увилю новый патент.
Однако Пенон медлил с выполнением приказа.
Тогда Буаробер отправился к Пенону и показал ему десять пистолей: тотчас же патент был выдан.
Взяв его в руки, Буаробер обратился к Пенону:
– Сударь, вроде бы я предложил вам денег?
– Да, конечно, сударь, – ответил тот. – Вы оказали мне честь, предложив десять пистолей.
– О сударь! – с видом глубочайшего сожаления воскликнул Буаробер. – Я прошу у вас прощения за то, что совершил подобное неприличие! Предложить вам деньги! Верно, я был пьян.
С этими словами он опустил в свой карман десять пистолей и вышел, унося с собой патент.
В течение трех лет д'Увилю выплачивали пенсион.
Однако через три года Ла Врийер предпринял новую попытку наступления и отобрал у д’Увиля патент.
«Господин государственный секретарь, – написал ему Буаробер, – обещаю Вам, что если в течение суток моему брату не вернут его патент, то через неделю известная Вам сатира будет напечатана».
Патент был возвращен.
Кардинал похвалил Буаробера за находчивость.
– Да он просто подлец, – ответил Буаробер. – Ему следовало дать приказ поколотить меня палкой.
В кругу людей, в котором он жил, Буароберу более всего вредило то, что он был несдержан на язык. Никогда, перед лицом кого бы это ни происходило, Буаробер не мог удержаться и не произнести остроту, готовую слететь с его уст.
Как-то раз он отправился в Малый Люксембургский дворец повидать господ де Ришелье – господами де Ришелье называли троих сыновей Виньеро, маркиза де Пон-Курле, и Франсуазы дю Плесси, принявших по завещанию кардинала фамилию и герб Ришелье, – как-то раз, повторяем, он отправился в Малый Люксембургский дворец повидать господ де Ришелье и был принят г-жой де Сове, которая была супругой интенданта г-жи д'Эгийон и имела репутацию весьма бесцеремонной особы.
– А, хорошо, что вы пришли! – еще издали крикнула она, едва завидев его.
– И почему же?
– Да потому, что мне следует вас побранить.
– Если так, то позвольте мне прежде получить отпущение грехов, как это подобает истинному христианину.
И Буаробер опустился на колени.
– Это вы-то истинный христианин?! Вы, кто повсюду слывет нечестивцем и безбожником!
– И вы верите этим сплетням?
– Нет, клянусь вам!
– И вы правы, не надо верить всему, что говорят: разве не слышу я повсюду разговоры о том, что вы распутница?!
– Ах, сударь, что вы такое говорите?! – воскликнула дама.
– О, я поступаю точно так же, как вы в отношении меня; успокойтесь: я ничуть в это не верю.
Но самое тяжелое для Буаробера обвинение, то, от которого ему было труднее всего отмыться, было тем же, 317
что некогда обрушило небесный огонь на проклятые города.
– Что это с вами, господин де Буаробер? – спросила его однажды мадемуазель Мельсон, весьма остроумная девица, позднее вышедшая замуж за государственного советника Жерара Ле Камю. – Вы весь взмыленный!
– Мадемуазель, – ответил Буаробер, – я только что нанес визиты судьям.
– По вашему собственному делу?
– Нет, по делу одного из моих лакеев, которого эти господа всеми силами хотят повесить.
– По правде сказать, – заметила мадемуазель Мель– сон, – лакеи Буаробера не созданы для виселицы: я нахожу, что им следует бояться лишь огня.
В другой раз привратник Ботрю, поссорившись с лакеем поэта, пнул его ногою в задницу.
Лакей пришел жаловаться своему хозяину, и Буаробер, придя в ярость, поднял вокруг этого происшествия большой шум.
– И Буаробер прав, – заявил маршал де Грамона, – ведь для него подобное оскорбительнее, чем для кого– нибудь другого.
– И почему же? – спросил один из тех охотников до расспросов, кто оказывается рядом лишь для того, чтобы дать повод ответить.
– Еще бы! – ответил маршал. – У лакеев Буаробера задница заменяет лицо: это жизненно важная часть тела подобных господ.
Святоши засадили Нинон к мадлонеткам, и оттуда прославленная на все времена куртизанка написала Буароберу:
«Я стала здесь предметом исключительного внимания со стороны славных монахинь. И потому мне кажется, что если я останусь тут еще на какое-то время, то в конце концов, в подражание Вам, полюблю особ собственного пола».
Однажды в присутствии Буаробера вели разговор о выдуманных родословных, вроде генеалогий семьи Леви, числящей среди своих родственников Богоматерь, или семьи Мероде, происходящей, по ее утверждению, от Меровея.
– Что же касается меня, – сказал Буаробер, – то, поскольку мое имя Метель, я хочу считать себя потомком Метеллов.
– Но уж, во всяком случае, не Метелла Пия, – заметил кто-то, находившийся рядом.
Началась Фронда, и Буаробер, будучи настоящим придворным, принялся сочинять стихи против фрондеров.
Парижский коадъютор, ярый фрондер, пригласил Буаробера на обед; поэт, чрезвычайно любивший вкусно поесть и знавший, что в доме г-на де Гонди всегда устраивают прекраснейшие обеды, откликнулся на приглашение.
После обеда, когда в гостиную подали кофе – тот знаменитый кофе, который тогда лишь замаячил на горизонте чревоугодия и мода на который, по словам г-жи де Севинье, должна была пройти, подобно моде на Расина, – коадъютор обращается к своему гостю:
– Господин де Буаробер, вы ведь собирались прочесть нам стихи о фрондерах, не правда ли?
– Охотно, – отвечает Буаробер.
Он прокашливается, сморкается, отхаркивается, но затем, подойдя к окну и оценив на глаз высоту этажа, на котором находилась гостиная, без всякого позерства произносит:
– Нет, признаться, я меняю свое мнение: ваше окно слишком высоко расположено.
«Духовный сан для Буаробера, – говорил аббат де Ла Виктуар, – то же, что пудра для шутов: он делает его облик еще более комичным».
Однажды на вечернем представлении одной из пьес Буаробера у актера сорвалось с языка не вполне пристойное французское выражение, которого в тексте не было.
– Ах, негодяй! – воскликнул поэт. – По его вине меня выгонят из Академии!
Буаробер сочинил множество пьес, большая часть которых сегодня забыта. Почти всегда он выводил в них на сцену известных и здравствовавших в то время людей, и потому те, с кого были списаны эти персонажи и кто узнавал в них себя, поднимали страшный шум, без конца расточали жалобы и произносили угрозы. В одной из этих пьес, озаглавленной «Очаровательная сутяга», он изобразил скрягу и его сына. Они встречаются в конторе у нотариуса, где один собирается поместить деньги, а другой занять их под огромные проценты.
– А, юный распутник, – говорит отец, – это ты?
– А, старый ростовщик, – говорит сын, – это вы?
Прообразом отца был президент де Берси, а сына – его сын. Мольер взял эту сцену у Буаробера и смело вставил ее в своего «Скупого».
– Как, – говорили Мольеру, – вы позаимствовали целую сцену у этого шута Буаробера?
– Ну и что? – отвечал автор «Мизантропа» и «Тартюфа». – Я вытащил девку из непотребного дома и ввел ее в хорошее общество.
Как-то раз принц де Конти, горбун, присутствовал на представлении одной из пьес Буаробера.
– Ах, господин де Буаробер, – подал он голос из своей ложи, – какую же дрянную пьесу вы нам представили!
Буаробер, сидевший на театральной сцене, поднялся, подошел к рампе и поклонился принцу.
– О монсеньор! – воскликнул он. – Вы приводите меня в смущение, расхваливая меня так в моем присутствии.
Принц де Конти произнес свою фразу тихо, а Буаробер ответил ему громко. Никто в зале не разобрал язвительных слов принца, но все услышали ответ поэта, так что ни один из зрителей не усомнился, что принц и в самом деле сказал Буароберу нечто лестное.
Время от времени его заставляли служить мессу.
Госпожа Корнюэль, столь известная своими остротами, кое-какие из которых мы приведем в нужное время и в нужном месте, присутствовала на одной из ночных месс, которую инкогнито служил Буаробер.
Дойдя до слов «Dominus vobiscum»[54], Буаробер поворачивается к слушателям: г-жа Корнюэль узнает его, вскрикивает и выходит из церкви.
У дверей она сталкивается с одной из своих приятельниц.
– Куда это вы идете? – спрашивает та.
– Видит Бог, к себе домой.
– А почему вы покинули мессу во время входного песнопения?
– Да потому, что я увидела там Буаробера и это вызвало у меня отвращение.
Буароберу стали известны ее слова, и он сочинил направленный против нее сонет, обыграв в нем сходство имени «Корнюэль» со словом «рога».
Однако г-жа Корнюэль отнеслась к этому с полным безразличием. Именно она сказала по поводу человека, который вначале страшно раскричался, узнав, что жена изменила ему, а затем стал получать доход от ее любовных похождений:
– Рога – это как зубы: когда они растут, бывает больно, но после благодаря им едят.
Буаробер сочинил небылицу о двух деревенских помещиках, приезжавших время от времени ко двору; они были братьями, и одного из них звали г-н де Бёврон, а другого – г-н де Круази. Он рассказывал, что однажды, когда из-за сильной жары все стали бояться за урожай, пошел дождь, продолжавшийся пять часов. Все эти пять часов братья прогуливались по своему замку, смотрели через открытое окно на то, как льет дождь, и непрестанно повторяли друг другу одно и то же:
– Ну и сено будет, братец!
– Ну и овес будет, братец!
Небылица имела такой успех и стала так широко известна, что когда эти два помещика приехали в Париж, то одного из них прозвали Ну-и-Сено, а другого – Ну-и– Овес.
У Буаробера не было своих детей, однако у него имелись племянники, причем довольно скудоумные. Он приобрел дом в деревне, и Провидению было угодно, чтобы дом этот назывался Виль-Дурь.
– Какого черта, – спросил его Сент-Эвремон, – вы купили дом с таким названием?
– Для того, чтобы оставить его своим племянникам.
Помимо своей первой ссылки в Руан, Буаробер вследствие козней святош был сослан еще раз из-за того, что он ел мясо в Великий пост и страшно богохульствовал, проигравшись как-то раз в карты.
Оказавшись в ссылке, он обратился к г-же де Манчини, которая взялась вернуть его оттуда и преуспела в этом.
– Как это, – спросил его кто-то, – имея столько друзей, вы обратились за помощью к госпоже де Манчини?
– Дело в том, – отвечал Буаробер, – что в тот вечер, когда я так сильно бранился, госпожа де Манчини выиграла у меня сорок экю, и потому она была весьма заинтересована в том, чтобы я вернулся в Париж и заплатил ей эти деньги.
Во Дворец правосудия пришло однажды письмо, написанное то ли с добрыми намерениями, то ли со злым умыслом и страшно разъярившее Буаробера. Какой-то человек из Нанси спрашивал у докладчиков новостей:
«Прошу вас, господа, сообщить мне, правда ли то, о чем извещают нас в Нанси, а именно, что Буаробер сделался турком и турецкий султан подарил ему неисчислимые доходы и целую толпу красивых маленьких пажей, дабы они прислуживали ему, и что этот самый Буаробер написал из Константинополя придворным вольнодумцам следующее: „Вы, господа, находите удовольствие в том, что богохульствуете сто раз на дню; я же куда хитрее вас, ибо богохульствовал лишь однажды и при этом все у меня прекрасно“».
В возрасте семидесяти лет Буаробер заболел, и, поскольку жизнь он прожил чрезвычайно беспутную, что вселяло тревогу в отношении его участи, г-жа де Шатийон, жившая по соседству с ним, пришла уговаривать его закончить жизнь по-христиански.
Он решился на это и, в качестве первого доказательства своего смирения, заявил присутствующим:
– Забудьте живого Буаробера и принимайте во внимание лишь Буаробера умирающего.
Когда же исповедник, желая ободрить его, сказал ему, что Господь прощал и куда больших грешников, чем он, Буаробер ответил:
– О да, святой отец! Есть куда большие грешники: к примеру, аббат де Вилларсо, в доме которого я жил и который все время выигрывал у меня деньги, куда больший грешник, чем я; и, тем не менее, я продолжаю надеяться, что Господь смилостивится над ним.
– Господин аббат, – начала втолковывать ему г-жа де Торе, – раскаяние есть добродетель ...
– От всего сердца желаю вам такой добродетели, сударыня, – ответил ей Буаробер.
Вспомним его знаменитую остроту, сказанную им за минуту до смерти:
– Меня вполне устроило бы, если бы на том свете я оказался в таких же хороших отношениях с Господом Богом, в каких на этом свете мне довелось состоять с его высокопреосвященством кардиналом Ришелье.
С распятием в руке испрашивая прощения у Господа, он произнес:
– Ах, черт побери этот проклятый суп, который я ел у д’Олона: в нем был лук, вот оттого-то мне и стало плохо.
Затем он добавил:
– Меня испортил кардинал Ришелье; он был негодный человек, и это он развратил меня ...
И с этими словами он скончался.
Чуть выше мы упомянули г-же Корнюэль; скажем несколько слов об этой женщине, остроумие которой вошло в поговорку в царствование Людовика XIII и оставалось общеизвестным даже при Людовике XIV. Госпожа де Севинье цитирует ее два или три раза.
Она была дочерью некоего г-на Биго, которого называли Биго де Гизом, поскольку он был управляющим у герцога Генриха де Гиза. Отец, человек богатый, выдал ее замуж за г-на Корнюэля, брата президента Корнюэля. Эта очаровательная особа обладала необычайной живостью, что можно считать как достоинством, так и недостатком, это уж как судить; отсюда и шутка Буаробера насчет фамилии ее мужа.
Муж был очень стар, но, вне всякого сомнения вследствие их совместной жизни, не уступал в остроумии своей жене. Когда он путешествовал однажды с двумя юными очаровательными девушками, едва достигшими шестнадцатилетнего возраста, карета, в которой они находились, опрокинулась на краю пропасти, и лишь чудом ее не увлекло туда. К счастью, все трое путешественников избежали смерти, которая неминуемо ожидала их при таком падении, и целыми и невредимыми выбрались из кареты.
– Ну вот, барышни, – произнес г-н Корнюэль, вновь становясь на ноги, – я снова сделался стариком, а вы все те же юные и очаровательные девушки, хотя еще две минуты назад мне казалось, что мы все трое одного возраста.
Госпожа Корнюэль была любовницей маркиза де Сурди. Однажды, когда он поджидал ее, сидя у нее дома, и она заставила ждать себя чересчур долго, ему вздумалось обойтись с горничной так же, как он обошелся бы с хозяйкой, будь она там.
Женщина забеременела и страшно боялась, что хозяйка ее прогонит; но, когда г-же Корнюэль все стало известно, она, напротив, оставила при себе камеристку, помогла ей тайно родить и взяла на содержание ребенка, заявив:
– Это более чем справедливо, ведь его сделали у меня на службе.
Она вела судебную тяжбу, докладчиком в которой выступал Сент-Фуа, секретарь Парламента; она часто ездила к нему, но никак не могла заставить его выслушать ее доводы, ибо каждый раз его не оказывалось на месте.
Однажды она, как обычно, приехала к нему, чтобы похлопотать о своем деле, но привратник заявил ей, что хозяина нет дома.
– А где же он? – поинтересовалась г-жа Корнюэль.
– Он слушает мессу, сударыня, – ответил привратник.
– Увы, любезный, – промолвила г-жа Корнюэль, – к несчастью, он только такое и слушает.
Позднее, вернувшись к себе, она сказала:
– Этот докладчик именует себя Сент-Фуа на таком же основании, на каком монахи монастыря Белых Плащей, которые одеваются в черное, именуют себя белыми плащами.
Госпожа Корнюэль была приятельницей мадемуазель де Пьенн, бывшей канониссы. Мадемуазель была чрезвычайно красива, но, когда ей стукнуло сорок, красота ее стала увядать, хотя, чтобы сохранить цвет лица, она с двадцати пяти лет постоянно носила маску.
– Увы, – сказала г-жа Корнюэль, – красота моей бедной подруги напоминает кровать, которая ветшает под чехлом.
Как-то раз таможенные откупщики изъяли корзину с дичью, посланную ей из деревни. Госпоже Корнюэль дали знать об этой конфискации, и она потребовала обратно свою корзину, которую господа откупщики, опасаясь ее острого языка, поспешили ей вернуть; однако проявленная ими уступчивость их не спасла.
Получив обратно корзину с дичью, она сказала:
– Видимо, эти господа меня знают; вот увидите, кто-то из них непременно станет лакеем в каком-нибудь порядочном доме, где я бываю.
При очередном посвящении в рыцари ордена Святого Духа, когда этот орден получил граф де Шуазёль, благодаря своему знатному происхождению и своим заслугам вполне достойный его, в числе новых рыцарей оказались пять или шесть человек, заслуги и знатность которых были весьма сомнительны.
Несколько дней спустя, когда г-жа Корнюэль препиралась по какому-то поводу с графом и он проявил себя крайне настойчивым в этом споре, она сказала ему:
– Помолчите, а не то я припомню вам ваших собратьев.
Когда была учреждена палата по делам отравлений и, дабы внушить определенное доверие к ходившим тогда слухам, а возможно, и для того, чтобы продлить деятельность палаты, ибо ее членам выплачивалось хорошее жалованье, каждый день вешали несколько бедолаг, г-жа Корнюэль сказала г-ну де Безону, входившему в состав этой комиссии:
– Мой дорогой советник, вам наверняка должно быть стыдно, что вы вешаете лишь нищих, и, будь я судьей, я бы устроила складчину среди служителей закона, чтобы взять напрокат платья в лавке старьевщика и облачить в
них этих несчастных перед тем, как их казнят: возможно, так, по крайней мере, обманут зрителей.
Кроме того, когда ей сказали, что вместе с самими отравителями сжигают и протоколы судов над ними, она заявила:
– Что ж, это правильно; но, чтобы быть уж совсем справедливыми в отношении отравителей и судов над ними, следует сжигать также свидетелей и судей.
Когда в ее присутствии стали превозносить благородство происхождения герцога Роган-Шабо, она заметила:
– Да, с происхождением у него все хорошо, это неоспоримо; но вот пороли его плохо.
Во времена г-жи Корнюэль было модно носить банты. Кто-то сказал ей, что г-жа де Ла Рени, жена начальника полиции, высокая и худая, увешивает ими себя с головы до ног.
– Увы, – промолвила г-жа Корнюэль, – если сказанное вами правда, то я сильно опасаюсь, как бы под этими бантами не скрывалась виселица.
Однажды, сидя в приемной у г-на Кольбера, заставившего ее долго ждать, и задыхаясь из-за сильного огня, разведенного в печи, она воскликнула:
– Бог ты мой! А не угодили ли мы, сами того не подозревая, в ад? Тут поджаривают и все ропщут.
Как-то раз, едва оправившись после болезни, которую все уже считали смертельной, маркиз д’Аллюй, чрезвычайно бледный, с неузнаваемо изменившимся лицом, пришел повидать г-жу Корнюэль.
– Увидев, как он входит в таком состоянии, – рассказывала она вечером своим друзьям, – я уже готова была спросить его, есть ли у него разрешение могильщика прогуливаться так по городу.
Графиня де Фиески, особа весьма взбалмошная, распускала какие-то злые слухи о г-же Корнюэль, и той об этом донесли.
– Что поделаешь, – сказала г-жа Корнюэль, – графиня сохраняется в своем сумасбродстве, как вишня в водке.
Однажды та же графиня де Фиески, которую г-жа Корнюэль оценила как слегка тронутую, в ее присутствии заявила, что она и вправду не понимает, почему г-на де Комбура считают помешанным, и что говорит он, без сомнения, как и любой другой.
– Ах, графиня, – промолвила г-жа Корнюэль, – вы словно чесноку наелись!
Один весьма глупый человек, от которого, в довершение всех бед, к тому же еще исходил дурной запах, явился 325
однажды к г-же Корнюэль и провел в ее гостиной целый час, не раскрывая рта.
Когда он ушел, г-жа Корнюэль сказала, обращаясь к тем, кто оставался в гостиной:
– По правде сказать, этот человек, наверное, мертв, раз он не говорит ни слова и от него скверно пахнет.
Один из ее лакеев, чрезвычайно бестолковый и совершавший одну глупость за другой, как-то раз глупейшим образом упал рядом с нею на четвереньки.
– Я запрещаю тебе вставать на ноги, – сказала она ему. – Ты рожден, чтобы передвигаться именно так.
Когда кто-то высказал в ее присутствии беспокойство по поводу того, что негде поместить очередные знамена, захваченные маркизом де Люксембургом в битве при Стенкеркене, ибо собор Парижской Богоматери уже переполнен ими, она заявила:
– Нашли из-за чего тревожиться: из них сделают оборки для прежних!
В доме у нее зашел разговор о разгульных пиршествах, устроенных в предместье Сен-Жермен пятью или шестью придворными дамами.
– Я понимаю, кто они такие, – сказала она. – Это духовные посланницы, отправленные туда архиепископом Парижским, чтобы удержать молодых людей от мерзкого греха, который был присущ Валуа.
Однажды вечером, когда она возвращалась в экипаже домой, на нее напали грабители; их главарь влез в карету и начал с того, что положил руку на грудь г-же Корню– ель.
Однако она, не испугавшись, оттолкнула его руку и промолвила:
– Вам там нечего делать, любезный; у меня нет ни жемчуга, ни грудей.
Полиция хотела выселить какую-то распутницу, жившую недалеко от нее и вечно превращавшую ночь в день; однако г-жа Корнюэль, опасаясь еще более шумного соседства, сказала:
– Ах, оставьте ее! Не хватало только, чтобы ее дом занял какой-нибудь кузнец или слесарь; ведь тогда вместо нее спать не буду я.
Госпоже Корнюэль было уже за восемьдесят, когда умерла г-жа де Виль-Савен, ее соседка, которой было девяносто два.
– Увы! – воскликнула г-жа Корнюэль, узнав об этой смерти. – Вот я и осталась без прикрытия!
И в самом деле, какое-то время спустя она умерла.
VIII
Чтобы читатель мог лучше оценить остроумие XVII века, перейдем от остроумия отдельных людей к остроумию общества в целом и процитируем, позаимствовав их у Таллемана де Рео, который и сам был одним из наиболее блестящих остроумцев той эпохи, бесхитростные высказывания и меткие словечки того времени, когде еще были живы Бассомпьер и Грамон и уже появились такие женщины, как Нинон и Марион Делорм.
Нередко подобные меткие словечки исходили из уст никому не известного человека, и в таком случае мы будем вынуждены говорить «некто» вместо «он»; это подтвердит правоту поговорки, которая была в ходу сто лет спустя: «Есть кое-кто поостроумнее господина де Вольтера. – И кто же это? – Народ».
«Herr omnes», – говаривал Лютер. («Господин "все".)
Итак, начнем с некто.
• Некая горожанка, страдавшая косоглазием и обладавшая весьма суровым взглядом, похвалялась, что какой-то герцог и пэр строил ей глазки.
– Признайтесь, барышня, – ответили ей, – что ему это очень плохо удавалось!
• Во время посвящения в сан коадъютора Руанского одна дама воскликнула:
– По правде сказать, мне кажется, что я в раю, столько здесь епископов!
– Выходит, вы там никогда не были? – спросили ее.
–Где?
– В раю.
– Нет. А что?
– Да просто там их поменьше, чем здесь.
• Какой-то выскочка, сын бакалейщика, заказал для своей гостиной молитвенную икону и внизу ее велел начертать:
«Respice fl пет».[55]
Какой-то любитель глупых шуток соскоблил первую и последнюю буквы в этом выражении, «R» и «т».
В итоге осталось: «Espice fine», то есть «Бакалея высшего качества».
• Гастон Французский, герцог Орлеанский, о котором нам уже случалось несколько раз говорить, имел рыжую бороду.
Как-то раз, повстречавшись в одном доме с кастратом, он, желая смутить беднягу, спросил его:
– Сударь, доставьте мне удовольствие, скажите, почему у вас нет бороды?
– Это очень легко объяснить, монсеньор, – ответил тот. – Дело в том, что в тот день, когда Господь Бог раздавал бороды, я пришел слишком поздно, когда они остались у него лишь рыжие; так что я предпочел не иметь бороду вовсе, чем иметь ее подобного цвета.
• Некий кучер, желая отпраздновать Пасху, словно знатный вельможа, отправился на исповедь.
Когда он завершил перечень своих прегрешений, священник приказал ему неделю поститься.
– О, нет! – воскликнул кучер. – Этого я сделать не смогу.
– И почему же?
– Я не хочу разорить мою жену и моих детей.
– Что значит разорить вашу жену и ваших детей?
– Ну да, я ведь видел, как постился во все дни Великого поста монсеньор епископ: для этого ему нужны были морская рыба, речная рыба, рис, шпинат, айвовое варенье, отменные груши, изюм, фиги, кофе и наливки. Как же тогда вы хотите, чтобы бедолага вроде меня позволил себе поститься?
• Один каноник из Реймса затеял из-за имения своей матери тяжбу с собственным отцом.
– Тебе ведь известно, – как-то раз сказал ему отец, – сколько я уже потратил, чтобы ты имел доходную церковную должность; ну да ладно, я дам тебе еще сто пистолей, и иди ко всем чертям!
Каноник на минуту задумался, а затем покачал головой в знак отрицания:
– Да нет, меньше чем за две сотни я не пойду.
• У президента де Пелло на службе состояло всего лишь два лакея.
Однажды вечером эти два лакея поссорились и решили отправиться на следующий день на Пре-о-Клер, чтобы устроить между собой поединок.
Но едва они сошлись там в восемь часов утра, как один крикнул другому:
– Да, но кто же разбудит нашего господина?
– Это верно, – ответил другой.
После чего оба они вложили шпаги в ножны и вернулись домой лучшими друзьями.
• Аббат де Ла Виктуар, Пьер Дюваль де Куповиль, был необычайно скуп.
Предупрежденный накануне о том, что две дамы, занимавшиеся благотворительностью, придут к нему на следующий день за пожертвованиями и не зная, как отправить их назад с пустыми руками, он встал на верхней площадке лестницы и, распознав по голосу своих посетительниц, крикнул лакею:
– Клод, не впускай него! Ведь из-за этой злосчастной оспы только что скончалась бедняжка Марго!
Дамы-благотворительницы продолжали бы ходить, наверное, еще и теперь, если бы лет эдак двести назад аббата де Ла Виктуара не осенила прекрасная мысль бороться с человеколюбием, призвав на помощь оспу.
• – Осторожнее, мой дорогой, – сказал г-н Дельбен, обращаясь к Дебарро, положившему себе на тарелку огромный кусок бараньей ножки, – это может навредить вашему желудку.
– Стало быть, – ответил Дебарро, – вы из тех хлыщей, кто находит удовольствие в том, чтобы переваривать пищу?
• Этот же Дебарро, уплетая в пятницу яичницу с салом и услышав раскаты грома, схватил яичницу и выбросил ее в окно, воскликнув: