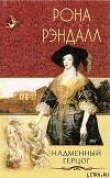Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 55 страниц)
Скапен дает ему возможность довести шутовство до конца, аплодирует, а затем произносит:
– Сейчас, монсу, вы занимались моим ремеслом, а теперь займитесь-ка вашим.
Кстати, накануне того дня, когда король назначил Ла Вьёвиля главноуправляющим финансами, он пригласил его отобедать вместе с ним и заставил его съесть целый горшок айвового варенья. Не следовало ли королю, назначавшего министром подобного человека, подать второй горшок варенья, чтобы составить компанию своему гостю?
Во время своих поездок Людовик XIII посещал балы, которые устраивали для него даже в самых маленьких городках. Как-то раз, когда он принял подобное приглашение и уже настала ночь, одна из танцующих, по имени Катен Го, забралась на стул, чтобы вынуть из деревянного подсвечника огарок сальной свечи. Ничего особенно соблазнительного в этом ее движении не было, но король Людовик XIII был устроен совсем не так, как прочие мужчины: он влюбился в эту юную девушку, заявив, что, благодаря изяществу, с каким все это было проделано, она похитила его сердце.
Уезжая, он приказал дать девушке десять тысяч экю и посоветовал ей как следует беречь добродетель.
Мы уже рассказывали, как он заявил г-же де Шеврёз, что любит своих любовниц только от пояса и выше.
В общем-то король был влюблен по-настоящему только в двух женщин: мадемуазель де Лафайет и мадемуазель де Отфор. Когда наше повествование дойдет до 1630 года, видевшего зарождение этих необычных влюбленностей, мы поведаем о королевских причудах его величества и скажем, до чего они доходили.
Обычно, начиная обхаживать девушку, он говорил ей:
– Никаких дурных мыслей!
Что же касается замужних женщин, то он на них даже не смотрел, и в этом отношении бывал весьма строг с другими.
Устав от распутства двух музыкантов из королевской капеллы, Мулинье и Жюстиса, он велел наполовину урезать им жалованье.
В отчаянии они кинулись к Маре, королевскому шуту.
Маре придумал, как им восстановить жалованье в полном объеме.
Они явились на вечернюю аудиенцию короля полуодетыми: на одном был камзол, но не было штанов, а на другом были штаны, но не было камзола. И вот в таком наряде они принялись танцевать сарабанду.
– Что это значит, – поинтересовался король, – и что это за маскарад?
– Это значит, – ответил Маре, – что люди, которые получают лишь половину жалованья, в состоянии одеваться лишь наполовину.
Короля насмешила как острота, так и эта выходка, и он вернул им свою милость.
Именно этот Маре говорил Людовику XIII:
– Государь, в вашем ремесле есть две особенности, к которым я бы никогда не приноровился.
– И какие же? – спросил король.
– Есть в одиночестве, – отвечал Маре, – и срать в компании.
При всем том Людовик XIII сочинял довольно нескромные песенки; доказательством чему служит следующая песенка, от которой до нас дошел лишь припев:
Кокетства семена посейте,
И рогоносцы вырастут у вас!
Однако он не только придумывал слова для своих песенок, но порой сочинял для них и мелодии.
Правда, нередко он сочинял лишь мелодии, а подобрать слова к ним поручал кому-нибудь другому. Именно так и случилось однажды, когда он сочинил какую-то мелодию, которая чрезвычайно ему понравилась. Он послал за Буаробером, чтобы тот подобрал к ней слова; как раз в это время король был влюблен в мадемуазель де Отфор, и Буаробер написал куплеты, посвященные этой любви.
Король выслушал их и сказал:
– Стихи подходят, но надобно выкинуть слово «вожделение», ибо я ничуть не вожделею.
Раз уж мы коснулись Буаробера, дадим нашим читателям самое полное представление о нем.
Буаробер, которому в описываемое нами время было лет тридцать, звался вовсе не Буаробером: он именовался Метелем. Родился он в Кане, примерно в 1592 году, был сыном прокурора-гугенота и сам воспитывался в протестантской вере. Он выучился на адвоката и вступил в адвокатскую коллегию Руана. Как-то раз, когда он готовился выступить в суде, к нему явилась какая-то старуха, занимавшаяся довольно грязным ремеслом, и предупредила его, что некая девица обвиняет его в том, что он сделал ей двух детей. Метель довел до конца свою защитительную речь, а затем, когда речь была завершена, бежал в Париж, принял имя Буаробер и поступил на службу к кардиналу дю Перрону.
Поскольку он был поэтом, королева-мать, находившаяся тогда в Блуа, вызвала его к себе, намереваясь заняться постановкой комедий, чтобы г-н де Люин не заподозрил ее в интригах. Она дала поэту приказ перевести «Pastor fido»[46], но Буаробер запросил на перевод полгода. В ответ королева покачала головой и сказала:
– Вы не то, что нам нужно, господин Ле Буа.
С того времени все стали запросто называть его Ле Буа; впрочем, это было короче, чем Буаробер.
Когда господин епископ Люсонский вновь вошел в милость, Буаробер принялся делать все возможное, чтобы попасть в его окружение; однако достославный прелат отнюдь не любил его и не раз бранил своих слуг за то, что они не могут избавить его от этого человека, постоянно оказывавшегося у него на пути.
Зная это, Буаробер, тем не менее, дождался его, как обычно, и, обращаясь прямо к нему, сказал:
– Ах, монсеньор, вы ведь позволяете собакам кормиться крохами, которые падают с вашего стола! Неужто я хуже собаки?
Однако эти слова ничуть не тронули монсеньора епископа.
И тогда, чтобы иметь средства на пропитание, Буаробер прибегнул к хитрой уловке: он стал обходить всех знатных вельмож и выпрашивать у них книги, якобы нужные ему для создания своей библиотеки; когда же названные им книги, которые ему хотелось от них получить, оказывались в его руках, Буаробер перепродавал их книготорговцу, которого он водил с собой. Таким мошенническим способом он заработал пять или шесть тысяч ливров.
Во время этой беготни от одной двери к другой Буаробер явился к г-ну де Кандалю, сыну герцога д’Эпернона, и попросил у него дать ему «Отцов Церкви».
– У меня нет «Отцов Церкви», – ответил тот. – Однако передайте господину Буароберу, что если он пожелает взять моего отца, то его я отдам ему весьма охотно.
В этом ответе была небольшая ошибка с точки зрения французского языка, но знатные вельможи не слишком требовательны к своим остротам.
В конце концов Буаробер поступил на службу к г-ну де Ришелье, и вот как это случилось: сумев, по своему обыкновению, незаметно проскользнуть к епископу Люсонскому, он оказался подле него в ту минуту, когда тот примерял фетровые шляпы и, выбрав одну, надел ее на голову.
– Ну как, она мне к лицу? – спросил он тех, кто его окружал.
– Да, монсеньор, – ответил Буаробер, – однако эта шляпа была бы вам к лицу еще больше, будь она того же цвета, что и нос вашего духовника.
И правда, отец Мюло, духовник его преосвященства и страстный любитель хорошего вина, благодаря обильным возлияниям нажил себе нос, который, словно карбункул древних, стал в конце концов сверкать даже во тьме.
Кардинал, любивший насмехаться над своим духовником, счел эту остроту удачной.
– Определенно, Ле Буа, – сказал он, – вы остроумны; я беру вас к себе на службу.
С этого дня Буаробер вошел в штат служащих епископа Люсонского, которому вскоре и в самом деле предстояло увидеть, как осуществится пожелание льстившего ему поэта.
Скажем несколько слов об этом славном духовнике, имевшем счастье доставить Буароберу сравнение, которому тот был обязан своим везением.
Это был добрейший человек, однако он не мог внять доводам рассудка, когда дело касалось скверного вина и остывшего обеда.
Однажды, когда в доме епископа Люсонского был устроен превосходный завтрак, г-н де Берюль, ставший впоследствии кардиналом, взял с собой Мюло, чтобы отслужить вместе с ним мессу; и тут г-н де Берюль, который менее Мюло торопился приступить к завтраку, замешкался и, перед тем как освятить просфору, предался невесть каким мысленным молитвам. Мюло пришел в бешенство, ибо он прекрасно понимал, что тем 271
временем все будет съедено, а то, что не съедят, остынет. Тем не менее он хранил молчание и, скрежеща зубами, служил мессу.
Наконец г-н де Берюль затянул службу настолько, что отец Мюло уже не мог больше сдерживаться.
– Ей-Богу, – воскликнул он, – до чего же вы потешный человек, если вот так засыпаете над потиром! Неужто вы полагаете, что будете большего стоить, если заставите нас есть холодный завтрак и пить теплое вино?
В другой раз, когда Государственный совет заседал в Шарантоне, в том очаровательном павильоне из кирпича и тесаного камня, что расположен у въезда в город со стороны Парижа и был построен Генрихом IV для Габриель д’Эстре, отец Мюло попросил г-на д’Эффиа, отца г-на де Сен-Мара и в то время первого шталмейстера, отвезти его туда ради какого-то дела, которое ему предстояло там сделать.
Мюло, состоявшему, как всем было известно, на службе у его преосвященства, не пришлось томиться в передней, однако теперь его положение не сослужило ему никакой службы, и ему было наотрез отказано в его просьбе.
Весьма раздосадованный этой неудачей, он попросил г-на д’Эффиа отвезти его обратно в Париж.
– Да, но это вы закончили свои дела, – ответил г-н д’Эффиа, – я же свои еще не закончил.
– Как! – воскликнул аббат Мюло. – Стало быть, вы намереваетесь заставить меня идти в Париж пешком, так что ли?
– Нет, но наберитесь терпения, и, когда мои дела здесь будут закончены, я отвезу вас в карете.
– Терпения, терпения! – пробурчал аббат настолько громко, что г-н д’Эффиа его услышал.
– Ах, господин де Мюло, господин де Мюло, – промолвил он, – давайте перестанем.
– А почему это, господин Фиа, господин Ф и а? – передразнил его аббат.
– Что это еще за «господин Фиа»?! – рассерженно воскликнул главный шталмейстер.
– Да, господин Фиа, – с овернским выговором, так веселившим кардинала Ришелье, повторил аббат. – И любому, кто удлинит мое имя, я укорочу его собственное.
С этими словами, весь в гневе, аббат Мюло повернулся спиной к г-ну д’Эффиа и пешком ушел из Шарантона.
Однажды, когда у бедного аббата случился приступ подагры, его лакея остановил Жиль Буало, брат сатирика Буало-Депрео.
– Да, кстати, – спросил Буало лакея, – как твой хозяин себя чувствует?
– Ах, сударь, он ужасно страдает!
– Бьюсь об заклад, что он бранится, как проклятый.
– О, это уж точно, сударь.
– Стыд какой, духовное лицо ведь! – воскликнул Буало.
– Сударь, – ответил лакей, – его следует простить: он говорит, что в этой беде у него нет другого утешения.
– А не мог бы он помолиться?
– Он пытался, но никакого толку от этого не было.
– Что ж, пусть продолжает браниться, – произнес Жиль Буало, удаляясь в свою сторону.
– О сударь, – ответил лакей, тоже продолжив свой путь, – он и не нуждается в позволении!
Перед тем как поступить на службу к епископу Люсонскому, аббат Мюло был каноником Святой капеллы. В этом качестве он был просто его другом и преданным помощником.
Когда после смерти маршала д'Анкра епископ Люсонский был сослан в Авиньон, Мюло продал все, что у него было, собрал четыре тысячи экю и привез эти деньги изгнаннику, который в них крайне нуждался. Вернувшись из изгнания и вновь обретя милость, епископ Люсонский сделал Мюло своим духовником; однако звание духовника его преосвященства явно раздражало слух Мюло, который, вероятно, отдавал предпочтение званию каноника Святой капеллы и каждый раз, когда его называли господином духовником, впадал в бешенство.
Однажды кардинал, которому, как мы уже говорили, очень нравилось подразнивать его, сделал вид, будто он получил письмо с надписью на конверте «Господину Мюло, духовнику Его Высокопреосвященства», и, повстречавшись с Мюло, сказал ему:
– Послушайте, аббат, вот письмо, которое, полагаю, адресовано вам.
Мюло кинул взгляд на надпись на конверте и, ощутив в себе привычное отвращение к званию духовника, воскликнул:
– Какой дурак написал это письмо?!
– Дурак?
– Да, дурак, а кто же еще!
– Вот те на! Ну а если этот дурак – я сам?
– Что ж, если это окажетесь вы, то это ведь будет не первая дурость, которую вы совершите, не так ли?
Кардинал нередко развлекался, восстанавливая друг против друга аббата Мюло, славного едока и завзятого выпивоху, с туренским дворянином по имени Ла Фолон, одаренного такими же способностями.
Ла Фолона приставил к кардиналу король, чтобы того не донимали ходатайствами и чтобы к нему допускали лишь тех, кто имел сказать ему нечто важное; возможно также, что в какой-то степени он служил при нем и соглядатаем. В те годы кардинал еще не имел ни камергера, ни телохранителей.
В то время как другие говорили: «О, как хорошо было бы поохотиться сегодня!», «О, как хорошо было бы прогуляться сегодня!», «О, как хорошо было бы поиграть в мяч или потанцевать сегодня!», Ла Фолон говорил:
– О, как хорошо было бы поесть сегодня!
Когда он садился за стол, его молитва перед вкушением пищи звучала так:
– Господи Боже, сделай так, чтобы обед, который мне сейчас предстоит съесть, был хорошим!
Завершив трапезу, он обращался к Богу с послеобеденной молитвой:
– Господи Боже, сделай так, чтобы я хорошо переварил только что съеденный мною обед!
Что же касается аббата Мюло, не церемонившегося с кардиналом, то, вполне понятно, с посторонними он церемонился еще меньше, чем с его высокопреосвященством; свидетельство тому – его ответ маркизу д’Эффиа.
Мы уже упоминали его нос, которому выпитое аббатом вино передало в конце концов свой цвет. И в самом деле, славный аббат настолько любил вино, что он не мог удержаться и не высказать едкий упрек всем тем, чье вино не было хорошим; так что, когда ему случалось обедать не у себя дома и ему подавали вино, которое не приходилось ему по вкусу, он подзывал к спинке своего стула слуг и выговаривал им:
– Ну какие же вы негодяи!
– А почему, господин аббат?
– Да потому, что вы не уведомили вашего хозяина, который, возможно, в винах и не разбирается, что он наносит ущерб самому себе, не имея в запасе хорошего вина для своих друзей.
Мы уже говорили, с какой вольностью аббат разговаривал с кардиналом.
Правда, и кардинал обращался с ним непринужденнее, чем с кем-либо еще, и устраивал ему разного рода подвохи, от которых у несчастного духовника были сплошные неприятности.
Как-то раз, когда кардиналу и аббату предстояло отправиться на совместную прогулку, кардинал решил позабавиться и подложил колючки под седло своего духовника. Сев верхом на лошадь, аббат, естественно, надавил на седло: колючки впились в спину лошади, которая принялась брыкаться с такой силой, что у духовника хватило времени лишь на то, чтобы ухватить ее за шею, а затем, в минуту спокойствия, спрыгнуть на землю.
Оказавшись на твердой почве, духовник огляделся вокруг и увидел, что кардинал, надрываясь от смеха, схватился за бока.
Аббат же вовсе не смеялся: ему было далеко не до смеха.
Он направился прямо к кардиналу и, подсунув ему кулак чуть ли не под нос, воскликнул:
– Да вы и в самом деле недобрый человек, монсеньор!
– Тсс! – обронил высокопреосвященнейший кардинал, продолжая хохотать. – Тсс, а не то я прикажу вас повесить!
– Как, вы прикажете меня повесить?
– Да, ведь вы разглашаете тайну исповеди.
Славному канонику не раз доводилось впадать в такой грех: однажды, когда кардинал спорил с ним, сидя за обеденным столом, и, по своей привычке, поддевал его, чтобы позабавиться его гневом, разъяренный Мюло воскликнул:
– Выходит, вы ни во что не верите, даже в Бога?
– Почему это я не верю в Бога?
– Ну а как же, – воскликнул духовник, – не станете же вы говорить сегодня, что верите в Бога, если вчера на исповеди признались мне, что не верите в него?!
Таллеман де Рео, который приводит эту забавную историю, ни слова не говорит о том, как кардинал воспринял эту шутку своего духовника.
Вернемся, однако, к Буароберу.
С величайшим трудом наладив отношения с кардиналом, Буаробер стал в конечном счете настолько необходим ему, что, умирая, сказал:
– Меня вполне устроило бы, если бы на том свете я оказался в таких же хороших отношениях с монсеньором Иисусом Христом, в каких на этом свете мне довелось состоять с монсеньором кардиналом Ришелье.
Благодаря этому покровительству Буароберу была дарована милость отправиться в Англию вместе с герцогом и герцогиней де Шеврёз, когда встал вопрос о браке г-жи Генриетты Марии Французской с принцем Уэльским, ставшим впоследствии королем Карлом I; однако воздух Англии, по всей видимости, не подошел Буароберу: он заболел и сочинил по поводу своей болезни элегию, в которой климат Англии был назван им варварским.
Как только элегия была закончена, Буаробер счел самым срочным своим делом показать ее г-же де Шеврёз. Госпожа де Шеврёз взяла ее, прочитала и, со своей стороны, сочла самым срочным своим делом показать ее графу Карлайлу и графу Холланду, которым, по слухам, она показывала и нечто совсем другое.
Слова «варварский климат» особенно задели графа Холланда, который, впервые увидев Буаробера, принялся оспаривать их в присутствии г-жи де Шеврёз. Буаробер был человек умный: он принес свои извинения, заявив, что почитает за варварские все края, где ему случается заболеть, и в подобных обстоятельствах отозвался бы точно так же и о рае земном.
К этому он добавил:
– Однако, с тех пор как я поправился и король прислал мне триста якобусов, здешний климат сделался в моих глазах мягче.
Граф Карлайл счел эту остроту занятной, но граф Холланд так и не смог смириться со словами «варварский климат».
Когда г-жа де Шеврёз отправилась в обратный путь во Францию, граф Карлайл и граф Холланд сопровождали ее. В нескольких милях от Лондона их карете предстояло подняться по косогору, прилегавшему к берегу Темзы; поскольку дорога в этом месте была чрезвычайно крутой, все они вышли из экипижа и пошли пешком; по мере того как они поднимались в гору, окружающая местность становилась все более живописной.
– О, какой чудный край! – воскликнул Буаробер, поднявшись на вершину холма.
– И, тем не менее, тут варварский климат, – откликнулся граф Холланд.
Буаробер купил в Англии четырех иноходцев и через посредство г-жи де Шеврёз обратился к герцогу Бекин– гему, великому адмиралу, с просьбой разрешить перевезти их во Францию.
Лорд Холланд находился рядом с Бекингемом, когда тот вписал в дорожную грамоту Буаробера слова: «Четыре лошади».
– Одолжите мне перо, – сказал он великому адмиралу, – я хочу кое-что прибавить.
Бекингем дал ему перо, и лорд Холланд приписал: «Дабы он еще быстрее выбрался из этого варварского климата».
Буаробер был хорошим товарищем и всегда проявлял готовность помочь своим собратьям по перу. Мере, автор «Сильвии», состоял на службе у герцога де Монморанси, получая от него пенсион в четыреста ливров, но в это время герцог лишился головы. Мере, служивший герцогу в эпоху его могущества, оказал Буароберу немало дурных услуг, высмеивал его и издевался над его пьесами. Тем не менее, узнав о бедах Мере, Буаробер предал забвению все обиды, отправился к кардиналу, рассказал ему об обстоятельствах, в которых оказался Мере, и добавил:
– Монсеньор, даже по причине одной «Сильвии» все дамы будут благословлять вас за то, что вы сделали добро несчастному Мере.
В конце концов кардинал уступил просьбе и предоставил Мере пенсион в двести экю. Свидетельство на пенсион Буаробер передал Конрару и Шаплену, приходившим к нему с просьбой похлопотать о его старом недруге, и сказал им:
– Я хочу, чтобы он был обязан этим вам.
Раз уж мы упомянули Конрара и Шаплена, скажем пару слов об этих людях, которые – особенно последний из них – пользовались такой огромной известностью в XVII веке, что внизу приказа, увеличивавшего пенсион второго из них, Людовик XIV своей собственной рукой приписал: «Поднять с двух тысяч до трех тысяч пенсион г-на де Шаплена, самого великого из всех когда-либо существовавших поэтов».
Жан Шаплен был сыном парижского нотариуса. Свою карьеру он начал в качестве воспитателя и наставника сыновей г-на де Ла Трусса, главного прево. Звание воспитателя дало ему право носить шпагу; оставив эту должность, он, тем не менее, продолжал ходить со шпагой. Это весьма беспокоило родителей Шаплена, которые попросили одного из его друзей уговорить молодого человека расстаться с этим оружием; но, вместо того чтобы осмелиться исполнить подобную просьбу впрямую, друг воспользовался уловкой, которая оказалась успешной. Он подстерег Шаплена на улице и, подойдя к нему, сказал:
– О друг мой! Какое счастье, что я повстречал тебя и что ты при шпаге!
– И почему же?
– Я только что нарвался на дуэль, а у моего противника есть друг, во что бы то ни стало желающий драться; так вот, ты послужишь мне секундантом.
– Но это невозможно! – воскликнул Шаплен. – Мне надо вернуться домой, меня ждут там чрезвычайно важные дела.
И в самом деле, он вернулся домой, но лишь для того, чтобы повесить свою шпагу на гвоздь. И впредь он уже никогда не снимал ее оттуда.
Шаплен был одним из завсегдатаев дворца Рамбуйе, которым нам еще предстоит немного заняться тоже. Он был впервые допущен туда в пору осады Ла-Рошели, то есть в 1627 году. Спустя двадцать лет г-жа де Рамбуйе рассказывала Таллеману де Рео, что в тот день, когда Шаплен в первый раз появился в знаменитой голубой комнате, он носил сизого цвета атласный кафтан, подбитый зеленым плисом и отделанный мелким позументом сизого и желтовато-зеленого цветов, как это было модно за десять лет до того. При всем том на нем были нелепейшие сапоги и нелепейшие чулки, а кроме того, вместо кружев он носил сетчатую ткань. Впоследствии он стал отдавать предпочтение платью черного цвета, но и в черном платье выглядел так же нелепо, как и в сизом: в итоге казалось, что он никогда не носил ничего нового. Маркиз де Пизани сочинил о нем стихи, которые впоследствии были утеряны и от которых сохранились лишь две следующие строчки:
Чулки ношу с ноги Вожла́,
А сапоги – с ноги Шаплена.
В этом отношении чудом ветхости были, по-видимому, парик и шляпа поэта, однако – подобно герою Мюрже, имевшего особую трубку для выхода в свет, красивее той, какую он оставлял дома, – Шаплен, находясь у себя дома, носил парик и шляпу куда более ветхие, чем те, какие были у него для выхода в свет!
Таллеман де Рео рассказывает, что после смерти матери Шаплена он видел на нем траурную повязку до того заношенную, что она приобрела цвет палой листвы, и черный в крапинку полукафтан, доставшийся ему от сестры, вместе с которой он жил.
В его спальне можно было умереть от холода, и камин в ней топили лишь тогда, когда стоявшие там горшки лопались от замерзшей в них воды.
При этом он был мал ростом, дурен лицом и то и дело отплевывался.
«Я не понимаю, – говорит Таллеман де Рео, – как этот краснобай, всегда притязающий на истину, этот человек, рубящий правду с плеча, – словом, г-н де Монтозье, – так никогда и не осмелился упрекнуть Шаплена в скаредности. Не раз во дворце Рамбуйе я видел у него настолько грязные носовые платки, что это вызывало душевную боль. Никогда я так не смеялся исподтишка, как в ту пору, когда он на моих глазах любезничал с Пеллокен, компаньонкой г-жи де Монтозье, красивой девицей, которая явно подтрунивала над ним, ибо его плащ протерся настолько, что прорехи в нем можно было разглядеть за сто шагов. Шаплен, на свою беду, стоял возле окна, сквозь которое падали солнечные лучи, и в протертых местах на плаще она могла увидеть отдельные нитки толщиной в палец».
Тем не менее Буаробер рассказывал, что, когда он отправил Шаплену какие-то деньги, тот послал ему обратно одно су, оказавшееся переплаченным.
Поговаривали также, что Шаплен добился того, чтобы пенсион в шестьсот франков, предназначавшийся ему, был предоставлен Кольте; позднее мы расскажем, по какому случаю это произошло.
У Шаплена, как утверждает Таллеман де Рео, на уме всегда была одна поэзия. Правда, добавляет Таллеман, пользуясь своим прелестным стилем XVI века, столь сжатым и столь красочным: «Хотя он и не был рожден в этой стихии».
«И все же, – добавляет тот же автор, – ценой многих переделок он создал две или три весьма приличные стихотворные пьесы».
Среди этих пьес следует прежде всего упомянуть «Речитатив Львицы», по поводу которого великий Бальзак писал Шаплену 3 июля 1633 года:
«На мой взгляд, этой Львице крайне повезло, что амфитеатром ей служит небо и что на подобную сцену ее поместила такая рука, как Ваша. Вы возвеличили ее так умело и так мило, и в Ваших стихах ее рычание звучит столь нежно и столь гармонично, что нет на свете музыки, которая была бы достойна ее».
Удачей стала и большая часть «Зирфеи». Однако упоминать «Зирфею» нашим читателям, живущим в 1855 году, это все равно, что говорить с ними на китайском языке. Дадим поэтому кое-какие пояснения, которые послужат нашим читателя путеводной нитью в том лабиринте, куда мы собираемся их завести.
Госпоже де Рамбуйе доставляло огромное удовольствие удивлять завсегдатаев своего дворца; во имя этого она велела соорудить огромный кабинет с тремя различными фасадами и тремя окнами, одно из которых выходило в сад больницы Трехсот, второе – в сад особняка Шеврёз, а третье – в сад дворца Рамбуйе; по ее приказу этот кабинет был построен, покрашен и обставлен так, что никто из ее многочисленных гостей ничего об этом не знал: она заставляла рабочих перелезать через стену, по другую сторону которой они должны были работать. Господин Арно обнаружил приставленную к этой стене лестницу, и ему пришла в голову мысль взобраться на нее; но едва он поставил ногу на вторую перекладину, как его кто-то позвал. Он откликнулся на этот зов и тотчас забыл про лестницу.
И вот однажды вечером, когда в особняке собралась целая толпа гостей, за стенным ковром внезапно послышался сильный шум. Стена как будто сама собой раскрылась, и на пороге великолепной комнаты, изумительно освещенной и очутившейся здесь словно по волшебству, появилась в изумительном наряде мадемуазель де Рамбуйе, ставшая впоследствии г-жой де Монто– зье.
Удивление было невероятным, и оно пробудило поэтическое вдохновение Шаплена. Несколько дней спустя он тайком прикрепил на стене этой комнаты свиток веленевой бумаги, на котором была написана ода, обращенная к 3 и р ф е е, королеве Арженнской, героине всех романов об Амадисе Галльском, воплощенной в явь в карусели на Королевской площади в 1612 году.
В своей оде, из которой, впрочем, мы намереваемся дать сейчас отрывок, Шаплен писал, что это жилище, впоследствии именовавшееся жилищем Зирфеи, было построено лишь для того, чтобы укрыть Артенису от разрушительного действия времени. Заметим, что г-жа де Рамбуйе, которую звали Артенисой, страдала множеством недугов.
Вот лучшие строфы из этой оды: по ним можно судить о творческой манере человека, который заполнил своими книгами все библиотеки, а своей славой – половину XVII века, но сегодня известен лишь благодаря эпиграммам Буало, обретаясь теперь, по всей видимости, только в библиотеке на улице Ришелье, да и то!..
Ее величию так мал наш мир земной!
Для благородных душ тесны его просторы.
Богиня мудрости могла б ей стать сестрой,
И добродетельность не ведает укора.
Так беспримерная дает пример всем нам,
Достоинства и честь мужам являет дама.
Плоть нежная ее – души прекрасный храм.
Кто красоте вредит, тот разрушитель храма.
Но небо грозное, чей свет несет она,
Земле беспомощной ее приревновала.
И, чтоб вернуть ее, объявлена война,
И небо гневное нам бедствий шлет немало.[47]
Урганда некогда сумела волшебством
Для Амадиса и его отряда
Прервать теченье времени, о чем
Всем всюду и всегда нам помнить надо.
Хочу сегодня чары повторить —
Сберечь нам Артенису, как когда-то
Сумели Амадиса сохранить.
И той же тайной силой ворожбы
Построила я это помещенье,
Далекое от бед и от судьбы,
Свободное от времени и тленья;
Небесный свод не двинется над ним,
И старость, смерть сюда со страшным выраженьем
Не явятся – да что здесь делать им?
И эта несравненная краса,
Кого сто бед склоняют покориться,
Здесь скроется и, веря в чудеса,
Обманет зло и сможет защититься.
Она на троне; свет ее лица
Не знает, озаряя смертных лица,
Ни тучи, ни затменья, ни конца.[48]
Наконец, третье сочинение Шаплена, которое Таллеман де Рео отметил как заслуживающее внимание, это ода, обращенная к кардиналу Ришелье и напечатанная вначале лишь частично, а затем воспроизведенная в издании «Новые музы» господ Годо, Шаплена и Абера; в ней тридать строф по десять стихотворных строк в каждой.
Примерно в это время наш поэт сочинял «Девственницу». Прочитав две первые песни поэмы от корки до корки, г-н де Лонгвиль пришел в полный восторг и предложил Шаплену должность в своем доме. Однако поэт ответил, что он уже принят на службу в качестве секретаря г-на де Ноайля, посла в Риме.
Шаплен был чрезвычайно обидчив.
Спустя какое-то время г-н де Ноайль обошелся с ним крайне грубо, и он тотчас покинул его. Господин де Ноайль едва не сошел с ума от ярости, пустил в ход все средства, чтобы заполучить Шаплена обратно, и обратился за содействием к кардиналу; однако Буаробер, которого попросили выступить в этом деле посредником, напомнил кардиналу, что он в долгу перед Шапленом за оду, которую тот ему написал; в итоге кардинал не стал вмешиваться в их ссору.
Тем временем г-ну де Лонгвилю стало известно, что Шаплен лишился должности секретаря посольства; он распорядился привести к нему поэта, беседовал с ним более часа, а затем, не ставя при этом никаких условий, вручил ему какую-то шкатулку и попросил открыть ее лишь по возвращении домой. Вернувшись к себе, Шаплен открыл шкатулку и обнаружил в ней грамоту о пожаловании ему пенсиона в две тысячи ливров, обеспеченного доходами со всех имений г-на де Лонгвиля. Кроме того, Шаплен получал от кардинала пенсион в тысячу ливров, который Буаробер пожелал поднять до тысячи шестисот ливров. Именно эти шестьсот ливров и были по настоянию Шаплена предоставлены Кольте.
Понадобилось двадцать лет, чтобы «Девственница» появилась на свет, и в течение этих двадцати лет весь Париж интересовался ею. И потому в те дни, когда было объявлено о ее издании, Франсуа Пейо де Линьер, поэт-сатирик и современник Шаплена, сочинил направленную против него эпиграмму:
Лет двадцать, долгих двадцать лет
Вся Франция ждала и бдила,
Когда Шаплена «Дева» выйдет в свет,
И лишь о том и говорила.
Но вот полгода пролетит,
И глядь – никто о ней не говорит.
Эта эпиграмма привела Шаплена в бешенство; он во всеуслышание заявил, что тот, кто ее сочинил, заслуживает палок, однако так их ему и не дал.
Перейдем теперь к Конрару.
Конрар, родившийся в Валансьенне, стал первым непременным секретарем Французской академии и ее подлинным основателем. Не стоит из-за этого досадовать на него: вероятно, он не знал, что Академия сделается пристанищем знатных вельмож. Конрар был сыном почтенного валансьеннского горожанина, который имел немалое состояние, но, будучи строгим блюстителем законов против роскоши, не позволял своему сыну носить ни подвязки, ни туфли с бантами и приказывал ему коротко подстригать волосы; в итоге у юного Конрара всегда были с собой подвязки и банты, которые он то отвязывал, то привязывал где-нибудь на улице, за углом. Однажды, когда он так вырядился, ему случилось столкнуться лоб в лоб с отцом: тот решил проклясть его и выгнать из дома.