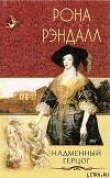Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 55 страниц)
Мария Медичи отправила к нему одного из своих придворных, чтобы тот выразил ему соболезнование от ее имени.
– Право, – промолвил Малерб, – передайте ее величеству, что я могу отплатить ей за подобное проявление учтивости лишь пожеланием, чтобы король оплакивал свою мать, будучи в таком же пожилом возрасте, в каком я оплакиваю мою.
После ухода посланца королевы Малерб долго размышлял, пытаясь понять, уместно ли ему надевать траур по матери.
– Вы только подумайте, – сказал он, – каким миловидным сиротой я сделаюсь с моими шестьюдесятью годами и седыми волосами.
И все же в конце концов он решил заказать себе траурное платье.
У Малерба был лакей, которому он платил годовое жалованье в двадцать экю, а сверх того, как сказали бы сегодня, надбавку в десять су ежедневно. Как видно, по масштабам того времени этот лакей поэта получал наравне с лакеем знатного вельможи. Однако каждый раз, когда этот Фронтен пренебрегал какой-нибудь из своих обязанностей, Малерб подзывал его и делал ему такое внушение:
– Друг мой, когда грешишь перед своим хозяином, грешишь перед Богом, а когда грешишь перед Богом, необходимо, дабы получить прощение за свои прегрешения, поститься и творить милостыню; и потому из ваших ежедневных десяти су я удерживаю пять, чтобы раздать их ради вас беднякам и искупить тем самым ваши грехи.
Мы уже сказали, как Малерб обходился с другими; возможно, у него было на это право, ибо он не щадил и самого себя.
Нередко он говорил Ракану:
– Знаете ли, дорогой собрат, если наши стихи и переживут нас, то вся слава, на какую мы с вами можем надеяться, состоит в том, что нас назовут двумя искусными слогослагателями, добавив при этом, будьте уверены, что мы были двумя полными дураками, ибо занимались всю свою жизнь делом, столь бесполезным для людей и для нас самих, вместо того чтобы употребить ее на развлечения или стяжание богатства.
И в самом деле, Малерб, справедливо или нет, не слишком высоко почитал науки, в особенности те, какие служат лишь удовольствию и сладострастию.
К числу последних он относил и науку поэзии.
Когда однажды некий стихоплет стал жаловаться Малербу, что награды от короля могут ожидать лишь те, кто служит ему в армии или в делах политики, он в ответ сказал так:
– Ах, сударь, когда занимаешься таким глупым ремеслом, как рифмоплетство, не приходится ждать от него ничего, кроме собственного развлечения, и, по моему мнению, самый превосходный поэт полезен государству не более, чем искусный игрок в кегли.
Правда, он не питал большого уважения и к людям вообще.
Как-то раз, рассуждая о Каине и Авеле, он сказал:
– Недурное начало и достойная семейка, черт побери! Их еще трое или четверо на всем свете, и вот уже один убивает другого! По правде сказать, Господь проявил немалую доброту, потрудившись сберечь людей ... Однако после этого, – поправил себя поэт, – он все же утопил их.
Однажды он вместе с Раканом и г-ном Дюмустье отправился к монахам-картезианцам, чтобы повидаться с неким отцом Шазре, который жил среди них, окруженный ореолом святости; однако им не хотели дать разрешение побеседовать с этим достойным человеком, пока каждый из них не прочтет по одному разу «Отче наш».
Когда молитва была завершена, отец Шазре вышел к ним и объявил, что у него есть время лишь на то, чтобы извиниться перед ними, но на беседу с ними у него времени нет.
– Тогда, – сказал Малерб, чрезвычайно раздраженный тем, что ему пришлось утрудить себя впустую, – прикажите вернуть мне мой «Отче наш».
Однажды утром Ракан вошел в кабинет Малерба и застал его раскладывающим в ряд монеты. Тот разложил их двенадцать штук, затем, под первыми двенадцатью, разложил двенадцать других, а под ними – еще шесть. После этого он все повторил снова: двенадцать, двенадцать и шесть.
– Да что это вы тут делаете, черт подери? – спросил Ракан.
– Я составляю основу нового стихотворного размера для оды, – ответил Малерб.
– Я не понимаю вас.
– Погодите, сейчас поймете.
После того как монеты были разложены в ряды: двенадцать, двенадцать и шесть, двенадцать, двенадцать и шесть, Малерб взял перо и написал:
О сколько же шипов, Амур, у роз твоих!
Все счастья ждут в любви, но все решит за них
Случайность роковая!
Чтоб пить нектар любви, любой на все готов,
Терпя мучения от золотых оков,
Но смерти не желая![59]
– Видишь, – сказал он затем, – двенадцать монет – это длинный стих, а шесть – короткий.
Имя Малерба и его заслуги стали известны Генриху IV благодаря лестному отзыву о нем кардинала дю Перрона, прозвучавшему в 1601 году, то есть в то время, когда кардинал был всего лишь епископом Эврё.
Вот в связи с чем это случилось.
Как-то раз король спросил достойного прелата, сочиняет ли он по-прежнему стихи.
– Государь, – ответил тот, – с тех пор как вы, ваше величество, оказали мне честь, доверив заниматься делами государства, я совершенно оставил занятия поэзией. К тому же не стоит и браться за нее теперь, когда за нее взялся нормандский дворянин по имени Малерб.
Эта похвала вызвала у Генриха IV желание принять к себе на службу нашего поэта. Он несколько раз говорил о нем с Дез Ивето, наставником герцога Вандомского, а поскольку Дез Ивето был уроженцем того же города, что и Малерб, он стал побуждать Генриха IV призвать того ко двору; однако король, скупость которого мы уже отмечали, не решался пригласить его, страшась обременить себя еще одним пенсионом.
«Это и послужило причиной того, — говорит Таллеман де Рео, – что Малерб попал на прием к королю лишь спустя три или четыре года после того, как кардинал дю Перрон рассказал о нем государю, да и то произошло это случайно».
Малерб приехал в Париж по своим личным делам; Дез Ивето уведомил об этом короля, и тот немедленно послал за поэтом.
Произошло это в 1605 году, и, поскольку в то время король готовился отбыть в Лимузен, Малерб сочинил по случаю этого отъезда стихотворение, которое начинается так:
Господь благой, ты нашим внял слезам ...
Когда, по возвращении Генриха IV из Лимузена, ему была преподнесена эта ода, он нашел ее восхитительной и пожелал, чтобы Малерб поступил к нему на службу; но, по своей скаредности, он приказал г-ну де Бельгарду, в то время первому дворянину королевских покоев, держать поэта при себе до тех пор, пока он не будет зачислен в штат королевских пенсионеров.
Господин де Бельгард, который был настолько же щедр, насколько король прижимист, предоставил Малербу жалованье в тысячу ливров, стол, лакея и лошадь.
В одном из своих писем Ракану поэт похваляется, что он явился ко двору не для того, чтобы попытать счастье, а потому, что был призван туда.
«Что касается меня, — говорит он в этом письме, – то я ни с кем не соперничаю в заслугах и полагаю, что среди всех тех, кому король оказывал благодеяния, нет ни одного, кто заслужил бы их в большей степени, чем я. Но, даже если у меня нет никаких иных преимуществ, я отличаюсь в выгодную сторону от других хотя бы тем, что явился ко двору не для того, чтобы спрашивать, нуждаются ли там во мне, как это делали почти все, кто более всего шумит при дворе сегодня. В этом месяце исполняется ровно двадцать лет с тех пор, как покойный король послал за мной г-на Дез Ивето, приказал мне состоять при его особе и заверил меня, что я буду облагодетельствован им. Я не буду называть незнатных свидетелей, но королева-мать, принцесса де Конти, герцогиня де Гиз, ее мать, а также г-н де Бельгард и вообще все те придворные, кто постоянно бывал тогда в кабинете короля, знают эту правду».
Малербу было тридцать лет, когда он написал знаменитую оду
Доколе, Дюперье, скорбеть не перестанешь?
Говорят, что прекрасная строка
И роза нежная жила не дольше розы ...
получилась такой благодаря типографской опечатке, а в авторской рукописи было:
И Роза нежная жила не дольше розы ...
Однако мы полагаем, что подобные случайности происходят только с людьми гениальными.
Подобно Ракану, Малерб страдал дефектом речи, и потому, когда его спрашивали, откуда он родом, поэт обычно отвечал, что он Бормотун из Бормотании.
Малерб был самым плохим декламатором на свете: он портил самые прекрасные свои стихи, декламируя их сам, не говоря уж о том, что на протяжении одной строфы раз пять или шесть останавливался, чтобы отхаркаться: это дало основание шевалье де Манчини сказать, что он никогда не видел человека, источавшего более влаги, и поэта, писавшего более сухие стихи.
Из-за этой привычки к отхаркиванью Малерб всегда держался поближе к камину.
В итоге, когда однажды, находясь в доме г-на де Бельгарда и сидя на своем обычном месте, Малерб не мог согреться, поскольку ему мешали каминные подставки для дров, изображавшие двух бородатых сатиров, он схватил эти раскаленные докрасна подставки и перенес их в середину залы.
– Э, – обратился к нему г-н де Бельгард, – на кого это вы сердитесь, Малерб?
– На двух этих толстых х..в, которые греются в свое удовольствие, тогда как я умираю от холода.
Однажды он читал свои стихи Ракану и, закончив читать, спросил его, что тот о них думает.
– Признаться, – ответил Ракан, – я затрудняюсь что– либо сказать, ведь вы половину их проглотили.
– Черт побери! – в ярости воскликнул Малерб. – Если вы скажете еще хоть слово, я проглочу их целиком!.. В конце концов, я вполне могу делать с ними все, что мне угодно, ведь они принадлежат мне.
Он перевел один из псалмов Давида, но, по-видимому, не сохранил смысл, который вложил в это песнопение царь-пророк. Ему указали на это.
– Я что, по-вашему, слуга царя Давида?! – воскликнул он. – На мой взгляд, он выразился плохо, я сделал это лучше, вот и все.
У него был брат по имени Элеазар Малерб, с которым он вечно вел судебную тяжбу.
– Какой стыд, – сказал Малербу один из его друзей, – видеть тяжбу между столь близкими людьми!
– А с кем же, по вашему мнению, мне следует судиться? С турками или с московитами, которые находятся в тысяче льё от меня и от которых мне нечего требовать?
Малерб всегда поселялся в довольно скверных квартирах, выбирая убогие меблированные комнаты, обстановку которых составляли пять или шесть соломенных стульев. А так как его весьма часто навещали все те, кто любил изящную словесность, то, когда эти пять или шесть стульев оказывались заняты посетителями, он запирал свою дверь изнутри и, если в нее стучали новые гости, кричал им:
– Подождите минуту на лестничной площадке, пока отсюда кто-нибудь не выйдет: стульев больше нет!
А вот одна из его грубых выходок, которую мы чуть было не забыли упомянуть.
Однажды вечером, после ужина, возвращаясь от г-на де Бельгарда со своим лакеем, который, освещая хозяину дорогу, нес перед ним факел, он повстречал г-на де Сен– Поля, знатного дворянина и родственника г-на де Бельгарда.
Тот остановил его и начал говорить с ним о каких-то маловажных новостях; однако Малерб прервал его, сказав:
– Прощайте, сударь, прощайте! Из-за вас я тут сжег воска на пять су, а то, что вы мне сейчас рассказываете, не стоит и медного гроша!
Господин Франсуа де Арле, архиепископ Руанский, пригласил Малерба отобедать с ним и предупредил, что делает это с намерением повести его затем на проповедь, которую он должен был произнести в церкви по соседству со своим особняком.
По завершении обеда, наевшись до отвала, Малерб уснул прямо на стуле и, когда архиепископ попытался разбудить его, чтобы повести на проповедь, открыл один глаз и произнес:
– Ах, прошу вас, монсеньор, избавьте меня от проповеди: я посплю и без нее!
Когда встречные нищие, надеясь пробудить в нем щедрость, говорили ему, что они будут молить за него Бога, он, покачав головой, отвечал:
– О, судя по тому состоянию, в каком я вас вижу, вы, мне думается, не пользуетесь большим влиянием на Господа Бога. Я предпочел бы, чтобы подобное обещание мне дали господин де Люин или господин главноуправляющий финансами.
Однажды, когда стояли сильные холода, он натянул на себя три фуфайки вместо привычной одной, а кроме того, развесил на окне три или четыре локтя зеленой байки, сказав:
– Этот мороз, видно, студит меня так сильно лишь потому, что ему кажется, будто мне не из чего нашить себе фуфаек. Но я докажу ему, что он ошибается!
Поскольку холода, невзирая на это, продолжались, Малерб стал выделывать с чулками, то же, что и с фуфайками: он натягивал их на ноги по две-три пары, а то и по четыре-пять.
В конце концов Малерб стал надевать такое количество чулок, что, дабы на одной ноге их не оказалось больше, чем на другой, он ставил по миске слева и справа от себя и, каждый раз, натягивая очередной чулок на ту или другую ногу, бросал в соответствующую миску очередную бляшку.
Ракан, желая избавить его от такого труда, посоветовал ему пометить каждый чулок цветной буквой и надевать их в алфавитном порядке.
Малерб счел совет хорошим и последовал ему.
Встретив спустя несколько дней Ракана, он быстро прошел мимо него, сказав:
– Ну вот, я уже до буквы «л» добрался.
Это означало, что он надел уже двенадцать пар чулок.
Как-то раз, находясь у г-жи де Лож, Малерб показал присутствующим, что на нем было четырнадцать фуфаек и рубашек.
– Вот так-то! – произнес он. – Господь посылает стужу лишь для нищих и дураков; те же, у кого есть возможность хорошо одеться и как следует согреться, ни в коем случае не должны страдать от холода.
Однажды он довольно серьезно заболел и послал за Тевненом, глазным лекарем, служившим у г-на де Бель– гарда; Тевнен счел его болезнь опасной и предложил ему позвать Робена, одного из своих собратьев по ремеслу.
– О нет! Не надо мне врача с таким именем! – воскликнул Малерб. – Терпеть не могу судейских крючков.
– В таком случае, – спросил Тевнен, – не желаете ли вы позвать господина Генбо?
– Генбо? Да это же кличка гончей собаки!.. Тубо, Генбо!.. Нет, конечно, нет!
– Тогда, возможно, господина Дасье?
– Этот малый, небось, пожестче железа? Ни за что!
– Ну, тогда есть еще господин Провен.
– Провен? Ладно. Против него я ничего не имею.
И он послал за Провеном.
Однажды, когда он устроил обед для шести своих друзей, каждому из них подали по вареному каплуну.
– Но зачем же семь каплунов? – спросил один из гостей.
– Да потому, – ответил Малерб, – что, любя вас всех одинаково, я не хотел угощать одного крылышком, а другого ножкой.
Господин де Бельгард сочинил куплеты, третий стих которых гласил:
Не так уж все и сложно,
а шестой:
Вот это просто невозможно.
Малерб их лишь подправил, но было распространено мнение, что они написаны им.
Поэт Вертело сочинил пародию на них. Вот две строфы из этой пародии:
Умения свои хвалить без меры
И подправлять Катулла и Гомера
Не так уже, Малерб, и сложно.
Считать, что есть искуснее поэты,
И совершенней сочинять сонеты —
Вот это просто невозможно!
Творить лет шесть единственную оду,
Выдумывать в литературе моду
Не так уже, Малерб, и сложно.
Но слух наш чаровать, читая Чудо,
Стих за стихом, отсюда и досюда, —
Вот это просто невозможно![60]
Малерб пришел в ярость и вызвал Вертело на дуэль, а поскольку тот ответил на вызов отказом, устроил так, что обидчика поколотил палкой Ла Булардьер, дворянин из Кана.
В делах любви Малерб был груб не меньше, чем в делах поэзии.
Как-то раз он рассказал г-же де Рамбуйе, что, заподозрив виконтессу д’Оши, свою любовницу, в измене, он вошел в ее спальню и, застав ее там одну, лежащую в постели, схватил одной рукой обе ее руки, а другой принялся хлестать ее по щекам, пока она не стала звать на помощь.
Затем, услышав, что на эти крики сбегаются люди, он сел рядом с кроватью виконтессы и сделал вид, что самым невинным образом беседует с ней; так что те, кто вбежал в комнату, никогда не поверили бы, что виконтессу избили, хотя щеки ее пылали, а глаза были полны слез.
Малерб был влюблен еще и в г-жу де Рамбуйе, но платонически.
Вот стихи, которые он адресовал ей: они прекрасны по форме и тщательно отделаны:
Остаток дней моих прекрасной этой фее
Доверил я хранить, пред ней благоговея.
Сокровища ума и тела красоту
Нельзя не полюбить – и я люблю и чту.
Прелестна речь ее и грация бесценна:
Я глянул на нее и не избегнул плена!
Всесильной женщиной мой ум был помутнен,
Я стал рабом ее, чтоб длился сладкий сон.
И я ей угождал, чтоб получить награду,
Но вдруг очнулся я, почувствовав засаду.
Живя по-прежнему, я мог в нее попасть;
Спасая душу, мне пришлось отвергнуть страсть.
Не стыдно за себя, себя я наказую;
Нет, страстью не зажечь в ней душу ледяную!
На тщетные мольбы не стал я тратить сил,
И прежнюю любовь я дружбой оградил.[61]
Когда сын нашего поэта был убит в Эксе, где он исполнял должность советника, Малерб, дабы добиться правосудия у короля, осаждавшего в это время Ла-Рошель, предпринял поездку, в ходе которой он подхватил болезнь, ставшую причиной его смерти.
Он не очень-то верил в загробную жизнь и, когда ему говорили об аде и рае, ограничивался словами:
– Я жил, как все другие, и хочу умереть, как все другие, и уйти туда, куда уходят все другие.
Его уговаривали исповедоваться, однако он отвечал, что привык исповедоваться только на Пасху и не намерен менять свои привычки.
Впрочем, к мессе он ходил каждый праздник и каждое воскресенье, а о Боге и всем святом всегда говорил почтительно.
Наконец, когда Ивранд убедил его исповедоваться, умирающий послал за викарием церкви Сен-Жермен– л'Осеруа, который не только принял у него исповедь, но и напутствовал его до самого конца.
За час до кончины, находясь в забытьи, из которого, по мнению окружающих, ему уже не суждено было выйти, он внезапно пришел в себя и принялся бранить свою хозяйку за какую-то только что совершенную ею ошибку во французском языке.
Когда же исповедник пожурил умирающего за мысли о делах, которые заставляют его забывать о Боге, он ответил:
– Ах, святой отец! А разве это не еще один великий грех – забывать о французском языке?
После этого, снова впав в забытье, он еще час издавал предсмертные хрипы, а затем испустил последнее дыхание.
Мы уже рассказывали о том, как в то самое время, когда королева-мать бежала в Блуа, его величество Людовик XIII довершил в Сен-Жермене свой брак; мы рассказывали, чем завершилась небольшая гражданская война, одним из эпизодов которой стала смерть убитого Темином маркиза де Ришелье, старшего брата епископа Люсонского; мы приводили три главные статьи мирного договора, а точнее сказать, три заинтересовавшие нас статьи, согласно которым герцог д'Эпернон вновь вошел в милость, архиепископ Тулузский и епископ Люсонский получили по кардинальской шапке, а г-жа Виньеро де Пон-Курле, племянница Ришелье, получив от королевы– матери приданое в двести тысяч ливров, вышла замуж за Комбале, племянника Люина; мы рассказывали о странных любовных отношениях, связывавших Людовика XIII с его любовницами, и о том, как король сказал г-же де Люин, ставшей впоследствии герцогиней де Шеврёз, что он любит своих любовниц только от пояса и выше, на что та ответила ему: «Ну что ж, государь, тогда ваши любовницы, подобно Толстому Гийому, опояшутся посередине бедер!»; и, наконец, мы рассказывали о том, как Ги Патен, врач кардинала, написал о нем после его смерти:
«За два года до своей смерти кардинал еще имел трех любовниц: первой была его племянница, г-жа де Комбале; второй – пикардийка, то есть жена маршала де Шона; третьей же – некая красивая парижская девица по имени Марион Делорм».
Марион Делорм – знаменитейшая из куртизанок. О Марион Делорм сложены сотни легенд, и по одной из них она жила на свете почти полтора века; наконец, интерес к ней послужил для Виктора Пого поводом сочинить одну из самых прекрасных драм французского театра.
Расскажем, что представляла собой Марион Делорм; позднее мы снова встретимся с ней в связи с ее причастностью к истории несчастного Сен-Мара.
Марион Делорм родилась в Шалоне-на-Марне около 1609 или 1610 года; стало быть, в то время, о котором у нас сейчас идет речь, ей было лет восемнадцать или девятнадцать.
Она была довольно знатной по рождению и, по меркам той эпохи, богатой: в случае замужества ей дали бы в приданое двадцать пять тысяч экю; однако она предпочла остаться девицей, если только выражение «остаться девицей» приложимо к жизненному пути, который она избрала.
Это была очень красивая и привлекательная особа, все делавшая очень любезно; она не отличалась живостью ума, но прекрасно пела и восхитительно играла на лютне; она была великолепна, расточительна и сластолюбива; у нее было множество любовников, но, по ее утверждению, она испытывала любовь лишь к семи из них: как видим, таких было совсем немного. Первым у нее был Дебарро, затем в ее любовниках последовательно побывали маркиз де Рувиль, шурин Бюсси-Рабютена; Миоссан, которому она сама написала, когда ей пришла охота переспать с ним, и который ради нее изменил г-же де Роган; Арно, Сен-Мар, г-н де Шатийон и г-н де Бриссак.
Как видно, Марион Делорм не включила кардинала в число тех, кого она любила.
Прослышав о ее красоте, кардинал послал за ней, и она явилась к нему во дворец, переодетая пажом.
Он, со своей стороны, облачился в одежду кавалера. На нем было платье из иссера-голубого атласа, обшитое золотым и серебряным позументами, сапоги и шляпа с перьями.
После этого свидания он велел своему камердинеру Дебурне вручить ей сто пистолей; Марион швырнула их в лицо камердинеру.
Затем, вернувшись в комнату кардинала, она сказала ему:
– Монсеньор, по всей вероятности, это не по вашему приказу меня оскорбили, предложив мне деньги; оглядитесь вокруг себя и подумайте, нет ли у вас чего-нибудь получше пистолей, что вы могли бы подарить мне на память о нашей встрече.
Кардинал огляделся по сторонам, увидел трость, принадлежавшую г-же де Комбале, взял ее и подарил Марион, промолвив:
– Держите, красотка: эта трость досталась мне от моей племянницы.
– Прекрасно! – воскликнула Марион Делорм. – Это настоящий трофей ... Я возьму ее и сохраню.
Трость была очень красива, богато оправлена и стоила около шестидесяти пистолей; Марион всегда носила ее с собой и рассказывала эту историю всем подряд.
Ее обвиняли в том, что она служила кардиналу шпионкой; если это и было, то лишь без ее ведома или по принуждению: вот уж чего не было в характере честной куртизанки, так это подобного предательства.
Марион никогда не принимала деньги – она брала лишь подарки.
Д'Эмери, казначей, подарил ей бриллиантовое ожерелье, время от времени служившее ей хорошим подспорьем; в случае нужды она отдавала его в залог, а такая нужда возникала у нее часто. Она сама говорила, что никогда не носила одних и тех же перчаток более трех часов.
К помощи президента де Шеври она прибегала лишь в крайнем случае, когда никого другого у нее под рукой не было.
Марион подавала надежды – подобно Нинон, которой она немного завидовала, – оставаться красивой до восьмидесяти лет; однако в возрасте тридцати девяти лет, желая вызвать у себя выкидыш, она приняла слишком сильную дозу сурьмы и отравилась.
Ее болезнь длилась три дня, и в течение этих трех дней несчастная Мария Магдалина исповедовалась раз десять или двенадцать: она снова и снова находила в памяти то, в чем ей нужно было покаяться, и каждый раз посылала за священником.
После смерти ее на сутки выставили напоказ, лежащей на своей постели и украшенной венком из флердоранжа и белых роз, что выглядело несколько рискованно.
Она имела брата и трех сестер.
Ее брат, носивший, по названию одного из родовых поместий, имя Бе, из-за долгов попал в тюрьму.
Марион обратилась с ходатайством о его освобождении к президенту де Мему, который нашел ее настолько очаровательной, что он не только согласился выполнить ее просьбу, но и проводил ее до подъезда, сказав:
– Ах, мадемуазель, может ли статься, что я жил до этого часа, не будучи знаком с вами?
Все три ее сестры были красивы и прекрасно сложены; старшая, не славившаяся умом, имела привычку говорить:
– Хоть мы и бедны, но имеем честь.
Вероятно, подразумевалась честь быть сестрами Марион Делорм. И бедняжка оказалась права: поскольку Марион Делорм была славой и опорой своей семьи, то, стоило ей умереть, как все позабыли и о ее брате, и о ее сестрах. Обладая добрым сердцем, она избавляла от расходов всю семью.
Несомненно, Марион Делорм не оказывала кардиналу Мазарини те услуги, какие, в чем ее обвиняли, она оказывала кардиналу Ришелье; ведь как раз в то время, когда она умерла, ее вот-вот должны были арестовать как соучастницу заговора принцев Конде и Конти.
Несомненно также, что именно это обстоятельство дало повод к странному суждению, будто бы она не умерла, а распустила слухи о своей смерти и, понаблюдав из окна за тем, как удаляется ее похоронная процессия, уехала после этого в Англию.
Начиная с этой минуты для бедной покойницы начинается цепь приключений, которым она обязана фантазии своих биографов.
Как утверждают некоторые из них, Марион Делорм вышла замуж за какого-то лорда; овдовев, она возвращается с сотней тысяч франков во Францию, но по пути на нее нападает шайка грабителей, и она становится женой их главаря; овдовев во второй раз, после четырех лет совместной жизни с этим вторым мужем, она выходит замуж в третий раз, за фискала по имени Ле Брён; затем, потеряв по прошествии двадцати двух лет и этого супруга, она поселяется в квартале Маре, где ее обворовывают вероломные слуги, и умирает в эпоху царствования Людовика XV, в 1741 году, в возрасте ста тридцати трех лет!
Все это, разумеется, не более чем вымысел. Таллеман де Рео опровергает его, сообщая мельчайшие подробности о последних часах ее жизни, и в «Исторической газете» Лоре мы находим свидетельство о ее смерти, составленное в виде четверостишия.
Вот это четверостишие, опубликованное 30 июня 1650 года:
Бедняжка Марион Делорм,
Прельстительница дивных форм,
Навек с собою унесла в могилу
Сокровище, что многим было мило.
Что же касается г-жи де Шон, то ее связь с кардиналом считалась доказанной.
Вместо того чтобы отрицать свою близость с ним, как это делала г-жа де Комбале, или попросту признаться в ней, как поступила Марион Делорм, маршальша стала похваляться ею.
Это едва не обернулось для нее бедой. Однажды ночью, когда она возвращалась из Сен-Дени, ее карету остановили шестеро всадников, переодетых морскими офицерами: они попытались обезобразить маршальшу, разбив об ее голову две склянки с чернилами.
Расчет в таких случаях прост: разбивают бутылку об голову особы, которую хотят обезобразить; осколки стекла режут лицо, чернила проникают в порезы, и рубцы остаются навсегда.
В наше время подобный прием сделали еще проще: в лицо выплескивают серную кислоту.
К счастью, г-жа де Шон стала обороняться, прикрываясь обеими руками; в итоге склянки разбились о стенки кузова, и пострадало лишь ее платье.
Кардинал, желая вознаградить ее если и не за ущерб, который она не потерпела, а хотя бы за испытанный ею страх, подарил ей располагавшееся при въезде в Амьен аббатство, приносившее двадцать пять тысяч ливров годового дохода.
Ну а теперь понаблюдаем за кардиналом в других его любовных похождениях, в большей степени отмеченных честолюбием и удавшихся ему куда меньше, чем те, о каких мы только что рассказали.
Королева Анна Австрийская, отверженная мужем, едва замечала то, что женщины замечают всегда: церемониальную учтивость по отношению к ней кардинал Ришелье доводил до ухаживания, а почтительность – до обожествления.
Однажды вечером она получила письмо от кардинала, просившего ее о свидании и умолявшего ее устроить это свидание с глазу на глаз, поскольку цель его высокопреосвященства состояла в том, чтобы поговорить с ее величеством о некоторых государственных делах, требующих соблюдения полнейшей тайны.
Королю нездоровилось, и он пребывал в холодных отношениях с королевой, вызванных вольностями со стороны герцога Анжуйского. Мы уже говорили о вольностях, которые позволял себе монсеньор Гастон Орлеанский, и далее поговорим о них еще.
Королева дала согласие на свидание, однако поставила в оконном проеме старую испанскую горничную по имени донья Эстефания, последовавшую за ней из Мадрида в Париж и едва говорившую по-французски.
Кардинал явился в наряде придворного кавалера; в такого рода похождениях он всегда считал важным замаскировать священнослужителя: забывая о своей сутане сам, он хотел, чтобы о ней забыли все.
К тому же, подобно большинству прелатов того времени, которые в случае надобности носили латы, он носил усы и бородку клинышком; однако в ту пору подобная бородка еще не носила аристократического имени «королевская». Позднее, войдя в кабинет Людовика XIII в один из столь тяжелых и столь привычных для короля моментов, когда им владела скука, мы изыщем возможность сказать, каким образом получил такое название этот маленький пучок волос под нижней губой, напрочь искорененный при Людовике XIV, Людовике XV, Людовике XVI, Республике и Империи и вновь появившийся в годы Реставрации.
Когда кардинал вошел в покои королевы, она сидела и на лице ее играла улыбка. Королеве было в то время около двадцати трех или двадцати четырех лет, то есть она находилась в самом расцвете своей красоты, которой столь огорчительно для нее пренебрегал муж.
Кардинал был достаточно опытным дипломатом, чтобы прикрыть свое предложение, каким бы странным оно ни было, необходимостью безотлагательного выбора и тем самым заставить Анну Австрийскую выслушать его до конца.
В качестве предлога он избрал плохое здоровье короля, болезнь, с особой силой терзавшую в это время его величество, и опасения, которые он обязан был высказать как верный подданный королевы и министр великого государства, что эта болезнь может усилиться.
Он обрисовал королеве непрочное положение, в котором она окажется, если, в случае смерти короля, останется бездетной вдовой.
Корона тогда перейдет к герцогу Анжуйскому.
Смертельным врагом Анны Австрийской была королева-мать, Мария Медичи. Правда, другом ей был юный герцог Анжуйский, но что значило бы покровительство пятнадцатилетнего короля против гонений со стороны сорокадевятилетней королевы-матери?
При виде бездны, в которую она вот-вот могла упасть, королева испугалась.
– Но вы же останетесь со мной, господин кардинал! – воскликнула она. – Вы ведь мой друг!
– Несомненно, сударыня, – отвечал кардинал, – я останусь с вами, а точнее, я останусь с вами, если сам не окажусь вовлечен в это гибельное падение; но монсеньор Гастон ненавидит меня, а королева-мать не простит мне свидетельств сочувствия, которые я вам давал. Так что если король умрет бездетным, мы оба погибли: меня сошлют в мою Люсонскую епархию, а вас отправят в Испанию; печальный итог, не правда ли, для двух сердец, мечтавших о регентстве?