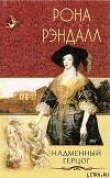Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 55 страниц)
– Послушайте, – промолвил кардинал, – все складывается как нельзя лучше для того, чтобы король не мог подумать, будто мы с вами все подготовили заранее; король намерен поехать через несколько дней в Блуа поразвлечься. Поезжайте в Бретань, привезите в Блуа господина де Вандома: мы избавим его от половины пути, и визит этот будет выглядеть вполне естественным.
– Однако, – произнес великий приор, – ваше высокопреосвященство понимает, что мне требуется некое ручательство, что с моим братом не случится чего-нибудь неприятного.
– Что касается такого ручательства, монсеньор, – со скромным видом ответил первый министр, – то его даст вам король, и я уверен, что вы не получите в этом отказа.
– Что ж, в таком случае я поеду сразу после того, как повидаю короля.
– Поезжайте к себе и ждите распоряжения об аудиенции, монсеньор; обещаю, что вам не придется ждать его долго.
И в самом деле, уже на следующий день великий приор был принят королем.
Людовик XIII избавил его от необходимости подводить разговор к нужной теме: он первый повел речь о поездке в Блуа и пригласил великого приора и его брата на великолепную охоту, которая должна была там состояться.
– Однако, – отважился заметить великий приор, – моему брату известно, что у короля есть нарекания в его адрес; возможно, мне будет довольно трудно добиться, чтобы он покинул свое губернаторство.
– Полноте! – воскликнул Людовик XIII. – Пусть он едет в полном спокойствии, и я даю вам мое королевское слово, что ему причинят не больше вреда, чем вам.
Король вполне мог взять на себя такое обязательство, ибо рассчитывал арестовать обоих.
Великий приор поехал в Бретань, а уже через день двор отправился в Блуа.
Кардинал двинулся в путь накануне, сославшись на то, что плохое состояние здоровья вынуждает его передвигаться короткими переездами. Выехав за сутки до короля, он, тем не менее, прибыл лишь на следующий день после него и, найдя город чересчур шумным, удалился в прелестный небольшой дом, находящийся в одном льё от города и носящий название Борегар.
Через два или три дня после того, как король поселился в замке, в Блуа в свой черед прибыли великий приор и его брат. В тот же вечер они были приняты королем, пригласившим их на охоту, которая должна была состояться на следующий день; однако братья ответили, что они благодарят короля, но просят дать им день отдыха. Чтобы засвидетельствовать свое почтение его величеству, они проскакали во весь опор восемьдесят льё! Король обнял их обоих и пожелал им покойной ночи.
В три часа утра, не желая нарушать данного им обещания, что Сезару де Вандому причинят не больше вреда, чем великому приору, король приказал арестовать их обоих и отвезти в Амбуаз.
Понятно, какой шум наделал арест двух сыновей Генриха IV.
Как и все другие, Шале узнал об их аресте. Перед этим он продолжал видеться с кардиналом и, поскольку кардинал продолжал оказывать ему радушный прием, думал, полагаясь на полученное обещание, что все, кто участвовал в попытке устранить кардинала во Флёри, находятся под защитой этого обещания.
Видя, что великий приор и его брат арестованы, он бросился к Ришелье и потребовал исполнения данного им слова.
Кардинал ответил ему, что господин великий приор и господин де Вандом были арестованы не как участники заговора Флёри или его зачинщики, а из-за того, что они давали дурные советы монсеньору герцогу Анжуйскому: один изустно, а другой письменно.
Шале удалился, весьма раздосадованный этим ответом.
И потому, поразмыслив какое-то время, он счел, что честь побуждает его обратиться к кардиналу с решительным заявлением: это заявление состояло в том, что он забирал назад свое слово и просил кардинала не рассчитывать на него впредь; однако найти кого-нибудь, кто согласился бы отнести подобное уведомление министру, оказалось затруднительно.
Два или три человека, прекрасно осведомленных об опасности, которой они подверглись бы, ответили отказом.
Тогда Шале решил написать кардиналу и в самом деле послал ему письмо.
Почти сразу после этого он возобновил отношения с г-жой де Шеврёз, которая прежде была его любовницей.
Это было объявление войны, куда более явное, чем написанное им письмо.
С этого времени Шале в замыслах кардинала была уготована роль козла отпущения в первом же затеянном заговоре.
К тому же Ришелье догадывался, что Шале не будет сидеть смирно и немедленно начнет интриговать.
Кардинал стал ждать.
Ожидание оказалось недолгим.
Герцог Анжуйский, чрезвычайно напуганный неожиданным арестом двух своих братьев, принялся с еще большей энергией искать убежище за границей или какую-нибудь сильную французскую крепость, под защитой стен которой он мог бы оказывать сопротивление кардиналу и диктовать свои условия.
Шале предложил молодому принцу служить ему посредником.
Предложение было принято.
Шале принялся за дело.
Он написал одновременно графу Суассонскому, исполнявшему обязанности губернатора Парижа; маркизу де Ла Валетту, исполнявшему обязанности губернатора Меца, и маркизу де Легу, фавориту эрцгерцога, в Брюссель.
Ла Валетт ответил отказом, но не из-за кардинала, на которого он должен был жаловаться, как и вся французская знать, а потому, что мадемуазель де Монпансье приходилась ему близкой родственницей и он не был склонен вступать в заговор, имевший целью расстроить ее брак с сыном короля Франции.
Граф Суассонский дал согласие и, более того, послал к герцогу Анжуйскому некоего Буайе, который от его имени предложил принцу пятьсот тысяч экю, восемь тысяч пехотинцев и пятьсот конников, если тот пожелает немедленно присоединиться к нему в Париже.
Что же касается маркиза де Лега, то позднее мы увидим, как складывались переговоры с ним.
В тот самый день, когда граф Суассонский послал Буайе к герцогу Анжуйскому, Лувиньи попросил Шале послужить ему секундантом.
Роже де Грамон, граф де Лувиньи, был братом отца маршала де Грамона. Будучи младшим сыном в семье, он не имел ни гроша за душой и при этом старался выглядеть еще беднее, чем был на самом деле. Он служил олицетворением нищеты, и все кругом говорили, что лучше бы ему ходить вовсе без штанов, чем показывать те, какие он носил. Он имел лишь одну рубашку и одни брыжи, и каждое утро ему их стирали и отглаживали. Однажды за ним послал герцог Анжуйский. Герцог очень торопился.
– Право, – ответил Лувиньи, – монсеньор подождет: моя рубашки и мои брыжи еще не постираны.
В другой раз он шел прямо по грязи, не обращая никакого внимания на то, куда ставит ногу.
– Осторожнее, граф, – сказали ему, – вы испортите ваши чулки!
– Да пусть, – ответил Лувиньи, – они ведь не мои.
Все это было бы еще ничего, если бы Лувиньи не совершил еще и чудовищную подлость.
Когда во время поединка с Окенкуром, ставшим позднее маршалом Франции, противник начал сильно теснить его, Лувиньи воскликнул, обращаясь к нему:
– Мне мешают мои шпоры: снимите ваши и дайте мне возможность снять мои.
Окенкур остановился, взял шпагу в зубы и нагнулся, чтобы отстегуть ремни. И в эту минуту Лувиньи предательски, сзади, пронзил его шпагой.
Окенкур чуть было не умер и полгода оставался в постели. В тот момент, когда ему стало особенно плохо, исповедник стал умолять его простить Лувиньи; однако Окенкур был чересчур зол на него, чтобы не предпринять меры предосторожности.
– Если я умру, – сказал он, – да, я прощаю его. Если же поправлюсь, то нет.
Этот постыдный поступок был настолько широко известен и его так часто ставили в упрек Лувиньи, что, когда тот попросил Шале послужить ему секундантом, Шале отказался.
«Злобный малый был так уязвлен этим отказом, – говорит Бассомпьер, – что тотчас отправился с доносом к кардиналу, рассказав ему все, что знал, и все, чего не знал».
А Лувиньи, которого всегда связывали с Шале братские отношения, знал почти все; среди прочего, он рассказал, что Шале отправил письма маркизу де Ла Валетту, графу Суассонскому и маркизу де Легу.
Это был брабантский заговор, как нельзя лучше подходивший кардиналу, и потому именно на нем он остановил свой выбор.
Заговор с участием Испании, черт побери! Это было как раз то, что кардинал столь долго искал; ему преподнесли этот подарок, и он с удовольствием принял его. Умело руководя этим заговором, можно было заставить вступить в него короля Испании, а король Испании – это брат Анны Австрийской.
Наконец-то кардинал держал в своих руках настоящий заговор.
Он позвал беззаветно преданного ему Рошфора. Читатель, надеюсь, помнит его: мы сделали из него главную пружину нашего романа «Мушкетеры».
Рошфор получил приказ отправиться в Брюссель, переодевшись капуцином. Мнимый монах имел при себе рекомендательное письмо от отца Жозефа, которое должно было обеспечить ему доступ в монастыри Фландрии; это письмо было подписано настоятелем капуцинского монастыря с улицы Сент-Оноре. Никто не должен был знать о его маскировке; ему предстояло путешествовать пешком, без денег, как настоящему нищенствующему монаху, вспупить в монастырь капуцинов в Брюсселе и подчиняться всей строгости устава этого ордена.
Находясь там, он должен был следить за всеми действиями маркиза де Лега.
Маркиз был другом настоятеля монастыря и его частым гостем. Роль, предназначенную Рошфору, было не так уж трудно исполнять: прикинувшись врагом кардинала, ему следовало лишь служить эхом и повторять все дурное, что говорили о министре-прелате.
Однако Рошфор пошел дальше: он выдумывал, приукрашивал, добавлял подробности, и его слушали, поскольку он прибыл из Парижа.
Рошфор был человек способный: он играл свою роль так, что все поддались на обман, и первым это сделал маркиз де Лег.
Через две недели маркиз де Лег проникся столь полным доверием к мнимому монаху, что открылся ему.
Речь шла о том, чтобы вернуться во Францию и доставить по адресам чрезвычайно важные письма.
Рошфор начал с отказа: одеяние, которое он носил, запрещало ему всякое соприкосновение с мирскими делами.
Маркиз де Лег настаивал.
В итоге мнимый монах согласился оказать услугу дворянину, проявившему по отношению к нему столько доброты; но, чтобы вернуться во Францию, ему следовало покинуть монастырь, а как покинуть монастырь, не имея разрешения настоятеля, полновластного главы общины?
Только и всего?
Маркиз де Лег попросил самого эрцгерцога поговорить с настоятелем; понятно, что подобное вмешательство устранило все затруднения; мнимому монаху было разрешено отправиться на воды Форжа, и маркиз де Лег поручил ему доставить во Францию письма, но не вручать их самому в Париже, а написать адресату, пригласив его явиться за ними в назначенное место.
Рошфор уехал.
Едва очутившись по эту сторону границы Франции, он написал кардиналу, попросив прислать ему надежного человека. Долго ждать гонца не пришлось. Рошфор вручил ему пакет, который он получил от маркиза де Лега; Ришелье ознакомился с его содержимым, приказал снять копии со всех писем, которые там были, и вернул пакет Рошфору, получившему его в нескольких льё от Форжа.
Как только пакет снова оказался в его руках, Рошфор написал адресату, пригласив его прибыть за письмами; спустя пять или шесть дней адресат явился: это был адвокат по имени Ла Пьер, живший на улице Пердю, возле площади Мобер.
Затем адвокат вернулся в Париж и отправился прямо в особняк Шале.
Шале прочитал письма и написал ответ на них.
Что содержал этот ответ?
Никто, кроме кардинала и короля, этого так никогда и не узнал.
Как только кардинал уведомил короля об этой интриге, его величество вознамерился арестовать Шале и предать суду королеву и герцога Анжуйского; однако кардинал упросил короля подождать, пока заговор не созреет.
А что требовалось, чтобы заговор созрел?
Требовалось письмо короля Испании в ответ на послание, написаное Шале. Это письмо должно было возвестить о том, что Филипп IV готов заключить договор с французской знатью.
Но еще до прихода этого письма Шале мог заподозрить неладное и бежать. Король решил отправиться в путешествие в Бретань; двор последовал за ним, а Шале последовал за двором. Будучи гардеробмейстром, он не мог покинуть короля. Людовик XIII, видевший его при своем подъеме с постели и отходе ко сну, был уверен, что Шале будет у него под рукой, когда он пожелает арестовать его.
Наконец письмо его католического величества прибыло.
Получив это письмо, Шале в тот же день имел долгую беседу с королевой и герцогом Анжуйским; кроме того, до двух часов ночи он оставался у г-жи де Шеврёз.
На следующий день он был арестован.
Заговор созрел!
Шале открыл собой список фаворитов, которых Людовик отдавал одного за другим своему министру, а министр – палачу.
Людовик XIII очень любил Шале; но однажды, когда, исполняя свою должность гардеробмейстера, Шале подавал королю рубашку, он позволил себе развлечься, передразнивая какую-то из дурных привычек его величества. К несчастью, Людовик XIII надевал рубашку, стоя перед зеркалом, и он увидел в этом зеркале, как Шале намехается над ним.
Кроме того, Шале не раз высмеивал короля по поводу холодности его темперамента и его физической слабости; эти насмешки, которые были всего лишь обидами, превратились в преступления, когда Шале был обвинен кардиналом. Что же это было за обвинение, или, по крайней мере, что же просочилось наружу?
Шале обвиняли в том, что он соумышленно с королевой и герцогом Анжуйским намеревался убить короля.
Каким образом?
Одни говорили, что он собирался сделать это с помощью отравленной рубашки; другие утверждали, что он должен был попросту ударить его кинжалом; были и такие, кто пошел еще дальше: они рассказывали, что однажды ночью Шале уже отдернул занавеску кровати, чтобы совершить это убийство, но отступил перед королевским величием, как ни умерено оно было сном, и нож выпал у него из рук.
Что касается этого последнего обвинения, то оно рушится само собой, когда принимается во внимание простая статья французского придворного церемониала:
«Гардеробмейстер не находится в спальне короля, когда король спит, а камердинер не покидает спальни короля во все время, когда король лежит в постели».
Значит, если такая попытка и вправду имела место и события развивались так, как об этом рассказывали, то камердинер должен был находиться в сговоре с Шале или же Шале покушался на убийство, когда камердинер спал.
Как мы уже говорили, кардинал держал заговор в своих руках и умело направлял его. Королева впала в полную немилость; герцог Анжуйский, дабы избежать предания суду за пособничество, был вынужден жениться на мадемуазель де Монпансье; наконец, Шале был приговорили к пыткам, как обычным, так и с пристрастием, к отсечению головы и к четвертованию тела!
За несколько дней до того, как этот приговор был вынесен, в Нант приехала мать Шале; это была одна из тех женщин, благородных по рождению и наделенных благородным сердцем, каких по временам можно увидеть в вуали и в трауре на ступенях истории прошлых веков. Поскольку никаких сомнений в отношении приговора не было, она сделала все возможное, чтобы получить доступ к королю; но, согласно приказам короля, он не принимал никого, кроме кардинала.
Когда приговор был оглашен, г-жа де Шале предприняла новую попытку пробиться к королю, но все было тщетно.
Однако она так просила и умоляла, что, наконец, ей дали обещание вручить королю письмо, которое она принесла. Король получил ее письмо, прочитал его и велел передать ей, что он ответит в течение дня.
Это письмо, которое мне не удалось обнаружить ни в одном историческом сочинении, даже в удостоенном награды историческом труде г-на Базена, заслуживает того, чтобы его знали; и потому, даже рискуя не получить премию в десять тысяч франков за проявление внимания к такого рода подробностям, мы даем нашим читателям возможность ознакомиться с ним:
«Государь!
Я признаю, что тот, кто оскорбил Вас, заслуживает мук не только на этом свете, но и в иной жизни, ибо Вы есть образ Божий. Однако, когда Господь обещает прощение тем, кто просит о нем с истинным раскаянием, он тем самым научает королей, как им следует поступать. Но если слезы способны изменить приговор Небес, то неужели у моих слез, государь, недостанет сил пробудить в Вас жалость? Право творить суд есть куда менее важное следствие власти короля, чем право проявлять милосердие: наказывать не столь похвально, как прощать. Сколько на этом свете живет людей, которые постыдно лежали бы под землей, не помилуй их Ваше Величество!
Государь, Вы король, отец и повелитель этого несчастного узника: может ли он быть зловреден более, чем Вы добры, и виновен более, чем Вы милосердны? Разве не надеяться на Ваше великодушие не значит оскорблять Вас?Лучшим примером для людей добрых служит сострадание; злые люди, видя казнь другого человека, становятся лишь хитрее, а не лучше. Государь, стоя на коленях, я прошу Вас сохранить жизнь моему сыну и не допустить, чтобы тот, кого я вскормила для службы Вам, умер из-за службы другому; чтобы тот ребенок, которого я так любовно взрастила, стал причиной скорби тех недолгих дней, что мне остались, и, наконец, чтобы тот, кого я произвела на свет, свел меня в могилу. Увы, государь, почему не умер он при рождении или от раны, полученной им при Сен-Жане, или подвергаясь какой-нибудь иной опасности из числа тех, что подстерегали его, когда он служил Вам в Монтобане, в Монпелье и других местах, или даже от руки того, кто причинил нам столько огорчений? Сжальтесь над ним, государь: из-за его прошлой неблагодарности Ваше милосердие станет еще более достойным уважения. Я отдала его Вам, когда ему было восемь лет; он внук маршала Монлюка, а через жену – внук президента Жаннена. Его близкие, которые служат Вам ежечасно, не смеют, опасаясь разгневать Вас, броситься к Вашим ногам, чтобы смиренно и почтительно, со слезами на глазах, вместе со мною просить Вас сохранить этому несчастному жизнь, которую он должен будет закончить либо в вечном заточении, либо в заграничной армии, находясь на Вашей службе. Таким образом Ваше Величество сможет избавить его близких от позора и от потери, удовлетворить правосудие и одновременно проявить милосердие, заставляя все более и более восхвалять Ваше мягкосердечие и вечно молить Бога о здоровье и преуспеянии Вашей царственной особы всех нас, а в особенности меня, Вашей покорнейшей служанки и подданной
ДЕ МОНЛЮК».
Желаете знать, как Людовик XIII, бессердечный и бесчувственный король, ответил на этот несравненный образец материнского красноречия? Правда, его ответ, по всей вероятности, был продиктован кардиналом.
«Госпоже де Шале-матери,
Господь, никогда не совершающий ошибок, впал бы в великое заблуждение, если бы, установив своими законами вечное пребывание в муках для виновных, миловал бы всех тех, кто просит прощения. Тогда добрые и добродетельные не имели бы никакого преимущества перед злыми, у которых всегда достанет слез, чтобы изменить приговор Небес, Я признаю это, и такое признание заставило бы меня весьма охотно простить Вас, если бы Бог, даровавший мне особую милость, избрав меня здесь, на земле, своим истинным образом, присовокупил бы к этому еще один дар, который он приберегает лишь для себя самого, – способность распознавать сущность людей; ибо тогда, благодаря истинному знанию, которое мне дано было бы черпать из этого божественного дара, я обрушил бы на голову Вашего сына карающие молнии моего правосудия, либо отвел их назад, как только мне стало бы ясно, истинно или мнимо его раскаяние, вследствие которого, однако, Вы и теперь, хоть я и не могу принять безошибочного решения, могли бы добиться от меня милосердного помилования, если бы это оскорбление касалось лишь меня одного; ибо знайте, что я вовсе не жестокий и суровый король и что объятия моего милосердия всегда открыты, дабы принять тех, кто с истинным сокрушением о совершенном им проступке смиренно приходит ко мне просить прощения.
Но, когда я бросаю взгляд на многие миллионы полагающихся на мою заботливость людей, для которых я являюсь надежным пастырем и которых Бог дал мне охранять, словно доброму отцу семейства, обязанному печься о них, как о собственных детях, и также руководить ими, дабы по окончании земной жизни дать ему в этом отчет, и тем самым достаточно показываю Вам, что право творить суд есть куда менее важное следствие власти, чем право проявлять милосердие и сострадание к моим верным подданным и преданным слугам, которые уповают на мою доброту, мне хочется спасти их от угрожающей им гибели справедливым наказанием одного, ибо ничего нет вернее того, что порой строго наказать одного есть милость для многих. И если я соглашусь с Вами, что многие из живущих доныне людей постыдно лежали бы под землей, не получи они моего прощения, то и Вы согласитесь, что, поскольку их прегрешения не идут ни в какое сравнение с гнусным преступлением Вашего сына, эти люди заслуживали моего милосердия. И в самом деле, в истинности сказанного мною Вы можете убедиться на примере других, которые совершили подобное преступление и были уличены в нем, а теперь, справедливо наказанные, гниют в земле, между тем как если бы они уцелели после своих нечестивых и отвратительных деяний, то корона, венчающая мою голову, стала бы ныне прискорбной причиной невзгод для тех, кто привык видеть священные лилии цветущими даже среди смут и беспорядков; и эта могущественная монархия, так хорошо и так успешно управлявшаяся и сохранявшаяся королями, моими предшественниками, была бы растерзана и разорвана на части узурпаторами. Так что не считайте меня жестокосерднее искусного хирурга, вынужденного иногда отсечь какой-нибудь зараженный и гниющий член, дабы обезопасить другие части тела, которые без этого сострадательного отсечения стали бы пищей червей; и будьте уверены, что если и есть несколько злых людей, становящихся при этом лишь хитрее, то есть также и много тех, кто исправляется под страхом наказания.
Встаньте же с колен и не просите более сохранить жизнь человеку, желавшему отнять ее у того, кто, по Вашим собственным словам, является его добрым отцом и повелителем, и у Франции, его матери и кормилицы. Это соображение, кузина, лишает меня веры в то, что Вы вскармливали и воспитывали его для службы мне, ибо пища, которую Вы давали ему, оказала на его нрав такое пагубное и варварское воздействие, что зародило у него желание совершить столь неслыханное отцеубийство! И потому я предпочитаю теперь видеть скорбь тех недолгих дней, что Вам осталось жить, чем недостойно вознаградить его измену и вероломство гибелью моей собственной особы и всего моего народа, оказывающего мне полное и безусловное повиновение; я признаю справедливыми Ваши сожаления о том, что он не умер в Сен-Жане, Монтобане или других местах, которые он старался сохранить не для своего законного государя, а для врагов моего достояния, не для спокойствия моего народа, а для того, чтобы возмутить его. Тем не менее, если это правда, что нет худа без добра, я должен возблагодарить Небо за возможность обезопасить все мое государство таким заметным примером, ибо он послужит зеркалом для тех, кто живет ныне, и для потомства, научая, как должно любить своего короля и преданно служить ему, и пусть он будет страхом для многих других, которым безнаказанность этого преступления придала бы еще больше дерзости совершить нечто подобное.
Вот почему Вы тщетно будете впредь взывать к моей жалости, хотя у меня ее больше, чем это можно выразить словами, и я желал бы, чтобы данное преступление касалось лишь меня одного, ибо тогда Вы скоро получили бы прощение, о котором просите; однако Вам известно, что короли, будучи публичными особами, от которых полностью зависит спокойствие государства, не должны позволять ничего, что можно было бы поставить в упрек их памяти, и обязаны быть истинными защитниками правосудия.
И потому, пребывая в королевском сане, я не должен допускать ничего, в чем могли бы упрекнуть меня мои верные подданные, а кроме того, я страшился бы, что Господь, который, царствуя над королями, подобно тому как короли царствуют над народами, всегда покровительствует добрым и святым делам и строго наказывает несправедливость, однажды потребует у меня, с угрозой для моей вечной жизни, дать отчет за несправедливое дарование земной жизни тому, кто не мог надеяться получить от моего милосердия других обещаний, кроме тех, что я даю вам обоим, лишь приняв во внимание слезы, которые Вы проливаете передо мною: я изменю приговор моего суда, смягчив строгость казни; кроме того, я обещаю помочь Вам своими благочестивыми молитвами, которые я вознесу к Богу, дабы он соблаговолил быть настолько же сострадателен и милосерден по отношению к душе Вашего сына, насколько тот был жесток и безжалостен по отношению к своему государю, и дабы он ниспослал Вам терпения в Вашей скорби, какого Вам желает Ваш добрый король.
ЛЮДОВИК».
Оставался еще кардинал.
Однако г-жа де Шале даже не подумала о нем; она предпочла обратиться к палачам. Мы говорим «к палачам», так как в это время в Нанте их было два: один приехал вслед за королем и звался придворным палачом, другой пребывал в Нанте и звался городским палачом.
Несчастная мать собрала все золото и все драгоценности, какие у нее были, дождалась темноты и неожиданно явилась к одному и другому палачу.
Казнь должна была состояться не ранее следующего дня.
Да будет нам позволено позаимствовать нижеследующие подробности из нашей «Истории Людовика XIV»; мы можем поручиться, что новые изыскания не принесут нам ничего нового.
«Шале отказался от всех признаний, сделанных им кардиналу, и заявил, что они были продиктованы его высокопреосвященством, обещавшим ему помилование; в конце концов он потребовал очной ставки с Лувиньи, единственным его обвинителем.
Это была та малость, на которую он был вправе рассчитывать, и ответить ему отказом не сочли возможным.
Так что в семь часов Лувиньи был доставлен в тюрьму и поставлен лицом к лицу с Шале. Лувиньи был бледен и дрожал; Шале был тверд, как человек, у которого спокойна совесть. Именем Бога, перед которым он вот-вот должен был предстать, Шале заклинал Лувиньи заявить, доверял ли когда-либо он, Шале, ему хоть малейшую тайну, касающуюся убийства короля и брака королевы с герцогом Анжуйским. Лувиньи смутился и, несмотря на свои предыдущие показания, признался, что не слышал ничего такого из уст Шале.
– Но как же тогда, – спросил его хранитель печати, – вам удалось узнать о заговоре?
– Будучи на охоте, – ответил Лувиньи, – я услышал, как какие-то совершенно незнакомые мне люди, одетые в серое платье, говорили за кустами нескольким придворным вельможам то, о чем я доложил господину кардиналу.
Шале презрительно улыбнулся и, повернувшись к хранителю печати, произнес:
– Теперь, сударь, я готов умереть.
А затем, понизив голос, прошептал:
– О предатель кардинал! Это ты поставил меня в то положение, в каком я теперь нахожусь!
И правда, час казни близился; тем не менее одно странное обстоятельство заставляло думать, что она не состоится: придворный и городской палачи исчезли оба, и с самого рассвета их тщетно искали.
Вначале все думали, что это хитрость, пущенная в ход кардиналом, чтобы дать Шале отсрочку, во время которой для него добьются смягчения наказания; однако вскоре разнесся слух, что нашелся новый палач и что казнь всего лишь задержится на час или два. Этот новый палач был приговоренный к повешению солдат, которому было обещано помилование, если он согласится казнить Шале.
Как нетрудно понять, солдат, при всей своей неподготовленности к такой работе, согласился.
Так что в десять часов все было готово к казни. Секретарь суда пришел предупредить Шале, что ему осталось жить лишь несколько минут. Тяжело, когда ты молод, богат, красив и являешься потомком одной из самых знатных семей Франции, умирать из-за такой жалкой интриги, став жертвой подобного предательства; и потому при известии о своей скорой смерти Шале на мгновение охватило отчаяние.
И в самом деле, несчастного молодого человека, казалось, покинули все. Королева, и сама страшно скомпрометированная, не могла решиться ни на один шаг в его пользу; герцог Анжуйский удалился в Шатобриан и не давал ничего знать о себе; г-жа де Шеврёз, предприняв все, что подсказал ей ее беспокойный ум, укрылась у принца де Гемене, чтобы не видеть гнусное зрелище смерти своего любовника.
И потому Шале решил, что ему не стоит больше ждать помощи ни от кого на свете, как вдруг он увидел свою мать, о присутствии которой в Нанте он и не подозревал и которая, не сумев спасти сына, пришла помочь ему умереть.
Госпожа де Шале, как мы уже говорили, была одной из тех благородных натур, какие исполнены одновременно самоотверженности и покорности судьбе; она сделала все, что в человеческих силах, чтобы оспорить у смерти своего сына; теперь ей следовало сопровождать его до эшафота и поддерживать до последней минуты. И с этой целью, добившись разрешения сопровождать осужденного, она явилась к нему.
Шале бросился в объятия матери и разрыдался; но, почерпнув мужество в этой материнской силе, он поднял голову, отер слезы и произнес:
– Я готов!
Он вышел из тюрьмы. У ворот ждал солдат, которому для выполнения его страшной обязанности дали первый попавшийся меч: это был меч швейцарского гвардейца.
Траурная процессия двинулась к городской площади, где был возведен эшафот. Шале шагал между священником и матерью.
Все кругом оплакивали этого красивого, богато одетого молодого человека, которого вот-вот должны были казнить, но столько же слез было пролито и из-за этой благородной вдовы, еще облаченной в траур по мужу и сопровождавшей своего единственного сына на смерть.
Подойдя к подножию эшафота, она поднялась по его ступеням вместе с осужденным.
Шале опирался на ее плечо; духовник шел позади них.
Солдат был бледнее, чем приговоренный, и дрожал сильнее его.
Шале в последний раз обнял мать и, став на колени перед плахой, произнес короткую молитву. Мать опустилась подле него на колени и присоединила к его молитве свою.
Мгновение спустя Шале повернулся в сторону солдата и сказал:
– Бей! Я жду.
Солдат, весь дрожа, поднял меч и ударил.
Шале испустил стон, но поднял голову; он был всего лишь ранен в плечо: неопытный палач нанес удар слишком низко.
Все увидели, как Шале, обагренный кровью, обменялся несколькими словами с солдатом, в то время как мать поднялась с колен и подошла к сыну, чтобы обнять его.
Затем он снова положил голову на плаху, и солдат ударил во второй раз.
Шале снова закричал: и на этот раз он был всего лишь ранен.
– К черту этот меч! – воскликнул солдат. – Он чересчур легкий, и, если мне не дадут что-нибудь другое, я никогда не доведу это дело до конца.