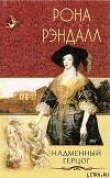Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 55 страниц)
И с этими словами он отбросил меч в сторону.
Шале на коленях дополз до своей матери и склонил к ней на грудь свою окровавленную и изувеченную голову.
Солдату принесли бочарный топор; но не оружие подвело палача: ему изменила его собственная рука.
Шале вновь занял свое место.
Зрители этой ужасной сцены насчитали тридцать два удара. На двадцатом осужденный еще издал возглас:
– Иисус! Мария!
Затем, когда все было кончено, г-жа де Шале выпрямилась, воздела к небу обе руки и произнесла:
– Благодарю тебя, Боже! Я полагала быть всего лишь матерью осужденного, а оказалась матерью мученика!
Она попросила отдать ей останки сына, и ей их передали. Временами кардинал был исполнен милосердия.
Госпожа де Шеврёз получила приказ оставаться в Ле-Верже, где она находилась.
Гастон узнал о смерти Шале, сидя за игорным столом, и тотчас продолжил партию.
Королева явилась по требованию короля в совет, где ей было велено сесть на табурет. Там ей предъявили показания Лувиньи и признания Шале. Ее обвинили в желании убить короля, чтобы выйти замуж за герцога Анжуйского.
До этой минуты королева хранила молчание; но, услышав такое обвинение, она встала и ограничилась тем, что с одной их тех презрительных улыбок, какие были столь присущи этой красавице-испанке, ответила:
– Я не так уж много выиграла бы от подобной замены.
Этот ответ окончательно оттолкнул от нее короля, до последней минуты жизни верившего, что Шале, герцог Анжуйский и королева замышляли убить его.
Лувиньи не стал заходить дальше в своих бесстыдных обвинениях: год спустя он был убит на дуэли.
Что же касается Рошфора, то он имел дерзость вернуться в Брюссель и даже после казни г-на де Шале оставался в своем монастыре, причем никто не знал о его причастности к смерти этого несчастного молодого человека. Но однажды, повернув за угол какой-то улицы, он столкнулся с конюшим графа де Шале и едва успел опустить себе на лицо капюшон; однако, несмотря на эту предосторожность, он из опасения быть узнанным тотчас же покинул город. И правильно сделал, ибо сразу после его исчезновения ворота были заперты, затем начались розыски, и монастырь был обыскан.
Но было уже слишком поздно: Рошфор, снова обратясь в кавалера, во весь дух мчался по дороге на Париж; он возвратился к его высокопреосвященству, радуясь успеху возложенного на него поручения, которое, по его представлению, он достойно выполнил.
Вот что такое совесть!»
XII
В разгар неожиданных поворотов этой кровавой драмы у короля появился новый фаворит: им стал молодой человек по имени Франсуа де Баррада.
Откуда взялся этот нежданно-негаданно появившийся фаворит? Выяснить это затруднительно: авторы биографических словарей не сочли его имя достойным того, чтобы оно было вписано на страницы их сочинений, а в мемуарах частных лиц о нем говорится крайне мало.
Правда, по прошествии времени он нечестивцем уже больше не был.
Таллеман де Рео говорит о нем кратко, но вполне определенно:
«Король страстно любил Баррада, и его обвиняли в том, что он предавался с ним всяческим мерзостям».
Раздор между Баррада и королем начался из-за того, что молодой человек влюбился в фрейлину королевы, звавшуюся Прекрасной Крессиа, и захотел жениться на ней; король не дал на это согласия.
При таком умонастроении короля понадобилось совсем немного для того, чтобы погубить фаворита.
Позволим рассказать о том, что его погубило, Менажу: в этом деле есть некоторые подробности, которые я предпочитаю сообщить посредством цитирования.
«Однажды, когда король охотился, с его головы упала шляпа и, покатившись, попала прямо под брюхо лошади Баррада, а поскольку как раз в эту самую минуту лошади вздумалось мочиться, то она совершенно испортила шляпу короля, настолько сильно разгневавшегося на хозяина лошади, как если бы тот сделал это нарочно. Упомянутое происшествие, которое заставило бы рассмеяться любого другого, было крайне болезненно воспринято королем, и с этого времени он перестал любить Баррада».
Кардинал воспользовался этим обстоятельством. Баррада был несколько запятнан участием в деле Шале; кардинал обратился к королю с требованием дать отставку трем мелким офицерам из его свиты, которые нагло злоупотребляли доверием к ним государя.
Король уволил трех своих слуг, двое из которых, будучи замешаны в убийстве маршала д’Анкра, были совершенно уверены в благосклонности к ним короля.
Баррада оказался в числе тех, кто попал в немилость, но, не успев злоупотребить своим положением фаворита, отделался ссылкой. Продлись его фавор еще полгода, он наверняка лишился бы головы.
Затем, поскольку королю непременно нужно было кого-нибудь любить, он привязался к молодому человеку по имени Сен-Симон.
Правда, тот обладал положительными качествами, вполне оправдывавшими привязанность к нему короля: он всегда доставлял достоверные новости, связанные с охотой, не чересчур горячил лошадей и, трубя в рог, не напускал в него слюну.
Откройте все мемуары того времени, дорогие читатели, и поищите другие причины огромного успеха, которого добился этот молодой человек; бьюсь об заклад, что вы не найдете их.
И потому 19 декабря 1626 года Малерб пишет своему другу Пейреску:
«Вам уже известно об отставке, данной Баррада; теперь его место занял сьер Симон, паж той же самой конюшни. В прошлую среду король представил его королеве-матери: это молодой человек лет восемнадцати. Дурное поведение предшественника послужит ему уроком, а его падение побудит действовать разумнее. Я слышал от госпожи принцессы де Конти, как она сама видела, что однажды король, находясь в покоях королевы и выказывая Баррада ласку, брызнул ему в лицо несколько капель померанцевой воды; Баррада пришел от этого в такую ярость, что он подскочил к королю, вырвал у него из рук склянку с этой водой ...и разбил ее у своих ног. Человек, который хотел бы умереть в фаворе, так не поступает».
Более всех усердствовал в устранении несчастного Баррада г-н де Шавиньи.
Господин де Шавиньи считался сыном кардинала.
Однажды, присутствуя на собрании у короля, где речь шла о том, чтобы ниспровергнуть г-на де Ришелье и заключить его в Бастилию, Шавиньи проголосовал так же, как и все.
– Tu quoque, fili![63] – воскликнул король.
Неприязнь Шавиньи к Баррада проистекала из того, что тот не поклонился ему, после того как Шавиньи при встрече с ним позволил себе какую-то неучтивость. Когда король увидел приказ, предписывавший Баррада отправиться в отдаленную провинцию, он покачал головой и произнес:
– Я его знаю, он не поедет.
Баррада и в самом деле долго противился, заявляя, что он никуда не поедет, пока не увидит короля; но в конце концов ему пришлось подчиниться силе.
Позднее, когда Людовик XIII осаждал Корби, Баррада сумел воспользоваться благоприятным моментом и вновь встретился с королем. И тогда, по-прежнему исполненный ненависти к Ришелье, он предложил арестовать кардинала, испрашивая для этого всего лишь пятьсот конников, голубую орденскую ленту и жезл капитана гвардии; если эти условия будут приняты, он подстережет его высокопреосвященство в горном проходе, и, по его утверждению, кардинал, внезапно оказавшись лицом к лицу с человеком, которого он полагал находящимся в ссылке и которого, как ему было известно, все еще любит король, растеряется и позволит отвезти себя куда угодно.
Это предложение Баррада сделал графу Суассонскому.
– Хорошо, сударь, – сказал граф, – я поговорю об этом с господином герцогом Анжуйским.
– О господин граф, – ответил Баррада, – не надо! Я желаю иметь дело лишь с честными людьми.
Впрочем, все это немного развлекало бедного короля, умиравшего со скуки. Одна из бед Людовика XIII с его неполноценным душевным складом состояла в том, что он постоянно скучал. Вот почему не было такой дурацкой выдумки, которой он ни испробовал, чтобы развлечься; король обучился всякого рода ремеслам, помимо тех, что касаются охоты: он умел делать кожаные пушки, изготавливать силки и сети, чеканить монету. Он был хорошим кулинаром, в надлежащее время варил варенья, выращивал зеленый горошек и посылал продавать его на рынке; наконец, он стал учиться шпиговать.
Все то время, пока король был охвачен этой причудой, можно было наблюдать, как в дворцовые покои является придворный повар Жорж с серебряными шпиговальными иглами и превосходными кусками телячьей корейки.
Как-то раз члены королевского совета попросили доложить королю, что все они в сборе.
– Сегодня совещания не будет, – сообщил придверник, – его величество шпигует.
Он отлично брил, не хуже самого лучшего брадобрея. Однажды ему пришла в голову мысль сбрить всем своим офицерам бороду, оставив у них на подбородке лишь маленький клочок волос, и потому такое украшение лица стало называться королевским.
Об этой причуде короля сочинили песенку, которая называлась так:
«Песня про то, как король самолично брил бороды всем своим офицерам и придворным или приказывал брить их в своем присутствии, не оставляя им ничего, кроме пучка волос под нижней губой».
Вот эта песенка; как можно убедиться, она не такая уж злая:
– О борода моя, о горе!
Кто сбрил тебя, сказать изволь?
– Людовик, наш король:
Он бросил вкруг себя орлиный взор
И весь обезбородил двор.
– Ла Форс, а ну-ка покажитесь:
Сбрить бороду вам тоже след.
– Нет, государь, о нет!
Солдаты ваши, точно от огня,
Сбегут от безбородого меня.
Оставим клинышек-бородку
Кузену Ришелье, друзья,
Нам сбрить ее никак нельзя:
Где, к черту, смельчака такого я возьму,
Что с бритвой подойдет к нему?[64]
Мы привели эту песенку не ради самой песенки, а как вещественное доказательство.
Выше уже говорилось, что Людовик XIII был довольно хорошим музыкантом и даже композитором. Когда умер кардинал, король, испытывая потребность сочинить в связи с этим событием мелодию, взял за основу написанное по этому случаю рондо, которое начиналось словами:
Он наконец от нас ушел, убрался восвояси ...
Автором рондо был Мирон, чиновник Счетной палаты.
Последним ремеслом короля стало изготовление оконных рам; пристрастие к такого рода занятиям он питал с самой юности, ибо, рассказывая о событиях, относящихся к 1618 году, Бассомпьер говорит:
«В то время король, который был еще очень юн, развлекал себя множеством занятий, свойственных его возрасту: он рисовал, пел, делал из перьевых трубочек модели фонтанов Сен-Жермена, мастерил небольшие охотничьи снасти и играл на барабане, что ему чрезвычайно удавалось».
Ему сочинили эпитафию, заканчивавшуюся словами:
Имел лакейских добродетелей он тьму,
Но королевских Бог, увы, не дал ему.
«Тем не менее, — говорит Таллеман де Рео, – в нем находили одну королевскую добродетель, если только притворство является добродетелью. Накануне ареста герцога Вандомского и его брата он всячески обласкал их, а на другой день поинтересовался у г-на де Лианкура:
– Могли вы когда-нибудь вообразить такое?
– Нет, государь, я не мог вообразить этого: вы слишком хорошо играли свою роль».
Карл IX на другой день после Варфоломеевской ночи тоже спрашивал свою мать: «Ну и как по-вашему, сударыня, удалась мне моя маленькая роль?»
Но, несмотря на все эти развлечения, которые придумывал себе король, он все равно продолжал скучать. Когда же скука его становилась особенно сильной, он избирал того, к кому испытывал в это время наибольшую симпатию, брал его за руку и говорил:
– Встанем у окна, сударь, и поскучаем вместе.
Король и тогда скучал, но немного меньше, поскольку кто-то разделял с ним скуку.
Ну а теперь, хотите знать, что стало с врагами кардинала спустя год после заговора Шале?
Шале, как мы видели, был казнен; маршал д'Орнано умер в донжоне Венсенского замка; великий приор и его брат пребывали там же в заключении; г-жа де Шеврёз была сослана в Лотарингию; граф Суассонский укрылся в Италии, и, наконец, герцог Анжуйский женился и в качестве свадебного подарка получил от короля земельных владений на миллион; его жена принесла ему четыреста тысяч ливров годового дохода, и вследствие этого брачного союза он стал носить титулы принца Домба и Ла-Рош-сюр-Йона, герцога Орлеанского, Шартрского, Монпансье и Шательро, графа Блуа и сеньора Монтаржи. Однако все эти титулы были вписаны в брачный контракт кровью Шале!
Что же касается принца Генриха де Конде, то его лет за пять до этого заключили в Венсенский замок, и он так никогда и не оправился от этого поражения. Правда, за три года своего заключения он сблизился со своей женой, и следствием этого сближения стало появление на свет двух детей: Анны Женевьевы де Бурбон, ставшей позднее известной под именем герцогини де Лонгвиль, и Луи II де Бурбона, именовавшегося впоследствии Великим Конде.
Так что никто из них не вызывал уже опасений у кардинала; но, пока он принижал внутренних врагов, возвысился внешний враг: этим врагом был герцог Бекингем.
Бекингем, счастливый влюбленный, покинул Францию, не утратив надежды стать счастливым любовником; он сохранил связь с г-жой де Шеврёз, и через нее ему было известно, что он по-прежнему занимает главное место в сердце Анны Австрийской.
И потому он через посредство короля Карла I беспрерывно добивался разрешения отправиться в Париж послом; однако Людовик XIII, а вернее, кардинал, отказывал в этом разрешении с тем же упорством, с каким его просили.
В свое время Бекингем сказал королеве: «Если я не смогу вернуться во Францию другом, я вернусь сюда врагом и увижу вас снова, даже если для этого мне придется перевернуть вверх дном весь мир!»
Для Бекингема настало время исполнить свое обещание; предлогом для него послужила Ла-Рошель.
Но, перед тем как принять такое крайнее решение, он исчерпал все другие средства.
Во-первых, он породил дрязги между Карлом I и Генриеттой Французской, подобные тем, какие Ришелье порождал между Людовиком XIII и Анной Австрийской.
Затем в один прекрасный день он приказал отослать обратно всю французскую свиту королевы, подобно тому как однажды Людовик XIII отослал обратно всю испанскую свиту инфанты, и сделано это было столь грубо, что со своими соотечественниками Генриетте Французской пришлось попрощаться с высоты того самого окна Уайтхолла, через которое двадцать два года спустя вышел Карл I, чтобы подняться на эшафот.
Оскорбление было тяжким; Испания предложила присоединиться в случае войны к Франции; однако Ришелье счел произошедшее чересчур мелким поводом для того, чтобы два королевства вступили в ссору. И потому он ограничился тем, что 27 сентября 1626 года отправил в Лондон маршала де Бассомпьера, дабы на основе взаимной договоренности добиться удовлетворения за нанесенную королеве обиду.
Посольство кое-как примирило супругов, не сумев, однако, устранить рознь в делах любви и политики.
Маршал привез обратно в Англию исповедника королевы. Вначале его хотели отправить назад во Францию; однако Бассомпьер проявил твердость и сумел не только восстановить в правах исповедника и викария дворцовой часовни королевы, но еще и вынудил английскую сторону принять французского епископа и десятерых французских священников из немонашествующего духовенства. Кроме того, было оговорено число слуг, которых Генриетта Французская могла набирать из своей страны.
После чего были устроены грандиозные празднества, которые никого не ввели в заблуждение, и граф де Бассомпьер с великолепными подарками вернулся во Францию, привезя с собой – подобно Дюкену, которому позднее предстояло сделать нечто подобное по возвращении из Алжира, – семьдесят английских католических священников, по его просьбе выпущенных из тюрьмы.
И тогда Бекингем, видя, что две его первые попытки разорвать отношения между Англией и Францией оказались несостоятельными, побудил английского короля встать на сторону французских протестантов и предоставить им помощь; одновременно он приказал тайком передать жителям Ла-Рошели, подвергавшейся опасности со стороны Ришелье, что они могут обращаться прямо к нему, Бекингему.
Жители Ла-Рошели поспешили воспользоваться этим советом: они отправили к Бекингему герцога де Субиза и графа де Бранкаса; и тогда фаворит, давая им больше того, что они просили, вывел из портов Великобритании флот из сотни парусников и, ринувшись с ними на остров Ре, захватил его.
Одна лишь цитадель продолжала сопротивляться; ее обороняли граф де Туара и две сотни французов: эта горстка храбрецов противостояла двадцати тысячам англичан!
На этот раз у Франции не было никакой возможности отказаться от военных действий: перчатка ей была брошена, причем на ее собственной территории.
Бекингем, располагавший силами всей Англии, рассчитывал объединить против Франции еще и Испанию, уязвленную отказом от союза с ней, Империю и Лотарингию.
Франция, какой бы могущественной они ни стала трудами Генриха IV и стараниями Ришелье, не смогла бы устоять против такой коалиции и была бы вынуждена покориться.
И тогда Бекингем явился бы как посредник для ведения переговоров; мир Франции был бы дарован, но одним из условий мирного договора стало бы возвращение Бекингема в Париж послом.
Так что Европе предстояло всколыхнуться, а Франции – быть преданной мечу и огню из-за любви Анны Австрийской и Бекингема!
О великие секреты, тщательно упрятанные в хранилища тайн истории, сколь же ничтожными вы оказываетесь, когда рука летописца срывает с вас покровы и нагими являет людским взглядам! Какую превосходную книгу можно было бы написать о подлинных причинах войн, обагривших кровью мир со времен Троянской войны и кончая Семилетней войной! И сколь чудовищна статистика мертвых, оставшихся на полях сражений в Азии, Европе, Африке и Индии из-за любовных страстей королев и честолюбивых стремлений королей!
Кинжал Фелтона положил конец замыслу Бекингема.
Двадцать четвертого августа 1628 года известие о том, что что лорд Бекингем убит, вылетело из Портсмута и обрушилось на Европу.
За три дня до этого в Портсмуте вспыхнул мятеж; народ, утверждавший, и не без основания, что все его беды идут от Бекингема, вышиб двери его дворца и убил его врача.
На следующий день на всех улицах Лондона было расклеено следующее воззвание:
«КТО ПРАВИТ КОРОЛЕВСТВОМ? КОРОЛЬ.
КТО ПРАВИТ КОРОЛЕМ? ГЕРЦОГ.
КТО ПРАВИТ ГЕРЦОГОМ? ДЬЯВОЛ!
ПУСТЬ ЖЕ ГЕРЦОГ ПООСТЕРЕЖЕТСЯ, ИБО ЕМУ ГРОЗИТ СУДЬБА ЕГО ДОКТОРА!»
Бекингем привык к такого рода угрозам, и на эту даже не обратил внимания.
Однако 23 августа 1628 года, в ту минуту, когда после аудиенции, данной им в доме, где он жил в Портсмуте, герцогу де Субизу и посланцам Ла-Рошели, Бекингем вышел из своей комнаты и обернулся, чтобы сказать что-то герцогу де Фриасу, он внезапно почувствовал сильную боль в левом боку, поднес к нему руку и нащупал рукоятку ножа, торчавшего из раны.
В то же мгновение, заметив убегавшего человека, он воскликнул:
– Ах, негодяй! Он убил меня!
С этими словами герцог упал на руки тех, кто его сопровождал, что-то невнятно прошептал – вероятно, простился со своими любовными грезами – и испустил дух.
Возле герцога, на полу, валялась шляпа; кто-то из присутствующих поднял ее и обнаружил в ней бумагу, на которой были написаны следующие слова:
«Герцог Бекингем был врагом королевства, и потому я убил его».
И тогда присутствующие кинулись к окнам, крича:
– Лорда-герцога убили! Держите убийцу! У него голова непокрыта ...
Дамьена задержали по прямо противоположному признаку: нанеся удар Людовику XV, он не снял с головы шляпу; он был плохо знаком с этикетом и не знал, что, закалывая кинжалом королей, полагается делать это, обнажив голову.
Вернемся, однако, к убийце Бекингема. Он почти не предпринял никаких попыток бежать и потому был легко задержан.
Когда на него кинулись с криком: «Вот убийца герцога!», он спокойно ответил: «Да, это я убил его!»
Это был ирландец по имени Джон Фелтон, изувер того же закала, что и Жак Клеман и Равальяк, а к тому же еще и честолюбец. Будучи лейтенантом английской армии, он дважды просил герцога дать ему чин капитана, и герцог дважды отказывал ему в этой просьбе.
Он умер, проявляя твердость фанатика и спокойствие мученика.
Офицер свиты королевы Англии доставил известие о гибели герцога во Францию.
– Это невозможно! – воскликнула Анна Австрийская, едва не лишившись чувств. – Я только что получила от него письмо!
Однако королеве пришлось поверить этому известию: оно было подтверждено ей королем Людовиком XIII, который сообщил ей о смерти герцога, выказывая всю желчность своего характера и не скрывая радости, которую доставило ему это событие. На глазах у королевы он приказал отсчитать тысячу экю посланцу, доставившему эту добрую весть.
Точно так же, как Людовик XIII не скрывал своей радости, Анна Австрийская не скрывала своего горя; она затворилась с теми, кто входил в ее ближайшее окружение, и там, в этом узком кругу, дала волю слезам.
И потому ее близкие, зная, сколь нежную память она хранила о красавце-герцоге, часто беседовали о нем с королевой, будучи уверены, что такая тема разговора, какой бы печальной она ни была, все еще оставалась самой приятной для царственной влюбленной.
Полистайте роман «Сен-Мар» нашего друга Альфреда де Виньи, и вы найдете там исполненную печали сцену, в которой королева, открыв богато украшенный ларец, видит перед собой портрет, усыпанный алмазами, и старый нож, изъеденный ржавчиной.
И вот однажды вечером, когда несчастная королева сидела, печальная и одинокая, словно обычная женщина, у себя в комнате и вела со своим любимым поэтом Вуатюром беседу о бедном герцоге, разговор мало-помалу затих, и поэт погрузился в глубокое раздумье.
Какое-то время королева молча смотрела на него, а затем, наконец, желая знать, чем он так всецело поглощен, спросила его:
– О чем вы думаете, Вуатюр?
И тогда, подняв голову и с грустью взглянув на королеву, он ответил ей:
Я думал: почести и славу
Дарует вам сегодня рок,
Вознаграждая вас по праву
За годы скорби и тревог,
Но, может быть, счастливой были
Вы в те года, когда его ...
Я не хотел сказать – любили,
Но рифма требует того ...
Я думал – ибо нам, поэтам,
Приходит странных мыслей рой, —
Когда бы вы в бесстрастье этом,
Вот здесь, сейчас, перед собой
Вдруг Бекингема увидали,
Кто из двоих бы в этот миг
Подвергнут вашей был опале:
Прекрасный лорд иль духовник?[65]
Духовником королевы был отец Венсан.
И знаете, в каком году Вуатюр сочинил это стихотворение? В 1644-м, то есть через шестнадцать лет после убийства, о котором мы только что рассказали. Шестнадцать лет хранить верность памяти мертвого – это слишком для какой угодно королевы.
Правда, эта королева была невероятно несчастна.
Воспользуемся тем, что из-под нашего пера неожиданно выплыло имя Вуатюра, и вернемся к разговору о литературе того времени.
К тому же Вуатюр, вполне естественно, распахнет перед нами двери дворца Рамбуйе, куда мы уже давно обещали ввести наших читателей.
Вуатюр был в то время модным поэтом. Он пребывал в большой милости в Лувре, а также, что, вероятно, было не столь важно для его благосостояния, но крайне важно для его славы, – в величайшей милости во дворце Рамбуйе.
Венсан Вуатюр родился в Амьене в 1598 году; так что в то время, к которому мы подошли, ему было чуть более тридцати лет. Он был сыном виноторговца; сам он этот факт отрицал, но, чем больше он это делал, тем больше его враги, а порой и его друзья намекали на его происхождение.
Однажды, когда он в присутствии г-жи де Лож, питавшей на него обиду из-за каких-то его разговоров о ней, стал рассказывать забавную историю, уже рассказанную им прежде, г-жа де Лож промолвила:
– Ах, господин Вуатюр, вы нам это уже рассказывали! Налейте-ка нам из другой бочки, если это вас не затруднит.
Вуатюр был страстным игроком; впрочем, этот недостаток он унаследовал от отца, считавшего себя лучшим игроком в пикет во Франции и давшего свое имя набору из шестидесяти шести очков, который образуют четыре карты одной масти; такие четыре карты называют квартом Вуатюра.
Госпожа де Лож славилась своим необычайным умом.
«Поскольку г-жа де Лож, — говорит Таллеман де Рео, – была первой особой своего пола, писавшей дельные письма, и к тому же умела поддерживать непринужденный разговор и обладала живым и приятным умом, она привлекала к себе большое внимание при дворе».
И потому Бальзак – тот, кого называли тогда великим Бальзаком, – писал ей:
«Господь вознес Вас как над Вашим полом, так и над нашим, и ничего не пожалел, чтобы довершить в Вашем лице свое творение. Вы вызываете восхищение у лучшей части Европы; по этому вопросу пребывают в согласии оба вероучения и католики не спорят с гугенотами. Папский нунций предъявил Вам нашу верительную грамоту, благоухающую похвалами и учтивостью, как это принято в Италии. Принцы являются Вашими придворными, а доктора богословия – Вашими учениками».
Совершенно удивительно, что имена людей, занимавших подобное место в тогдашнем обществе, которое, в сущности говоря, является прародителем нашего, едва известны сегодня; и потому нам следует извлечь их из небытия и сделать их известными: историки не снисходят до этого.
Так что давайте предпримем небольшую прогулку в связи г-жой де Лож, а затем вернемся к Вуатюру.
Герцог Анжуйский на заре своей юности – прелестное выражение той эпохи, которое заслуживает быть сохраненным, – так вот, герцог Анжуйский часто захаживал к г-же де Лож, а поскольку он нараспев говорил ей обо всем, на что ему хотелось пожаловаться, то его прозвали реполовом г-жи де Лож.
Когда был создан его собственный двор, то есть после его женитьбы, он подарил г-же де Лож пенсион в четыре тысяч ливров, выставив предлогом, что ее мужу не платят жалованье в две тысячи ливров, полагающееся ему как дворянину королевских покоев.
Это не было правдой, но вскоре так и получилось: усмотрев нечто подозрительное в той великой благосклонности, какой пользовалась у нового герцога Орлеанского г-жа де Лож, кардинал и в самом деле отменил выплату жалованья в две тысячи ливров ее мужу.
Три года спустя, в 1629 году, г-жа де Лож, предвидя, что в конце концов ее сошлют, как сослали г-жу де Шев– рёз, которая была куда более знатной дамой, чем она, удалилась в Лимузен, к г-ну д'Орадуру, своему зятю.
Она была дочерью славного уроженца Шампани, которого звали Брюно; этот достойный человек был весьма богат: он переехал в Париж, купил должность королевского секретаря и стал зваться г-ном де Брюно. Он имел двух дочерей; старшая вышла замуж за Беренгена, отца господина Первого – так именовали первого королевского камердинера; младшая, Мари де Брюно, стала позднее г-жой де Лож.
Мари де Брюно, если верить мемуарам того времени, все давалось необычайно легко: она могла писать в присутствии пяти или шести друзей, во весь голос болтавших рядом с ней, причем делала это с такой непринужденностью, как если бы была одна; кроме того, она сочиняла весьма замысловатые экспромты.
Как и все дамы того времени, она была довольно ветрена и в этом отношении заявила о себе очень рано. В тринадцать лет она была помолвлена с г-ном де Ложем и должна была выйти за него замуж лишь спустя два года, однако уже в четырнадцать лет оказалась беременной, так что их поторопились обвенчать. Она всегда уверяла, что они с мужем были тогда настолько наивны, что грешили по простоте душевной.
Вуатюр, которого, как мы видели, она вначале резко осаживала, стал затем ее любимцем.
Впрочем, Вуатюр заставил говорить о себе со времен учебы в коллеже. Еще на школьной скамье он сдружился с г-ном д'Аво, который позднее стал любовником г-жи де Сенто, жены казначея. Несмотря на ревнивый характер мужа, г-н д'Аво стал бывать у этой дамы, и, Вуатюр, опасаясь, что с другом может случиться какое-нибудь несчастье, провожал его до дверей ее дома; однако дальше путь ему был заказан, и он поджидал его там. Скучая в ожидании, Вуатюр пристроился к ее соседке, родившей от него дочь по имени Латуш.
Наконец, благодаря ожиданию у дверей, Вуатюр проник внутрь и в свой черед стал вторым хозяином дома.
Одно его письмо, которое получило большое распространение и произвело в свое время очень сильное впечатление, адресовано г-же де Сенто.
Оно несет на себе следующую надпись:
«Госпоже де Сенто, посылая ей французский перевод „Неистового Орландо“ Ариосто».
Так что Вуатюр уже пользовался известностью, когда однажды г-н де Шодбонн – г-н де Шодбонн происходил из Дофине, из семейства дю Пюи-Сен-Мартен, и был лучшим другом г-жи де Рамбуйе – так вот, повторяем, г-н де Шодбонн встретил его в одном доме и сказал ему:
– Господин Вуатюр, вы слишком галантный человек, чтобы оставаться среди буржуа; мне следует вытащить вас оттуда.
Он незамедлительно поговорил об этом с г-жой де Рамбуйе, и она дала ему разрешение привести поэта к ней.
Вуатюр говорит об этом в одном из своих писем:
«С тех пор как благодаря г-ну де Шодбонну я снискал милость госпожи и мадемуазель де Рамбуйе ...»
Для сына мелкого виноторговца внезапный переход из среды буржуа в один из самых аристократических салонов Парижа стал трудным испытанием, но Вуатюр вышел из него победителем. Вскоре он стал душой и утехой всех жеманников и жеманниц и в итоге дал отставку г-же де Сенто, которая вначале наделала из-за него несусветных глупостей, а в конце концов осталась верной ему до самой смерти.
Вуатюр был небольшого роста, но хорошо сложен; он сам набросал свой портрет в письме к какой-то неизвестной даме:
«Рост мой на два-три дюйма меньше среднего, наружность достаточно красивая, на голове шапка седых волос, взгляд мягкий, но немного блуждающий, а выражение лица изрядно простодушное».
Согласно хронике того времени, он более, чем кто– либо еще, старался понравиться дамам; его главными страстями были любовь и игра, но игра преобладала над любовью: он играл с таким пылом, что всегда после игры, а порой и в ее разгаре ему приходилось менять рубашку.
Когда Вуатюр оказывался среди незнакомых ему людей, он обычно молчал, и ничто не могло заставить его заговорить. К тому же он был подвержен резким сменам настроения, даже в общении с теми, кому хотел нравиться. То ли по рассеянности, то ли в силу бесцеремонности он позволял себе порой странные выходки; однажды он на виду у всех, в присутствии принцессы де Конде, снял свои калоши, чтобы отогреть ноги; носить калоши было само по себе достаточно неприлично, но снять их – это было уже слишком!
Впрочем, поскольку знатные вельможи принимали его таким, Вуатюр и вовсе счел излишним стесняться. Герцог Энгиенский сказал о нем:
– По правде сказать, будь Вуатюр из нашего круга, его невозможно было бы терпеть.
Госпожа де Рамбуйе уверяла, что его оплошности, его рассеянность и его бесцеремонность оттолкнули от него многих друзей; но что касается ее самой, то она в конечном счете настолько к ним привыкла, что не испытывала от его присутствия никакого смущения; если у него было настроение побеседовать, она заводила с ним беседу; если же у него было настроение помечтать, она оставляла его в покое, а сама в это время делала все то, что ей нужно было делать.