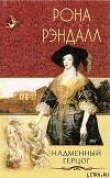Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 55 страниц)
Но, при всей определенности его ответов на вопрос о сообщниках, ему никоим образом не хотели верить. Каждый предлагал новые виды пыток, чтобы заставить его говорить правду.
Королева письменно рекомендовала какого-то мясника, взявшегося заживо содрать с убийцы кожу, причем так умело, что у того, даже лишенного кожи, останется еще достаточно сил, чтобы назвать сообщников и выдержать казнь.
Суд восхитился этим предложением принцессы, желавшей, чтобы каждый знал, что правосудие ничего не упустило для утоления народного гнева; судьи похвалили эту заботливость вдовы и матери, но не сочли возможным принять подобный совет.
Некий архитектор по имени Бальбани, изобретатель современных городов, предложил пытку на свой манер: речь шла о вырытой в земле яме в форме перевернутого конуса, с гладкими и скользкими стенами без единой шероховатости, за которую могло бы зацепиться тело. Туда следовало опустить преступника, который под собственным весом должен был скрючиться так, что в конечном счете его плечи соприкоснулись бы с пятками; это вызывало бы у него мучительные боли, но не лишало бы его телесных сил; поэтому при желании его можно было бы вытащить оттуда, а через четыре часа подвергнуть той же самой пытке, и так до тех пор, пока он не заговорит.
Однако суд не счел уместным использовать какую– либо пытку, отличную от той, которая была в то время в ходу.
Тем не менее какое-то время судьи пребывали в сомнении.
Они не могли решить, следовало ли подвергать преступника допросу с пристрастием до того, как он будет приговорен к смерти?
Обычные судебные процедуры не позволяли этого, ибо допрос с пристрастием применялся лишь в двух случаях: перед вынесением приговора, чтобы получить доказательство преступления, и после вынесения приговора, чтобы выявить сообщников и подстрекателей.
Так вот, получалось, что необходимости в таком допросе в первом случае не было, поскольку преступник, захваченный в момент совершения преступления не только не отрицал его, но еще и похвалялся им.
Благодаря розыскам судьям удалось обнаружить судебное решение, которое вывело их из затруднения.
Человек, с помощью яда покушавшийся на жизнь короля Людовика XI, до вынесения ему приговора несколько раз подвергался пытке, но в разные дни.
Парламенту ничего другого и не требовалось.
По прочтении этого документа суд вынес решение, что убийца будет подвергнут пытке трижды, в три разных дня.
Однако первое испытание он выдержал с таким великим мужеством и его ответы были настолько сходны с теми, какие он давал прежде, что возникло опасение, как бы не лишить его сил, которые следовало заботливо беречь, чтобы он мог до конца претерпеть казнь.
Однако генеральный прокурор Ла Гель, который был болен, но, превозмогая недуг, приказал отнести его в зал судебных заседаний, дабы вместе с королевскими адвокатами вынести окончательное решение, и который полагал, что подобное преступление заслуживает самого жестокого наказания, потребовал, чтобы, помимо пытки клещами и раздробления конечностей, преступник дополнительно подвергся новой каре: пытку должны были проводить раскаленными докрасна клещами и в раны, нанесенные ими, следовало лить расплавленный свинец, кипящее масло, горящую смолу и смешанные вместе воск и серу.
Подобное предложение делалось впервые.
Оно было принято.
В итоге приговор был составлен в следующих выражениях:
«Подсудимый объявляется обвиненным и изобличенным в преступлении, состоящем в оскорблении божественного и человеческого величия, в первую очередь в злодейском, гнусном и отвратительном цареубийстве, совершенном в отношении предоброй и достохвальной памяти особы покойного короля Генриха IV.
В наказание за совершенное преступление убийца приговаривается к публичному покаянию перед главной дверью Парижской церкви, каковое он должен принести нагим, в рубахе, держа в руке пылающий факел весом в два фунта и заявляя, что он подло и изменнически убил короля двумя ударами ножа, нанесенными в тело; оттуда он будет препровожден на Гревскую площадь, где на эшафоте ему станут рвать щипцами сосцы, плечи, ляжки, икры ног и правую руку, державшую нож, которым он совершил цареубийство, и жечь их горящей серой, а в разорванные клещами места лить расплавленный свинец, кипящее масло, горящую древесную смолу и смешанные вместе воск и серу; после чего его тело будет растянуто и расчленено четырьмя лошадьми, его конечности и тело будут преданы огню, превращены в прах и развеяны по ветру, его имущество конфискуют, родительский дом разрушат, отца и мать изгонят из Французского королевства, а прочих родственников принудят сменить имя».
Приговор был исполнен в тот же день, в какой его вынесли, и, чтобы увидеть казнь, все принцы, сеньоры, высшие должностные лица и государственные советники собрались в городской ратуше, тогда как весь простой люд Парижа столпился на Гревской площади.
Вначале у судей была мысль сжечь преступнику руку на том самом месте, где он совершил цареубийство. Однако они рассудили, что пространство там настолько тесное, что лишь несколько человек смогут стать свидетелями этого истязания, предваряющего казнь, и к тому же такое ее начало способно лишить убийцу сил, которые понадобятся ему, чтобы претерпеть другие муки.
Перед тем как его отвели на Гревскую площадь, была предпринята последняя попытка устроить ему допрос с пристрастием. Его ноги поместили в испанские сапоги. Когда был вбит первый клин, из уст приговоренного вырвались громкие крики, но никакаких признаний он не сделал.
– Боже мой! – вскричал он. – Сжальтесь над моей душой и простите мне мое преступление, но накажите меня вечным огнем, если я сказал не все!
После второго клина он потерял сознание.
Было решено, что продолжать пытку бесполезно, и им завладел палач.
Как и все фанатики, преступник судил о совершенном им злодеянии в соответствии с собственными взглядами и полагал, что народ будет благодарен ему за это убийство. И потому он был крайне удивлен, когда, выйдя из Консьержери, увидел, что его встречают шиканьем, угрозами и проклятиями.
Под это улюлюканье толпы он приблизился к собору Парижской Богоматери. Там он бросился ничком на землю, опустил конец своего факела и выказал величайшее раскаяние.
Это было тем более поразительно, что, перед тем как покинуть тюрьму, он еще поносил короля и прославлял свое преступление.
Изменение, которое произошло в нем за время короткого пути, отделявшего тюрьму от эшафота, было чрезвычайно сильным, ибо в ту минуту, когда он готовился выйти из повозки, сопровождавший его доктор богословия Филсак, желая дать ему отпущение грехов, призвал его поднять глаза к небу.
Но он ответил ему:
– Я ни за что не сделаю этого, святой отец, ибо недостоин смотреть на него.
Затем, когда отпущение грехов ему было дано, он произнес:
– Святой отец, я согласен на то, чтобы данное вами отпущение грехов обратилось в вечное проклятие, если я скрыл хоть часть правды.
Получив отпущение грехов, он поднялся на эшафот, где его положили на спину; затем к его ногам и рукам привязали лошадей.
Нож, которым убийце проткнули руку, был не тем, что послужил ему орудием преступления, ибо тот нож, после того как он был показан толпе, издавшей при виде его крик ужаса, палач кинул своим подручным, и они положили его в мешок.
Было замечено, что в то время, когда приговоренному сжигали руку, у него достало присутствия духа поднять глаза, чтобы посмотреть, как ее жгут.
После того как руку сожгли, в ход пошли клещи.
И вот тогда начались крики.
Немного погодя на его раны стали лить расплавленный свинец, кипящее масло, горящую смолу и воск с серой, причем палач тщательно следил за тем, чтобы все это проникало в живую плоть.
«То была, – говорит Матьё, – самая чувствительная и самая пронзительная боль за все время казни, и он выдавал эту боль тем, как изгибалось все его тело, как дергались его ноги и трепетала его плоть. Но, – добавляет историк, – это не могло вызвать у народа жалость. И когда все кончилось, народ жаждал, чтобы пытку начали снова».
И это было настолько правдой, что, когда какой-то молодой человек, из окна ратуши смотревший на казнь, имел несчастье воскликнуть: «Великий Боже, какая жестокость!», вместо того чтобы сказать: «Великий Боже, какая мука!», на него посыпались такие угрозы, что ему пришлось затеряться в толпе, иначе его растерзали бы.
В этот момент казнь приостановилась на какое-то время. Богословы приблизились к преступнику и стали заклинать его сказать правду.
И тогда он заявил, что готов говорить.
Позвали секретаря суда; он поднялся на эшафот и стал записывать слова приговоренного.
К несчастью, у секретаря суда был настолько плохой почерк, что в его записях можно было разобрать лишь слова «королева» и «г-н д’Эпернон»: прочитать остальное не представлялось возможным.
Этот документ, написанный прямо на эшафоте, долгое время оставался в руках семейства Жоли де Флёри.
После этого был отдан приказ и лошади начали тянуть веревки, привязанные к ногам и рукам осужденного. Но, поскольку на взгляд толпы лошади делали это недостаточно жестоко, толпа впряглась в веревки сама.
Какой-то барышник, увидев, что одна из лошадей, участвовавших в казни, задыхается, спешился, расседлал свою лошадь и впряг ее на место уставшей.
«Эта лошадь, – рассказывает Матьё, – принялась за дело лучше, чем другие, и стала так сильно дергать преступника за левое бедро, что очень скоро вывернула его».
Поскольку веревки, которыми тело несчастного удерживалось между двух столбов, водруженных посреди эшафота, ослабли, а его долго тянули взад и вперед и волочили во все стороны, он то и дело бился боками об эти столбы, и при каждом ударе очередное ребро у него гнулось и ломалось.
Однако он был настолько силен, что каждый раз, сгибая одну из своих ног, заставлял пятиться лошадь, которая была к ней привязана.
Наконец палач, видя, что все конечности осужденного вывернуты, сломаны и побиты, что он находится в агонии и что лошади выбились из с ил, сжалился, 181
возможно и над лошадьми тоже, и решил подвергнуть его четвертованию.
Однако толпа, угадав это намерение, силой захватила эшафот и вырвала несчастного из рук палача. Лакеи нанесли ему сотню ударов шпагами, каждый откромсал от его тела кусок плоти, и потому, вместо того чтобы оказаться разрубленным на четыре части, он был разорван более чем на сотню кусков.
Какая-то женщина разрывала его тело ногтями; затем, видя, что так ей мало чего удастся добыть, она вцепилась в него зубами. В итоге тело разорвали в клочья, так что, когда палач захотел исполнить ту часть приговора, какая предписывала бросить останки цареубийцы в костер, от него не осталось ничего, кроме рубахи.
Его тело сожгли по кускам на всех площадях и перекрестках Парижа.
Еще и сегодня, по прошествии двух с половиной веков, это убийство остается тайной, известной лишь виновным и Господу Богу.
Подозрений много, моральные доказательства налицо; однако материальные доказательства отсутствуют и, если воспользоваться терминами правосудия, история вынесла постановление о прекращении уголовного расследования.
Но посмотрите на королеву – поносимую, презираемую, ненавидимую.
Посмотрите на Кончини – вырытого из могилы, расчлененного, растерзанного, повешенного, съеденного.
Все это было сделано народом.
Почему?
Да потому, что народ остался в убеждении, что истинными убийцами были флорентиец и флорентийка – КОНЧИНИ и КОРОЛЕВА.
Людовик XIII
и
Ришелье
I
В нашем очерке о Генрихе IV мы уже говорили, что дофин Людовик, ставший впоследствии королем Людовиком XIII, родился в Фонтенбло 27 сентября 1601 года, в четверг, через девять месяцев и восемнадцать дней после свадьбы Марии Медичи, и что, родившись под знаком Весов, он был прозван Людовиком Справедливым.
Король Генрих воспитывал его довольно сурово: однажды он велел высечь его розгами.
– Ах, – воскликнула вечно ревнивая и сварливая Мария Медичи, никогда не упускавшая случай упрекнуть мужа, – вы никогда не обошлись бы так с внебрачным сыном!
– Что касается моих внебрачных детей, – отвечал король, – то мой законный сын всегда сможет высечь их, если они будут валять дурака; но вот если его не высеку я, то его уже не высечет никто.
Генрих IV не ограничивался тем, что давал приказ высечь сына его учителям: дважды он высек его лично собственной царственной рукой.
Первый раз это произошло после того, как дофин выказал такую неприязнь к одному дворянину, что, дабы унять юного принца, пришлось выстрелить в этого дворянина из незаряженного пистолета и сделать вид, будто тот был убит этим выстрелом. Расправа произошла прямо на глазах у дофина; дворянина унесли, как если бы он скончался, а юный Людовик, вместо того чтобы испытывать хоть какие-нибудь угрызения совести, принялся, напротив, петь и плясать, выказывая тем самым полное удовлетворение от того, что он избавился от старого солдафона.
Второй раз это случилось после того, как он колотушкой размозжил голову воробью.
Королева, как обычно, хотела защитить дофина, но не столько во имя любви, которую она питала к ребенку, сколько ради удовольствия позлить мужа.
– Сударыня, – сказал ей король, – молите Бога, чтобы я жил подольше, ибо, как только я уйду, тот, кого вы сейчас защищаете, будет дурно обращаться с вами.
В то же самое время Генрих IV писал г-же Монгла, воспитательнице королевских детей:
«Я весьма сожалею, что Вы не извещаете меня, сечете ли Вы моего сына, ибо я желаю, чтобы его секли каждый раз, когда он проявит упрямство или сделает что-нибудь дурное, и поручаю делать это Вам, так как мне прекрасно известно, что ничто на свете не принесет ему большей пользы; я знаю это по собственному опыту, пошедшему мне на пользу: в его возрасте меня нещадно пороли».
Однако королева, которая восставала против короля, когда приказ высечь сына отдавал он, и сама бывала вынуждена подвергнуть дофина точно такому же наказанию. Свидетельством этому служит следующий отрывок из письма Малерба:
«В прошлую пятницу, когда господин дофин играл в шахматы с Ла Люцерном, одним из его товарищей для игр, Ла Люцерн поставил ему мат. Господин дофин был столь сильно уязвлен этим, что бросил шахматные фигуры ему в лицо. Королева узнала об этом и велела г-ну де Сувре высечь дофина, посоветовав при этом воспитывать его так, чтобы он был более милостивым».
Как видно по образчикам поведения юного принца, которые мы только что привели, по характеру он вовсе не был милостивым.
Ему было девять лет, когда погиб король, его отец, и, увидев окровавленное тело Генриха IV, он был так напуган этим зрелищем, что ночью ему приснились самые жуткие сны, и, поскольку ему пригрезилось, что хотели убить его самого, пришлось перенести его в постель королевы.
В этом отношении Людовик XIII походил на Генриха IV: он не обладал врожденной храбростью; однако у Генриха IV, с его сильной и царственной натурой, воля подправляла этот недостаток, тогда как у его сына все обстояло совсем иначе.
Впрочем, продолжая вести разговор о порке юного короля, а также о его жестокости и недостаточной храбрости, отвлечемся на минуту и скажем прямо сейчас пару слов о его брате, Гастоне Жане Батисте Французском, герцоге Орлеанском, который родился 24 апреля 1608 года и, следовательно, был на семь лет младше его.
Это был очаровательный ребенок, по крайней мере внешне, и через сорок лет после того времени, в котором мы теперь находимся – а находимся мы теперь в 1613 или 1614 году, он сказал при виде герцога Анжуйского, брата Людовика XIV, невероятно хорошенького ребенка:
– Нисколько этому не удивляйтесь, я был так же красив, как и он.
По примеру своего брата, пожелавшего, чтобы убили дворянина, внушавшего ему неприязнь, он приказал бросить в канал Фонтенбло другого дворянина, не оказавшего ему должного почтения.
Хотя король Генрих, суровый судья своих детей, к этому времени уже был мертв, история наделала много шума, и королева-мать потребовала, чтобы принц попросил прощения; однако королевский отпрыск ответил на это решительным отказом, хотя ему приводили в пример Карла IX, который однажды в пылу охоты ударил хлыстом дворянина, оказавшегося у него на пути, но в ответ на сделанное ему замечание промолвил: «Что ж, я и сам всего лишь дворянин» и принес пострадавшему извинения; это не помешало, правда, тому, что оскорбленный дворянин не пожелал появляться более при дворе. Так что герцог Орлеанский проявлял куда больше упрямства, чем Карл IX, не желая принести извинения тому, кого он хотел утопить; длилось это до тех пор, пока королева не приказала высечь его как следует; этот приказ заставил его решиться, и дворянин получил удовлетворение за нанесенную ему обиду.
В юности герцог Орлеанский очень жаловался на двух своих воспитателей, один их которых, по его словам, был турком, а другой – корсиканцем. Этих воспитателей звали г-н де Брев и г-н д’Орнано.
И в самом деле, г-н де Брев так долго жил в Константинополе, что почти сделался магометанином, а маршал д’Орнано, корсиканец по происхождению, был внуком знаменитого Сампьеро д’Орнано, убившего в Марселе свою жену Ванину.
Этот маршал, который умер в Венсене в 1626 году, отравленный ядом, имел странную причуду: ни за что на свете он не мог прикоснуться ни к одной женщине по имени Мария, настолько велико было его почтение к Пресвятой Деве.
Из различных наук, которые изучал Гастон Орлеанский, он отдавал предпочтение ботанике и знал наизусть названия всех растений. Его учителем был Абель Брюнье, состоявший при нем медиком. Однажды во время урока царственный ученик прервал учителя, чтобы рассказать ему о какой-то своей оплошности.
– Монсеньор, – промолвил учитель, – от рябиновых деревьев следует ждать рябину, а от глупцов – глупостей.
В молодости Гастон Орлеанский был большим любителем шататься по улицам, бить оконные стекла и не раз собственной рукой поджигал лачугу какого-нибудь холодного сапожника, после чего целый квартал просыпался от крика «Пожар!».
Он был чрезвычайно прихотлив как в своем милосердии, так и в своей жестокости.
Мы уже говорили, что он приказал бросить в воду дворянина, который, по его утверждению, не оказал ему должного почтения. – Это по поводу его жестокости.
Однажды, во время своего утреннего выхода, Гастон заметил, что у него украли его карманные золотые часы с боем, которые он очень любил, и пожаловался на это.
Кто-то из дворян посоветовал ему:
– Велите закрыть двери, монсеньор, и пусть всех обыщут.
– Напротив, сударь, – ответил Гастон, – пусть все выйдут, ибо сейчас вот-вот будет девять часов, и, если часы начнут бить, они выдадут вора, которого мне придется наказать; а я не хочу, чтобы дворянин претерпел наказание, полагающееся мужлану.
И по приказу Гастона все вышли, так что имя вора так и осталось неизвестным. – Это по поводу его милосердия.
Вернемся, однако, к королю Людовику XIII. Герцог Орлеанский, в ходе нашего рассказа о царствовании его августейшего брата, не раз даст нам повод заняться им.
Людовик XIII был еще почти ребенком, когда встал вопрос о его женитьбе.
В отличие от Генриха IV, которого женщины подвигли на все его безумства, а также, возможно, и на кое-какие из его подвигов, молодой король их не переваривал; однако с раннего детства у него были фавориты.
Впоследствии один историк скажет:
«При Людовике XIII положение фаворита становится государственной должностью. Первой привязанностью короля был его кучер Сент-Амур; затем он проявлял весьма большую благосклонность к Арану, своему псарю».
Когда вопрос о его женитьбе на Анне Австрийской встал всерьез, он послал в Испанию отца своего кучера, очень известного барышника, чтобы узнать, насколько хорошо сложена принцесса. Посланец предоставил ему отчет обо всем увиденном, как если бы, вернувшись с конской ярмарки, он подал ему отчет об осмотре какой– нибудь кобылы.
Королева-мать одного за другим удалила от него великого приора де Вандома, командора де Сувре и Монпуйана Ла Форса; но, на свою беду, она оставила при нем Люина.
Так что мы займемся сейчас только Люином, который, впрочем, сыграет важную роль в жизни короля и даст свое имя женщине, сыгравшей, в свой черед, важную роль в жизни королевы.
Шарль д'Альбер, герцог де Люин, ставший позднее коннетаблем Франции, родился 5 августа 1578 года. Стало быть, в то время, к которому мы подошли, то есть в 1614 году, ему было тридцать шесть лет.
Королю было тринадцать.
Альбер де Люин принадлежал к весьма захудалому роду.
Вот что об этом говорили.
В небольшом городке Авиньонского графства обитал каноник по имени Гийом Сегюр; этот каноник сожительствовал с женщиной по имени Альбер. У них был внебрачный ребенок, который взял имя матери и в смутные времена воевал, называя себя Альбер де Л ю и н, по имени фермы, где его родила мать. Этот капитан, жестокий служака, был комендантом города Пон-Сент-Эспри возле Бокера. Во время Фландрских войн он привел герцогу Алансонскому две тысячи солдат, завербованных в Севеннах. Там он свел знакомство с местным дворянином по имени Контад, который был знаком с графом дю Людом, сменившим г-на де Брева на посту воспитателя Гастона Орлеанского.
Вот этот Альбер дю Люин, главарь наемников, и был отцом нашего Люина.
По протекции графа дю Люда он пристроил своего сына, Шарля д'Альбера, камер-пажом под начало г-на де Бельгарда.
Скинув ливрею – а пажи носили ливрею, – молодой человек стал ординарным дворянином королевских покоев; это давало уже некоторое положение в обществе.
Кроме того, Шарль де Люин обладал талантом, который чрезвычайно нравился Людовику XIII: он любил птиц и знал толк в их обучении. Приручив сорокопутов, он вместе с королем охотился с их помощью на воробьев, зябликов и синиц в рощах Лувра.
Это весьма развлекало Людовика XIII, и фавор Шарля де Люина зижделся на потребности короля – который был самым скучающим ребенком во Франции и которому предстояло стать самым скучающим мужчиной во всем королевстве, – зижделся, повторяем, на его потребности развлекаться.
Поскольку Шарль д'Альбер был невысокого происхождения, этой привязанности короля к его фавориту особого значения не придавали.
У него было два брата: Брант и Кадене, такие же красивые малые, как и он сам.
Кадене, очаровательный кавалер, какое-то время задавал тон в придворной моде: это по его имени каденетками называли определенного вида косички, которые носили свисающими вдоль висков.
Единство братьев – ибо ничто и никогда не могло их разъединить – в значительной степени способствовало их успеху в политике.
В конечном счете они настолько завладели рассудком короля, что о них сочинили песенку, в которой их сравнивали с трехглавым Цербером, охраняющим царство Плутона:
Трехглавый страшный зверь
Ведущую из Ада охраняет дверь.
Ну а во Франции три чванные особы
К монарху стерегут подходы.
Три зверя, охранявшие Лувр, хорошо стерегли и хорошо разбогатели: Шарль де Люин стал герцогом де Люином и коннетаблем Франции, Брант – герцогом де Люксембургом, а Кадене – герцогом де Шоном и маршалом.
Наряду с тремя братьями король особенно привечал Ножан-Ботрю, капитана придверных стражников.
Не следует смешивать этого Ножан-Ботрю с его братом Гййомом Ботрю, графом де Серраном, государственным советником, членом Французской академии и канцлером Гастона Орлеанского, брата короля.
Впрочем, скажем несколько слов об обоих братьях.
Начнем с Ботрю из Французской академии, а затем, рассказав о другом Ботрю, вернемся к Людовику XIII.
Гийом Ботрю, которого тоже называли Ножаном, как и его брата, принадлежал к знатной семье из Анже. Он женился на дочери судейского чиновника Счетной палаты по имени Ле Биго, сьера де Гастина, и его жена настаивала, чтобы ее называли госпожой де Ножан, а не госпожой де Ботрю, покольку она не хотела, чтобы королева-мать Мария Медичи, все произносившая на итальянский лад, называла ее госпожой де Б о т р у.
Эта женщина никогда не выходила из дома, и ее ставили в пример как превосходнейшую хозяйку. Ботрю, не веривший в безоговорочную добродетель женщин, подумал, что за всем этим скрывается какая-то чертовщина, и принялся выслеживать жену, причем делал это так хорошо, что в один прекрасный вечер застал ее со своим лакеем.
Господин де Ботрю не был покладист в отношении супружеских измен: для начала он выставил жену за дверь, велев ей идти куда угодно, но только не возвращаться к нему; затем, когда жена ушла, он принялся за лакея, приказал раздеть его, привязать растянутым во весь рост к столу и, в наказание за совершенное преступление, лить ему капля за каплей расплавленный сургуч на ту часть его тела, на которую обманутый муж полагал себя вправе жаловаться более всего.
Таллеман де Рео говорит, что лакей умер; однако Менаж в своем издании 1715 года, которое у нас перед глазами, пишет, что бедняга остался жив, и добавляет, что Ботрю добивался, чтобы этого человека приговорили к повешению, но, на основании апелляционной жалобы лакея, обращавшего внимание на то, что хозяин сотворил над ним самосуд, его приговорили лишь к каторге.
Изгнанная жена родила сына, которого Ботрю не захотел признать, и, удалившись в Монтрёй-Беле, прожила там пятнадцать лет крайне скупо, чтобы сберечь хоть что-нибудь для своего ребенка!
Ботрю был остроумцем и сыпал тем, что мы сегодня называем остротами. Маршал д'Анкр, которым мы намереваемся вот-вот заняться, любил Ботрю и, если бы не трагическое происшествие, в котором он потерял жизнь, обеспечил бы ему видное положение в обществе.
Приведем некоторые из его острот: они помогут нам понять различие между французским остроумием XVII века и французским остроумием XIX века.
Ботрю был свидетелем сражения, которое назвали «Забавой при Ле-Пон-де-Се». Мы еще поговорим об этой забаве, как и о многих других.
«Некто, – рассказывает Таллеман де Рео, – весьма высоко ценивший г-на де Женшера, который участвовал в этой стычке, поинтересовался в беседе с Ботрю, кто, по его мнению, выказал в сражении большую храбрость, чем Женшер.
– Предместья Анже, – отвечал Ботрю, – ибо они все время находились вне стен города, тогда как ваш Женшер не высовывался оттуда ни на минуту».
Играя в Анже в пикет с неким Гуссо – который был так глуп, что желая назвать кого-нибудь дураком, его называли «гуссо», – Ботрю забыл, с кем играет, и, совершив какой-то промах, воскликнул:
– Какой же я г у с с о!
– Сударь, вы дурак, – сказал ему противник.
– Черт побери! – ответил Ботрю. – Вы не открыли мне ничего нового, поскольку именно это я и имел в виду.
Ботрю преследовали беды. Вначале его поколотили палками слуги герцога д'Эпернона за остроту, по поводу которой герцог счел себя вправе выразить неудовольствие; затем его побил некий маркиз де Борбонн, который при всем том не слыл храбрецом.
В ответ Ботрю сочинил сатирическую песенку, заканчивавшуюся припевом:
Не дубасит Борбонн никого,
Кроме меня одного.
Какое-то время спустя, держа в руках палку, Ботрю отправился с визитом к королеве.
– Никак у вас подагра, дорогой Ботрю? – спросила Мария Медичи.
– Нет, сударыня, – ответил Ботрю.
– Не обращайте внимания, ваше величество, – заметил принц де Гемене. – Он носит свою палку, как святой Лаврентий – свою решетку: это орудие его мучения.
В то время, когда Ботрю жил в провинции, ему сильно докучал своими беспрестанными визитами один судья. Однажды, когда этот человек велел лакею Ботрю доложить хозяину о своем желании поговорить с ним, тот ответил:
– Скажи ему, что я еще в постели.
Слуга вышел и через минуту вернулся:
– Сударь, он говорит, что будет ждать, пока вы не подниметесь.
– Что ж, – промолвил Ботрю, надеясь отделаться от посетителя, – скажи ему, что я плохо себя чувствую.
– Он говорит, что подскажет вам лекарство.
– Скажи ему, что я при последнем издыхании.
– Он говорит, что хочет попрощаться с вами.
– Скажи ему, что я умер.
– Он говорит, что хочет окропить вас святой водой.
– Скажи ему, что меня сейчас будут хоронить.
– Он говорит, что хочет поддерживать уголок гробового покрова.
– Ну тогда пусть войдет! – воскликнул Ботрю, у которого не было больше ни одного предлога не впускать судью.
Ему принадлежит острота, которую позднее приписывали Пирону, но напрасно, ведь Таллеман де Рео приводил ее еще тогда, когда Пирон не родился.
Проходя мимо похоронной процессии, в которой несли распятие, Ботрю снял шляпу.
– О! – воскликнули окружающие. – Стало быть, вы и Господь Бог помирились?
– Cos, cos,[35] – отвечал Ботрю. – Мы раскланиваемся, но не разговариваем.
Перед тем как приводить эту остроту, нам следовало пояснить, что Ботрю был настоящим еретиком. Он заявлял, что Рим является апостолической химерой, и, прочитав в списке новых кардиналов, которых назначил папа Урбан и которые все были людьми невысокого происхождения, десять имен, сказал:
– Но меня уверяли, что кардиналов десять, а я вижу их в списке лишь девять.
– Ба! А Факкинетти? Вы его забыли, – заметил ему кто-то.
– Извините, – ответил Ботрю, – поскольку он шел там последним, я решил, что это звание девяти остальных.
Однажды, когда он хотел отослать в экипаже какого-то из своих посетителей, этот человек сказал:
– Нет, нет, не надо, а то ваши лошади слишком утомятся.
– Если бы Господь, – отвечал Ботрю, – создал наших лошадей для того, чтобы они отдыхали, он сделал бы их канониками Святой капеллы.
Вернемся, однако, к графу де Ножан-Ботрю, который, как мы уже говорили, должен привести нас обратно к Людовику XIII.
Он явился ко двору, имея всего лишь восемьсот ливров ренты; но в первый же день своего появления там ему посчастливилось нести на своих плечах короля, чтобы его величество мог перебраться через лужу.
Этим он и снискал фавор у короля, подобно тому как святой Христофор снискал расположение Иисуса. Фавор был немаленький, ибо, явившись ко двору, как мы уже говорили, с восьмьюстами ливров ренты, он ко дню своей смерти имел годовой доход в сто восемьдесят тысяч ливров!
Людовик XIII заикался в разговоре. Однажды ко двору прибыл г-н д’Аламбон, который заикался еще сильнее короля. Король заговорил с ним, заикаясь, и, надо же такое, г-н д’Аламбон ответил ему, заикаясь куда хуже его. Стоило неимоверных трудов убедить короля, что заикался этот дворянин непритворно.
Именно из-за этого нарушения речи Людовика XIII, опасаясь, что его будут называть Людовиком Заикой, герцог де Ришелье приказал всем называть короля Людовиком Справедливым.
В тот самый день, когда он повторил этот приказ, Ножан играл с королем в мяч.
– Ловите, государь! – крикнул Ножан, бросая ему мяч.
Однако король упустил его.
– Ах, черт побери! – воскликнул Ножан. – До чего же меткий наш Людовик Справедливый!