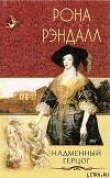Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 55 страниц)
XIII
Мы только что заметили, что перескочили через одно из самых важных событий царствования Генриха IV: суд и казнь Бирона.
Как уже говорилось, он был отправлен послом к королеве Елизавете.
Несомненно, королева знала то, что, впрочем, было известно всем, а именно, что Бирон замышляет вместе с герцогом Савойским заговор против Генриха IV, ибо она без конца поучала Бирона, то и дело говорила ему о Генрихе IV как о лучшем и величайшем из всех существовавших когда-либо королей, ставя ему в упрек лишь то, что он чрезмерно добр.
Елизавета пошла еще дальше. Однажды она показала ему из окна голову Эссекса, того молодого красавца, 146
которого она так любила: как говорили, причиной ее смерти стало горе, вызванное тем, что она приказала его убить.
Эта голова, даже спустя год после того, как ее отделили от тела, все еще была выставлена в Лондонском Тауэре как страшное напоминание предателям.
– Посмотрите на голову этого человека, казненного в возрасте тридцати трех лет, – сказала она. – Его погубила гордыня: он решил, что короне без него не обойтись, и вот чего он добился. Если мой брат Генрих поверит мне, он сделает в Париже то, что я сделала в Лондоне: он отрубит головы всем предателям, от первого до последнего!
К тому времени, когда Бирон вернулся во Францию, у короля уже не было никаких сомнений в его виновности. Ему все стало известно от Ла Фена, одного из агентов маршала.
Бирон находился в одной из своих бургундских крепостей. Речь шла о том, чтобы его разоружить.
Сюлли послал Бирону письмо с приказом отправить в столицу все его пушки, оправдывая это тем, что они устарели и их необходимо заменить новыми.
Бирон не осмелился ответить отказом.
После этого письмо ему написал король:
«Приезжайте повидаться со мной. Я не верю ни единому слову из всего того, что Вам ставят в упрек, и все эти обвинения считаю лживыми. Я Вас люблю и буду любить всегда».
И это была правда.
Бирон не мог удержаться в своих крепостях, не имея пушек. Разумеется, он мог бы бежать, но ему было трудно отказаться от того блестящего положения, какое он занимал во Франции; кроме того, он не верил, что королю так уж все хорошо известно, или, по крайней мере, верил, что никаких доказательств заговора ни у кого нет.
Испанец Фуэнтес и герцог Савойский побуждали его взять, как говорится, быка за рога и упорно отпираться.
У ворот Фонтенбло маршала поджидал предавший его Ла Фен. Речь шла о том, чтобы столкнуть Бирона в глубину пропасти, а иначе поплатиться за все пришлось бы самому Ла Фену.
– Мужайтесь и отвечайте зубасто, сударь! – шепнул он маршалу. – Король ничего не знает.
Бирон был уже во дворце, в то время как многие еще говорили, что он туда не приедет.
Даже сам король, подобно другим, повторял это утром 13 июня 1602 года, прогуливаясь по саду Фонтенбло.
Внезапно он увидел маршала.
Первым побуждением короля было подойти к Бирону и обнять его.
– Вы хорошо сделали, что приехали, – сказал он ему.
А затем, улыбаясь и в то же время с угрозой в голосе, добавил:
– Ведь если бы вы не приехали, я бы отправился за вами сам.
С этими словами он увел маршала в одну из комнат дворца и там, оставшись один на один с ним, спросил его, глядя ему в лицо:
– Вам нечего мне сказать, Бирон?
– Мне? – откликнулся Бирон. – Нет, нечего. Я приехал узнать, кто выступает в роли моих обвинителей, и наказать их; только и всего.
Король, вполне искренний на этот раз, желал спасти Бирона. Генрих лгал лишь женщинам; он плохо умел скрывать свои мысли, имея дело с теми, кого любил, и, напротив, позволял им чересчур ясно видеть, что творилось его душе.
Днем он снова повел Бирона в запертый сад Фонтенбло.
Там их нельзя было подслушать, но они были на виду у всех.
Бирон, по-прежнему горделивый, высоко держал голову и, казалось, высокомерно отстаивал свою невиновность.
После обеда такая же прогулка и такая же пантомима.
Король окончательно понял, что с подобным человеком ничего поделать нельзя.
Он заперся с Сюлли и королевой. Об этом тайном совещании известно лишь то, что на нем король все еще защищал Бирона.
Вечером короля предупредили, что Бирон намеревается бежать этой ночью и если откладывать его арест до утра, то будет уже слишком поздно.
До полуночи шла карточная игра. В полночь все разошлись, однако король задержал Бирона.
Во имя их старой дружбы Генрих убеждал его признаться в измене. Было очевидно, что признание спасло 148
бы Бирона. Покаявшийся Бирон был бы прощен. Но он остался холоден и отрицал все.
Эта трижды повторенная попытка спасти друга потребовала от Генриха, имевшего в руках все доказательства его вины, огромной выдержки.
С щемящим сердцем он удалился в свой кабинет.
Но, войдя туда, он не мог более сдерживаться и распахнул дверь.
– Прощайте, барон де Бирон! – воскликнул Генрих, именуя его титулом, который он дал ему в годы молодости.
Но ничто не подействовало, даже это напоминание о золотых днях юности.
– Прощайте, государь, – промолвил Бирон.
С этими словами он удалился.
Когда дверь за Бироном закрылась, он был уже обречен. В прихожей он оказался лицом к лицу с Витри, капитаном гвардейцев. Это был отец того, кто впоследствии убил Кончини.
– Вашу шпагу, – произнес Витри, обращаясь к нему и кладя руку на эфес.
– Полно тебе шутить! – ответил ему Бирон.
– Такова воля короля, – заявил Витри.
– Ах так! – воскликнул Бирон. – Отдать мою шпагу, которая так хорошо ему послужила!
И он протянул Витри шпагу.
Доказательства измены Бирона были настолько очевидными, что Парламент единодушно, ста двадцатью семью голосами, приговорил его к смерти.
31 июля, в ту минуту, когда маршал менее всего ожидал этого, он увидел, что в камеру к нему входит весь суд в полном составе, канцлер, секретарь суда и сопровождающие их лица.
В это время он был занят тем, что сопоставлял три или четыре астрологических календаря и изучал расположение звезд и луны, пытаясь разгадать будущее.
Будущее, еще далекое для других, приближалось к нему: видимое, осязаемое, страшное.
Это была смерть предателя. Однако король позволил, чтобы маршал принял ее во дворе тюрьмы, а не на Гревской площади.
Перед тем как зачитать Бирону приговор, канцлер велел ему вернуть крест ордена Святого Духа.
Бирон вернул крест.
После этого канцлер произнес, обращаясь к нему:
– Докажите же ту великую храбрость, какой вы похваляетесь, сударь, и умрите спокойно, как и подобает умереть христианину.
Однако Бирон, с видом ошеломленного ударом и обеспамятевшего человека, принялся оскорблять канцлера, называя его бессердечным истуканом и носатой бледной рожей.
Выкрикивая все эти оскорбления, он ходил по камере взад и вперед, пытаясь корчить из себя шута, но лицо его при этом было чудовищно искажено.
После потока бессвязных и почти бессмысленных слов, криков о своих долгах и о том, что должны ему, о любовнице, которую он оставлял беременной, Бирон в конце концов пришел в себя и продиктовал завещание.
В четыре часа его отвели в часовню. Он молился около часа, а по окончании молитвы вышел оттуда.
За это время во дворе тюрьмы установили эшафот.
– О! – воскликнул он при виде эшафота и отступил на шаг.
Затем, увидев у ворот незнакомого человека, который явно его ждал, он спросил, обращаясь к нему:
– Кто ты такой?
– Монсеньор, – смиренно ответил тот, – я палач.
– Уйди прочь, уйди! – вскричал Бирон. – Не прикасайся ко мне до последней минуты. Если ты приблизишься ко мне до этого, я задушу тебя.
Затем, повернувшись к солдатам, охранявшим ворота, он промолвил:
– Друзья мои, добрые мои друзья, прошу вас, разнесите мне голову выстрелом из мушкета.
Его хотели связать.
– Не надо, – заявил он, – я не грабитель.
Потом, обращаясь к немногим присутствующим, которых собралось во дворе человек пятьдесят, он сказал:
– Господа, вы видите человека, которого король велел убить за то, что он добрый католик.
Наконец он решился подняться на эшафот, но, оказавшись там, стал ко всему проявлять придирчивость. Прежде всего, он пожелал быть казненным стоя; затем не захотел, чтобы ему завязывали глаза; потом захотел, чтобы это было сделано его носовым платком, но платок оказался чересчур коротким.
Люди, пришедшие наблюдать за тем, как он будет умирать, сильно тревожили его.
– Что делают здесь все эти негодяи? Не знаю, что мне мешает взять твой меч, – сказал он палачу, – и напасть на них.
Он вполне был способен сделать это, а при его силе здесь началось бы побоище.
Несколько присутствующих, услышав его слова, уже стали поглядывать на ворота.
Палач понял, что так он никогда не доведет дело до конца и что ему следует покончить с ним, пустив в ход хитрость.
– Монсеньор, – сказал он, – поскольку час вашей казни еще не наступил, вы должны воспользоваться этой отсрочкой и прочесть молитву «In manus»[33].
– Ты прав, – промолвил Бирон.
И, молитвенно сложив руки и склонив голову, он начал молиться.
Палач воспользовался этой минутой, подошел к нему сзади и с удивительной ловкостью снес ему голову с плеч.
Голова скатилась с эшафота.
Обезглавленное тело осталось стоять на ногах, судорожно перебирая руками. А затем в свой черед рухнуло, словно подрубленное дерево.
Тем временем, по словам испанского посла, король так осунулся, как если бы это его должны были казнить.
Неделю спустя он полагал, что умирает от диареи.
Впредь его присказкой стали слова:
– Это сущая правда, как и то, что Бирон был предателем!
Вернемся, однако, к г-ну Принцу.
Господин Принц, как в то время уже называли г-на де Конде и как впоследствии называли старших сыновей в этой семье, был весьма беден. От своих имений он получал ежегодный доход всего лишь в десять тысяч ливров; однако иметь его своим зятем было великой честью.
Господин де Монморанси дал в приданое своей дочери сто тысяч экю, а король, как и обещал, назначил своему племяннику ежегодную ренту в сто тысяч ливров.
Свадьба принца де Конде и мадемуазель де Монморанси сопровождалась празднествами, подобно королевской свадьбе. Были устроены конные состязания, и король участвовал в скачках за кольцом, облаченный в короткий камзол из пахучей кожи и с рукавами из китайского атласа.
К несчастью, вечером после свадьбы августейшего влюбленного прихватила подагра.
Теперь она была его королевой, и этой королеве ему пришлось дать место в своей постели.
Его единственное развлечение состояло теперь в том, что ему читали вслух «Астрею», а поскольку он не мог уснуть, чтецы сменяли друг друга, продолжая чтение.
Чтобы вырвать его из постели, понадобилось серьезное политическое событие.
Двадцать пятого марта 1609 года умер герцог Клевский. Немедленно встал вопрос о Рейне, и началось соперничество между Францией и Австрией.
Король, объявил себя излечившимся, поднялся с постели, показался в Париже, отправился охотиться на сорок на лугу Пре-о-Клер и заказал себе новые доспехи.
Бракосочетание красавицы Шарлотты сделало короля еще более влюбленным в нее, чем прежде. Он обхаживал принцессу до тех пор, пока не добился от нее, что однажды вечером она появилась на своем балконе, распустив волосы и стоя меж двух факелов. Увидев ее такой, с этими прекрасными волосами, ниспадающими почти до пят, король подумал, что от счастья он вот-вот лишится чувств.
– Боже правый! – воскликнула она. – Бедняга, он сошел с ума!
Подобное безумие, при всей его нелепости, всегда чуточку трогает женщин. И потому король сумел добиться от принцессы позволения на то, что по его заказу знаменитый художник по имени Фердинанд тайком напишет с нее портрет! Бассомпьер, питавший надежду урвать во всей этой истории что-нибудь лично для себя, сделался наперсником и вестником пылкого влюбленного. Он унес еще совершенно не просохший портрет, а так как сделать это нужно было незаметно, свернув холст в рулон, то пришлось смазать его свежим сливочным маслом, чтобы изображение на нем не стерлось.
Этот портрет окончательно свел короля с ума.
Но прежде всего короля сводило с ума его положение подле королевы. Незадолго до начала своей влюбленности в мадемуазель де Монморанси он дошел до того, что пообещал Марии Медичи дать ей клятву не иметь больше любовниц, если она изъявит согласие удалить от двора Кончини; затем, чтобы дать ей доказательство, что он еще способен любить, король пошел на близость с ней, следствием чего стала беременность.
Беременность завершилась рождением дочери, единственного ребенка, который определенно был от Генриха IV: то была будущая королева Англии.
Эта близость супругов последовала за их крупной политической ссорой: король наотрез отказывался устраивать браки своих детей в Испании, опасаясь влияния иезуитов. Он хотел выбирать партии для своих детей в Лотарингии и Савойе, однако королева считала такие брачные союзы недостойными.
Супружеская близость короля и королевы сильно уязвила Кончини: он не мог простить королеве ее неверность. Недалекую Марию Медичи стали убеждать, что Генрих пошел на близость с ней лишь для того, чтобы отравить ее и жениться на мадемуазель д'Антраг. Королева поверила в это, перестала есть вместе с королем и ела в собственных покоях, отказываясь от блюд, которые он посылал ей со своего стола.
Между тем из Италии прибыл некий человек по имени Лагард, нечто вроде нормандского кондотьера. Он возвращался с войны с турками и по пути остановился в Неаполе. Там он виделся с Гизами и свел знакомство со старыми злоумышленниками-лигистами, а также с Эбером, секретарем Бирона.
Лагард рассказал, что, обедая как-то раз вместе с Эбером в доме одного из лигистов, он увидел, как туда явился и сел за обеденный стол какой-то высокий человек в фиолетовом одеянии, сказавший во время обеда, что он отправляется во Францию и убьет там короля. Вышеупомянутому Эберу такие речи показались достаточно серьезными, чтобы поинтересоваться именем этого человека, и в ответ он услышал, что незнакомца зовут Равальяком.
Этот Равальяк был связан с г-ном д'Эперноном и привез в Неаполь письма от него.
Вдобавок, Лагард сказал, что после этого его повели к иезуиту по имени отец Алатон, который был дядей первого министра Испании, и что там его побуждали убить короля, действуя сообща с Равальяком. Для этого следовало выбрать момент, когда король будет охотиться.
Лагард, не ответив ни да ни нет, покинул Неаполь и отправился во Францию.
По дороге он получил письмо, в котором его снова побуждали убить короля.
Прибыв в Париж, Лагард первым делом попросил аудиенции у короля. Получив ее, он обо всем рассказал королю и показал ему письмо. Все это настолько хорошо согласовывалось с предчувствиями Генриха IV, что он глубоко задумался.
– Хорошенько храни это письмо, друг мой, – промолвил он. – Однажды оно понадобится мне, а в твоих руках оно будет в большей безопасности, чем в моих.
Все обстоятельства совпадали: ко двору явилась какая-то монашенка, имевшая видения, и видения эти состояли в том, что следует короновать королеву.
А зачем короновать королеву? Ответ был прост: королеву следовало короновать, поскольку со дня на день король мог быть убит.
Король никому ничего не сказал ни об откровении Лагарда, ни о видениях монашенки; однако он покинул Лувр и отправился в Иври, в дом, принадлежавший капитану королевских гвардейцев.
Утром, не в силах сдерживаться, он поспешил к Сюлли, чтобы все ему рассказать.
В «Мемуарах» Сюлли об этом говорится так:
«Король приехал сказать мне, что Кончини ведет переговоры с Испанией; что Пасифея, приставленная Кончини к королеве, уговаривает ее короноваться; что он прекрасно сознает, что их замыслы могут осуществиться лишь с его смертью и, наконец, что он располагает сведениями, будто его должны убить».
Сделав это признание, король попросил Сюлли приготовить для него небольшие покои в Арсенале. По его словам, четырех комнат ему было бы достаточно.
Все это происходило как раз в то время, когда Бассомпьер принес королю портрет г-жи де Конде.
Однако, казалось, бедного короля ни на мгновение не оставляли в покое: ни в политике, ни в любви.
Господин де Конде, который в течение полутора месяцев никоим образом не нарушал спокойствие жены, забыв воспользоваться своими супружескими правами, г-н де Конде, подталкиваемый своей матерью, которая была обязана Генриху IV всем, похитил свою жену и укрыл ее в Сен-Валери.
Это сопротивление г-на де Конде, оберегавшего свое супружество, подняло его на высоту политического врага.
Кроме того, зная характер короля, кое-кто полагал, что он наделает глупостей; наделав глупостей, он пере– 154
станет скрывать свои чувства, а когда он перестанет скрывать свои чувства, его легче будет убить.
И в самом деле, король отправляется вдогонку за принцессой один, переодетый в чужое платье; по дороге его задерживают, и, чтобы продолжить путь, ему приходится назвать себя.
Узнав об этой затее короля, г-н де Конде снова спасается бегством и увозит свою жену в Мюре, близ Суассона.
Генрих IV не может сдержать себя. Ему становится известно, что принц де Конде едет вместе с женой на охоту. Король прилаживает фальшивую бороду и отправляется в путь.
Однако принца де Конде вовремя предупреждают, и он откладывает охоту.
Через несколько дней принца де Конде и его жену пригласил на обед их сосед, дворянин-помещик, и они поехали к нему.
Однако этот дворянин оказался сообщником короля, и через дыру, проделанную в стенном ковре, за которым король спрятался, несчастный влюбленный мог в свое удовольствие наблюдать ту, что заставляла его проделывать все эти глупости.
На обратном пути они встретились с г-ном де Бенё, который сделал вид, что он едет повидать свою невестку, жившую в этих краях. Господин де Бенё ехал в почтовой карете, и управлял ей форейтор, пол-лица которого скрывал пластырь.
Этим форейтором был король. Принцесса и ее свекровь прекрасно его узнали.
Королю казалось, что он сошел с ума. Его мучила нестерпимая ревность.
Он отправился к коннетаблю и посулил ему золотые горы, если тот убедит дочь подписать прошение о расторжении брака.
Коннетабль, со своей стороны, отправился к дочери и добился от нее согласия на развод.
Бедную девочку заставили поверить, что она станет королевой.
Принц узнал о том, что происходит. Заявив, что он намерен отвезти жену в Париж, он посадил ее в карету, запряженную восьмеркой лошадей, однако направился не в Париж, а в Брюссель и приехал туда, не сделав нигде ни единой остановки. Они ели и спали прямо в карете и, выехав 1 декабря, прибыли в Брюссель 3-го.
Король играл в своем кабинете, когда эта новость пришла к нему одновременно с двух сторон: от Дельбена и от начальника ночного дозора.
Генрих IV тотчас бросил игру, оставив выставленные им на кон деньги Бассомпьеру и шепнув ему на ухо:
– Ах, друг мой, я погиб! Принц похитил свою жену; этот человек отвезет ее в какой-нибудь лес, чтобы там убить, или, по меньшей мере, вывезет ее за пределы Франции.
Вслед за тем король тотчас собрал свой совет, чтобы выяснить, что следует делать в столь серьезных обстоятельствах.
Этот совет составляли Жаннен, Сюлли, Вильруа и канцлер Белльевр, и каждый из них высказал свое мнение.
Один высказался за то, чтобы король издал указ: это был канцлер Белльевр; второй – за то, чтобы ограничиться депешами и переговорами: это был Вильруа; третий посоветовал использовать это происшествие как повод для объявления войны Нидерландам: это был президент Жаннен; четвертый полагал, что нужно хранить м о л ч а н и е и ничего не делать: это был Сюлли.
Наконец свое мнение выразил Бассомпьер, совет которого также пожелал выслушать король:
– Государь! Сбежавшего подданного очень скоро оставляют все, если монарх не выказывает никакого желания позаботиться о том, чтобы его погубить. Если вы проявите хоть малейшее старание снова увидеть господина Принца, ваши враги найдут удовольствие в том, чтобы досадить вам, радушно приняв его и оказав ему помощь.
Так что вначале были предприняты переговоры с эрцгерцогом; однако министры Испании и маркиз Спинола сорвали все эти замыслы.
Агентами короля был подкуплен паж принца де Конде, звавшийся малышом Туара и впоследствии ставший маршалом Франции. Маркиз де Кёвр, французский посол в Брюсселе, получил от короля все полномочия похитить принцессу и привезти ее обратно во Францию. Похищение было намечено на 13 февраля 1610 года, субботу. Принцесса, никогда не испытывавшая особой любви к своему мужу, дала на это согласие.
Однако накануне того дня, когда похищение должно было произойти, все эти замыслы были раскрыты и заговор провалился.
Принц кричал во все горло, испанские министры жаловались; однако все разоблачения основывались на устных свидетельствах, никаких доказательств в руках у жалобщиков не было, и маркиз де Кёвр отрицал все.
«Обычная манера послов, не сумевших добиться успеха», — простодушно замечает историк, у которого мы позаимствовали эти подробности.
Видя, насколько ему небезопасно находиться в Брюсселе, принц де Конде удалился в Милан, оставив жену на попечении инфанты Изабеллы, приказавшей охранять ее, словно пленницу.
На этот раз король окончательно потерял голову и написал принцу де Конде, обещая ему полное прощение, если он вернется, и угрожая ему всем своим гневом, если он не вернется. В последнем случае он будет объявлен «упорствующим в бунте и виновным в оскорблении величества».
Принц заверил короля в своем уважении к нему и своей невиновности, но заявил, что он не вернется.
Узнав, что принцесса осталась в Брюсселе, король направил все свои усилия в эту сторону.
От имени коннетабля и герцогини Ангулемской он отправил туда г-на де Прео с приказом вытребовать принцессу: в своем послании господин коннетабль и герцогиня Ангулемская писали, что они желают, чтобы принцесса присутствовала на короновании королевы, которое должно было состояться 10 мая.
Однако испанский двор наотрез отказался возвратить принцессу.
И тогда король решил объявить войну Австрии и Испании.
Предлогом стала помощь курфюрсту Бранденбургскому в его борьбе с императором Рудольфом.
Это явилось большим успехом для Конде и врагов Генриха IV.
Его разрыв с королем и война, начавшаяся из-за него, превращали его в испанского ставленника на трон Франции.
Прежде очень хотели объявить королем малолетнего внебрачного сына мадемуазель д'Антраг.
На этот раз все складывалось еще лучше: со старым распутником Беарнцем вели войну, Людовика ХШ объявляли незаконнорожденным, плодом супружеской измены, предъявляли доказательства этого и избирали королем Конде.
Был ведь в свое время еще один претендент на французскую корону – Карл X, ставленник Лиги.
Испания, имевшая на руках все козыри, непременно должна была получить поддержку Провидения.
И вот 14 мая 1610 года, в четыре часа пополудни, Генрих IV был убит.
Приведем все подробности относительно этой трагедии и ее виновника, а вернее, ее виновников, какие нам удалось собрать.
XIV
Мы уже говорили о странных наклонностях юного герцога Вандомского и о том, как эти наклонности огорчали Генриха IV.
Король рассудил, что в Париже есть только одна женщина, способная избавить от них принца, и, будучи хорошим отцом, решил уладить дело лично.
Этой женщиной была знаменитая мадемуазель Поле.
Анжелика Поле родилась примерно в 1592 году, так что ко времени смерти короля ей было лишь восемнадцать лет.
Позднее Сомез поместит ее под именем Парфении в свой «Большой словарь жеманниц».
Она была дочерью Шарля Поле, камер-секретаря короля и изобретателя налога, по его имени названного полеттой.
Данный налог представлял собой подать, которую ежегодно выплачивали чиновники, занимавшие судейские и финансовые должности, дабы в случае смерти сохранить за своими наследниками право распоряжаться этими должностями.
Мадемуазель Поле обладала необычайной живостью, была стройной, очаровательной, прекрасно танцевала, восхитительно играла на лютне и пела лучше всех своих современниц.
Это по ее поводу сочинили небылицу о соловьях, которые умерли от зависти, слушая ее пение.
«Однако волосы у нее были рыжие».
Заметьте, что вовсе не я сетую на это, а Таллеман де Рео. Но эти рыжие волосы были такого восхитительного оттенка, что лишь прибавляли ей очарования.
Да вот посмотрите лучше, что говорит о ней Сомез:
«Да послужит вам утешением, рыжеволосые дамы, Пар– фения, о которой я говорю и у которой волосы рыжие: примера одной этой жеманницы достаточно, чтобы понять, что рыжеволосые способны внушать любовь точно так же, как брюнетки и блондинки».
Она участвовала в балете, благодаря которому мадемуазель де Монморанси завладела сердцем короля. В этом балете она появлялась верхом на дельфине и тоже была настолько очаровательна, что о ней сочинили следующее четверостишие:
Кто был милее всех в балете?..
Нет спору, барышня Поле:
Дельфина оседлав, она на нем несется ...
Но кто ж в итоге на нее взберется?
При этом она распевала своим восхитительным голосом стихи Ленжанда, начинавшиеся так:
Я тот самый Амфион ...
Не сумев заполучить для себя прекрасную танцовщицу, звавшуюся мадемуазель де Монморанси, Генрих IV решил хотя бы для своего сына заполучить прекрасную певицу по имени мадемуазель Поле.
Мадемуазель Поле была первой женщиной, получившей прозвище «львица», которое возрождено в наши дни и дается в тех же обстоятельствах.
Судите сами:
«Пыл, с которым она любила, — говорит Таллеман де Рео, – ее отвага, ее гордость, ее живые глаза, ее потрясающие золотые волосы – все это заставило дать ей прозвище львица».
Как уверяют, Генрих IV был убит на пути к мадемуазель Поле, к которой он отправился, преследуя чисто отцовские цели.
Приведем некоторые подробности, касающиеся убийцы.
«Был в Ангулеме, — пишет Мишле, – человек образцового поведения, своим трудом доставлявший пропитание матери и безмерно почитавший ее. Звали его Равальяк. К несчастью для него, он обладал мрачной внешностью, что вызывало недоверие к нему».
Присущее ему зловещее выражение лица проистекало из его личных несчастий. Его отец разорился, и мать разошлась с ним. Чтобы оказывать помощь матери, сын стал лакеем советника парламента, судебной ищейкой; но, когда не было судебных разбирательств, не было и жалованья; и тогда он брал учеников, плативших ему съестными припасами, в зависимости от торговли, которую вели их родители.
Однажды в городе произошло убийство. У Равальяка была настолько зловещая внешность, что вину свалили на него. Высокий и сильный, он обладал могучими руками и тяжелыми кулаками; будучи по натуре желчным, был желт лицом; волосы на голове и борода у него были темно-рыжими, с медным отливом. Понятно, что все это делало его вид крайне непривлекательным.
Тем не менее он никоим образом не был виновен в убийстве, в котором его обвиняли. После года, проведенного в тюрьме, он вышел оттуда полностью оправданный, но еще более желчный, чем прежде. Кроме того, на нем было столько долгов, что, выйдя из тюрьмы через одну дверь, он вернулся туда через другую. Именно в этой долговой тюрьме у него началось умопомрачение: он принялся писать скверные стихи, пошлые и вычурные, как у Ласенера. Затем у него стали возникать видения. Однажды, зажигая свечу, он увидел виноградную ветвь, которая удлинялась, меняя форму, и в конце концов превратилась в трубу; он поднес эту трубу ко рту, и она сама по себе издала воинственную фанфару, а пока он трубил так, возвещая религиозную войну, из его рта извергались во все стороны целые потоки облаток. С этого времени он осознал, что предназначен для чего-то великого и святого, и потому принялся штудировать богословие, а в особенности изучать вопрос, который так тревожил людей в Средние века: «Позволительно ли убить короля?» и который Равальяк уточнял: «Если этот король является врагом папы». Ему дали почитать труды Марианы и других казуистов, писавших на эту тему.
То ли его долги в итоге были выплачены, то ли его кредитору или кредиторам надоело кормить его за свой счет, но, так или иначе, из тюрьмы он вышел. Именно тогда он рассказал о своих видениях и о них пошли слухи; тотчас же герцогу д'Эпернону, уже известному вам бывшему фавориту Генриха III, дали знать, что в городе живет некий благочестивый человек, на которого снизошел Дух Божий и который родился на площади, носящей имя самого герцога. Герцог д'Эпернон увиделся с Равальяком, выслушал его бредни, понял, какую пользу можно извлечь из человека, который спрашивает у всех подряд: «Допустимо ли убить короля, если он враг папы?», и, поручив ему наблюдать за какой-то судебной тяжбой, затеянной им в Париже, дал ему письма к старику д'Антрагу, приговоренному, напомним, к смертной казни за участие в заговоре против Генриха IV, и к Генриетте д'Антраг, этой непокорной любовнице короля, все еще враждовавшей с ним. Отец и дочь радушно приняли Равальяка, предоставили ему лакея в качестве сопровождающего и, чтобы ему было где остановиться в Париже, снабдили его адресом дамы, состоявшей в свите Генриетты.
Звали эту даму г-жой д'Эскоман.
Госпожа д’Эскоман была чрезвычайно напугана при виде этой мрачной личности и подумала, что в дом к ней явилось само несчастье; и в этом она не ошиблась; однако отзывы о нем были настолько благоприятны, что она, тем не менее, приняла его приветливо, а затем, видя, насколько он кроток и благочестив, изменила свое мнение о нем и поручила ему какое-то дело во Дворце правосудия.
Однако Равальяк не остался в Париже; герцог д'Эпернон питал к нему такое доверие, что отправил его в Неаполь. И вот там, обедая вместе с Эбером, он, как мы уже говорили, заявил, что намерен убить короля.
И в самом деле, настал момент убить короля. Он только что поручился за безопасность Голландии и отверг двойной испанский брак.
Поспешно вернувшись в Париж, чтобы исполнить свой замысел, Равальяк остановился у своей прежней хозяйки и, зная ее как доверенное лицо врагов короля, поведал ей о своих планах.
Несчастная женщина была легкомысленной и ветреной, но у нее было доброе сердце, сердце француженки; планы Равальяка ее испугали, и она решила спасти короля.
Все это происходило в самый разгар безумной любви Генриха IV к мадемуазель де Монморанси, и он не думал ни о чем, кроме бегства в Испанию своего племянника Конде. Правда, тот позаботился напомнить королю, что живет у его врагов.
Действуя якобы в интересах народа, он выступил с воззванием против короля.
Это воззвание вызвало сочувствие у знати и высших парламентских чинов – двух классов, недовольных королем.
Пошли разговоры, что все дети короля вовсе не от него и потому лучше будет, если трон унаследует Конде, а не какой-нибудь бастард.
Все забыли, что, по всей вероятности, Конде и сам был бастард.
Между тем 10 февраля 1610 года Генрих IV заключил военный союз с протестантскими князьями; он напал на Испанию и Италию, и три его армии одновременно вступили в Германию, причем во главе этих трех армий стояли три протестанта.