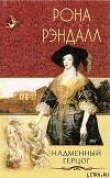Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 55 страниц)
Сделала она это для того, чтобы не видеть свой Люксембургский дворец, строившийся для нее в Сен– Жерменском предместье.
У Людовика было не столь нежное сердце: он стал у окна, чтобы наблюдать за отъездом матери, а когда ее уже нельзя было видеть из окна, выбежал на галерею, чтобы и дальше глазами следить за ее каретой.
Затем, когда все ее кареты скрылись из виду, он с веселым и довольным выражением лица произнес:
– Ну а теперь поехали в Венсен!
Впрочем, если кто-нибудь сомневается в чувствах, которые Людовик XIII питал к своей матери, и если веселого и довольного выражения лица его величества в ту минуту, когда скрылась из виду ее последняя карета, читателю недостаточно для того, чтобы просветить его на этот счет, мы позаимствуем у Бассомпьера одну небольшую забавную историю, которая по времени совпадает с расставанием королевы-матери с ее сыном.
На следующий день после переселения короля в Венсенский замок Бассомпьер вошел в покои короля в ту минуту, когда тот яростно трубил в рог.
– Осторожнее, государь! – обратился к нему Бассомпьер. – Это занятие может сильно навредить вам: говорят, что как раз трубя в рог король Карл Девятый порвал себе крововозвратную жилу и умер от этого.
– Вы ошибаетесь, сударь, – промолвил Людовик XIII, – король Карл Девятый умер не от того, что он порвал себе жилу, трубя в рог: он умер от того, что, когда ему посчастливилось поссориться с королевой Екатериной Медичи, своей матерью, он имел неосторожность помириться с ней и отправиться перекусить в Монсо. Если бы он не возобновил с ней отношения, он не умер бы таким молодым; вам это понятно, господин де Бассомпьер?
– Что ж, – воскликнул Монпуйан, обращаясь к Бассомпьеру, – вы, должно быть, и не подозревали, сударь, что король так много об этом знает?!
– Да, признаюсь, вы правы, сударь, – ответил ему Бассомпьер, – я был далек от мысли, что его величество столь учен!
Мы так долго распространялись обо всей этой мрачной истории, связанной с маршалом д’Анкром, потому, что она является первым пятном крови, опозорившим царствование юного Людовика. Это пятно крови пытались выскоблить из истории того, кто эту кровь пролил, и перенести на сообщников короля; историки очень легко обходят данное трагическое происшествие и всю вину за него возлагают на Люина и Витри.
В «Биографии современников» Мишо, труде в высшей степени роялистском, если, конечно, полагать, что биографический словарь может иметь политические воззрения, по поводу Кончини говорится следующее:
«Образ правления, могущество и гордыня Кончини, вначале маркиза, а затем маршала д'Анкра, стали ненавистны как королю, так и всем французам; снова начались волнения, которые у тихли лишь после смерти фаворита королевы-матери...»
Мы просим прощения у автора «Биографии», однако здесь у него первая ошибка. Волнения вовсе не утихли после смерти фаворита. После его смерти волнения, напротив, только начались, если, конечно, называть волнениями гражданскую войну между матерью и сыном.
Далее в «Биографии» сказано:
«... или, скорее, его убийства, ставшего роковым следствием ПРИКАЗА О ЕГО АРЕСТЕ, буквально вырванного у Людовика XIII».
Вы были свидетелями этого трагического происшествия, дорогие читатели, вы видели, как минута за минутой развивались тогда события, и, надеюсь, больше не верите, что смерть несчастного маршала стала следствием какого-то недоразумения.
Я надеюсь, что настанет день, когда Уголовный кодекс будет определять наказания для тех, кто совершает подлог в исторических сочинениях, подобно тому как он предусматривает наказания для тех, кто подделывает государственные и частные документы. Подлог в государственных и частных документах затрагивает лишь отдельного человека, подлог же в историческом сочинении затрагивает всю нацию.
Впрочем, как можно заметить, мы льстим народу ничуть не больше, чем королям, и в равной мере подвергли осуждению короля, который убивает живого, и народ, который глумится над мертвым.
Народ в домашнем халате зачастую еще безобразнее короля. Это объясняется тем, что у народа нет домашнего халата, а порой нет даже и рубахи. Так что народ в домашнем халате – это голый народ ...
Мы видели, какой прием оказал Людовик XIII епископу Люсонскому, когда тот явился к нему в день убийства маршала д’Анкра.
Тем не менее, когда Мария Медичи добилась разрешения взять с собой в Блуа тех, кого пожелает, она попросила, чтобы подле нее был ее советник Ришелье, и получила на это согласие.
Как уже было сказано, Ришелье, по слухам, исполнял при ней обязанности, отличные от обязанностей советника.
Мария Медичи встретила его с великой радостью.
И тут епископ Люсонский стал делать все, чтобы помирить короля с его матерью.
Однако это никак не устраивало Люина.
Через двадцать шесть дней после отъезда из Парижа епископ Люсонский получил приказ удалиться в свое приорство Куссе в провинции Анжу, что он и сделал. Затем ему было велено отправиться из Куссе в Люсон, а в конце концов – покинуть Францию и удалиться в Авиньон.
Ришелье подчинился и, чтобы заставить забыть о себе, принялся сочинять две самые неудачные книги из всех, какие он написал: «Наставление христианина» и «Защита основных положений нашей веры против адресованного королю письма четырех пасторов из Шарантона».
Он жил там в таком строгом уединении, что ему приходилось преодолевать разного рода препятствия, чтобы принять своего брата-картезианца, который был епископом Люсонским до него, а позднее должен был стать кардиналом Лионским.
По правде сказать, этот старший брат Ришелье, Альфонс Луи Дюплесси, о котором мы уже сказали пару слов, был своеобразным человеком. Поскольку ему было предназначено стать мальтийским рыцарем, то, в предвидении какого-нибудь кораблекрушения, его еще в детстве намеревались научить плавать; однако этой цели так и не удалось достичь. Однажды родители стали резко упрекать его за это, сказав ему, что он ни на что не годен. Уязвленный этими словами, он кинулся прямо к реке и бросился в воду.
Если бы не рыбак, подоспевший со своим челноком, мальчик утонул бы.
Видя, что он и в самом деле ни на что не годен, родители решили сделать его духовным лицом.
Мы уже говорили, что, став епископом Люсонским, он отдал эту епархию своему брату, которого тоже сделали духовным лицом, но как раз потому, возможно, что он был годен на все!
Монахи-картезианцы из Великой Шатрёзы, где он пребывал, назначили его своим доверенным лицом в споре с одним дворянином, отличавшимся невероятной грубостью, и дворянин этот отколотил его палкой. Он по-христиански снес полученное оскорбление и всегда отказывался мстить за него, даже во времена наивысшего могущества своего брата, когда он и сам стал кардиналом.
Какой-то астролог предсказал ему, что однажды он подвергнется великой опасности из-за ранения в голову.
И вот, когда он ехал навестить своего брата в Авиньоне, на голову ему упала цепь подъемного моста и чуть было не убила его.
Одна из его маний состояла в том, что порой он воображал себя Богом Отцом. Как-то раз он ночевал в доме, хозяева которого предоставили ему кровать с пологом, расшитым головками ангелов и херувимов.
Он спал в ней с таким блаженством, что его слуги воскликнули:
– В этом нет ничего удивительного: на этот раз он и вправду вообразил себя Богом Отцом!
Госпожа д'Эгийон, его племянница, которой мы вскоре займемся, однажды сказала Фердинанду, знаменитому художнику-портретисту, написавшему для Генриха IV портрет принцессы де Конде:
– Фердинанд, напишите для нас портрет кардинала Лионского в образе Бога Отца, но только постарайтесь придать ему благочестивый вид.
И в самом деле, будущий кардинал Лионский вовсе не блистал благочестием; напротив, он был весьма мирским человеком, хотя привязанность к мирским благам никогда не доходила у него до того, чтобы вовлечь его в грех. Он очень любил беседовать с дамами и получал удовольствие, слушая пение кастрата Берто, которого г-жа де Лонгвиль называла хворым Берто.
Как-то раз, когда в одной компании было предложено перерядиться, он не только не воспротивился этому, но сам переоделся пастушком, как и все остальные.
Он был одновременно рассеян и наивен.
Когда он стал кардиналом, один дворянин из Лионской епархии привел к нему своего сына, чрезвычайно уродливого, с просьбой посвятить его в духовный сан; однако кардинал наотрез отказался сделать это.
Когда же дворянин попросил объяснить ему причину этого отказа, он заявил:
– Вы что, насмехаетесь над Господом, предлагая ему такое отребье рода человеческого?
И ничто не могло побудить его посвятить несчастного горбуна в духовный сан.
Аббат Кадрусс пришел повидаться с кардиналом в то время, когда тот находился в Венессенском графстве.
Кардиналу доложили о приходе аббата.
– Пусть войдет, – сказал кардинал.
Аббат входит.
Кардинал смотрит на него.
– В чем дело? – спрашивает он.
– Дело в том, монсеньор, что я аббат Кадрусс.
– И чего вы от меня хотите?
– Я пришел, чтобы иметь честь почтительно поклониться вам.
– Если вы пришли ради этого, то кланяйтесь и убирайтесь прочь!
Аббат поклонился и ушел.
Пока епископ Люсонский находился в Авиньоне, Люин наслаждался своим богатством и получал все более высокие звания, ничуть не тревожась из-за того, что о нем сочиняли сатирические песенки. Напрасно было петь ему хоть в уши:
Своих двух братьев взяв для пользы дела,
Идет Люин, ретивый без предела,
И, если Бог сию беду попустит,
К утру он Францию по миру пустит.
Или же:
О Франция, с тобой скорблю я не один!
Бессильной стала ты не без причины:
Сперва тебя на зуб попробовал Кончини,
Затем вконец добил болван Люин.
Впрочем, у Люина было дело куда поважнее, чем слушать сатирические песенки: Люин женился; он взял в жены мадемуазель де Монбазон, Мари де Роган, ставшую позднее г-жой де Шеврёз.
Скажем несколько слов о родителях коннетабльши, прежде чем говорить о ней самой.
Она была дочерью Эркюля де Рогана, герцога де Монбазона.
Этот Роган был высоким, прекрасно сложенным мужчиной и в физическом отношении вполне соответствовал своему имени Геркулес. Для галереи своего особняка он заказал картину, на которой был изображен его слепой отец, указающий ему пальцем на небо и произносящий при этом полустишие Вергилия:
Disce, puer, virtutem ...[40]
Между тем этому отроку было сорок пять лет и он имел невообразимо величественную бороду.
Видя, как околевает его любимая лошадь, он печально произнес:
– Бог мой! Вот то же случится и с нами!
– Когда родит ваша жена? – спросила его как-то раз королева.
– Когда будет угодно вашему величеству! – учтиво ответил герцог.
Следует признать, тем не менее, что его ответы не всегда были столь вежливыми.
Однажды в присутствии королевы-матери, которая была итальянкой, и молодой королевы, которая была испанкой, он произнес:
– Я не итальянец и не испанец: я человек чести.
Как-то вечером, когда его стала удерживать королева, он промолвил:
– Сударыня, прошу вас, позвольте мне уйти: меня ждет жена, а стоит ей заслышать какую-нибудь лошадь, как она уже думает, что это я.
Впрочем, его сын, принц де Гемене, придерживался того же мнения, что и г-жа де Монбазон, ибо, рассказывая о забаве при Ле-Пон-де-Се и объясняя, как, проезжая по плотине, его отец свалился в воду, он добавлял:
– Я бросился спасать его и, в самом деле, вытянул из воды лошадиную голову, но по шишкам у мундштука понял, что это не мой отец.
Поскольку, говоря в присутствии герцога де Монбазона о святом Павле, его называли избранным сосудом, герцог решил, что «Избранным» именовалось судно, доставившее святого апостола в Коринф. И потому однажды он поинтересовался, было ли это судно хорошим кораблем и сколько матросов насчитывалось в его команде.
Он никогда не входил в Лувр, не спросив: «Который теперь час?»
Как-то раз ему ответили: «Одиннадцать часов», и он рассмеялся.
– Это что, – заметил г-н де Кандаль, – он засмеялся бы еще громче, если бы ему ответили, что уже полдень!
Посетив в первый день нового года королеву-мать, он воскликнул:
– Ну вот, сударыня, наконец-то мы в наступающем году!
На двери своей конюшни он приказал начертать:
«25 октября 1637 года я приказал установить эту дверь, чтобы входить в мою конюшню».
Если вам не приелся еще г-н де Монбазон, обратитесь за другими его нелепыми высказываниями к г-же де Севинье и почитайте ее письмо к г-же де Гриньян, датированное 29 сентября 1675 года.
Поскольку ни его дочь, ни его сын, принц де Гемене, ничуть не пошли в отца в отношении умственных способностей, то все задавались вопросом, как это г-н де Монбазон, который был так глуп, сумел произвести на свет двух столь остроумных детей. Некоторые утверждали, что знают разгадку этой тайны, однако такая разгадка не делала чести первой жене г-на де Монбазона.
У его сына, о котором мы скажем сейчас несколько слов, чтобы больше к нему не возвращаться, была странная привычка обнюхивать все, что он ел. А поскольку принц был близорук и нос имел длинный, он окунал свой нос во все, что ел; тем, кто сидел за одним столом с ним, видеть это было крайне неприятно, настолько неприятно, что, когда кто-то засомневался в благочестии принцессы де Гемене, коннетабльша воскликнула:
– О, если бы моя невестка не была по-настоящему благочестивой женщиной, она не ела бы вместе с моим братом.
Господин де Гемене в изобилии сыпал тем, что сегодня называется остротами.
Арно де Корбевиль, который в молодости был комендантом Филипсбурга и сдал его, позднее был заключен в Бастилию и вышел оттуда, помилованный королем.
В тот же вечер король объявил новость:
– Господа, Арно вышел из Бастилии.
– Я нисколько не удивлен этим, – заявил принц де Гемене, – ведь он легко вышел из Филипсбурга, а эта крепость куда сильнее Бастилии!
Когда ему с великой радостью сообщили, что королева Анна впервые ощутила, как в утробе у нее пошевелился дофин, он заметил:
– Прекрасно! Вот он уже и дает пинка собственной матери! Правда, ему было от кого это перенять!
Однажды, когда Гастон Орлеанский протянул ему руку, чтобы помочь спуститься с помоста, он сказал:
– Ах, монсеньор, что за чудо: вы впервые протягиваете руку одному из ваших друзей, чтобы помочь ему спуститься с эшафота!
Он постоянно препирался со своим дядей, г-ном д'Авогуром, поскольку каждый из них поднимал другого на смех по поводу его княжеского достоинства.
Господин д'Авогур притязал на право въезжать в карете во двор Лувра, но никак не мог добиться этой милости.
– Почему бы ему не въезжать через кухонные ворота? – съязвил принц де Гемене. – Это его право!
(Господин д'Авогур происходил от Ла Варенна.)
Как-то раз, во время солнцепека, кучер г-на д'Авогура поставил лошадей в тени крытого въезда во дворец Гемене.
– Въезжай, въезжай! – крикнул ему принц де Гемене. – Дворец Гемене это не Лувр.
Госпожа де Гемене имела несколько любовных увлечений, и было замечено, что все ее любовники плохо кончали. Она последовательно была любовницей г-на де Монморанси, графа Суассонского, г-на де Бутвиля и г-на де Ту: Монморанси, Бутвиля и де Ту обезглавили, а графа Суассонского убили выстрелом из пистолета.
Кроме того, она была матерью принца Луи де Рогана, которому отрубили голову в Бастилии 27 ноября 1674 года за оскорбление величества.
Вернемся, однако, к г-же де Шеврёз, которую в то время называли коннетабльшей, и будем называть ее так же, как это делали все.
Коннетабль жил в Лувре вместе с женой.
Король был весьма накоротке с ней, и они предавались совместным шалостям, но дальше шалостей дело у них никогда не заходило. Между тем госпожа коннетабльша заслуживала всяческого внимания: она была красивой, лукавой, чрезвычайно бойкой и сговорчивой.
Однажды, когда ее заигрывания стали до такой степени откровенными, что они оскорбили стыдливость короля, он промолвил:
– Сударыня, предупреждаю вас, что своих любовниц я люблю только от пояса и выше.
– Ну что ж, государь, – ответила коннетабльша, – тогда ваши любовницы поступят, как Толстый Гийом: они опустят свой пояс на середину бедер.
У нас будет еще не один случай увидеть, как Людовик XIII применял на практике эту теорию своей любви к женщинам; но не будем забегать вперед, как сказал бы традиционный историк.
Пока Люин женился в Париже, вот что происходило в двух концах Франции – в Меце и Блуа.
В Блуа в ночь с 21 на 22 февраля королева-мать, которую ее сын мало-помалу превратил в пленницу, из окна своего кабинета, с высоты не менее двадцати футов, спустилась по приставной лестнице на внутреннюю террасу, располагавшуюся на высоте около тридцати футов над уровнем улицы.
Ее сопровождали горничная, граф де Бренн и трое или четверо слуг.
Однако во время этого воздушного пути пленница натерпелась такого страха, что, оказавшись на террасе, она заявила, что там и останется, если для нее не найдут иного способа совершить второй спуск.
Тогда ее поместили на плащ и осторожно спустили его вниз с помощью веревок; там присоединившиеся к ней граф де Бренн и Дюплесси подхватили ее на руки и отнесли в карету, ожидавшую ее по другую сторону моста Блуа.
Они благополучно добрались до Монришара.
Там их ждал архиепископ Тулузский, заранее предупрежденный о бегстве королевы-матери.
Сменив несколько раз лошадей, они рано утром прибыли в Лош.
Там к Марии Медичи должен был присоединиться герцог д’Эпернон, которому для этого следовало пересечь Францию. И в самом деле, герцог выехал из Меца, губернатором которого он был, вместе с двумя сотнями дворян; с обеих сторон все было устроено настолько предусмотрительно, что он прибыл в Лош на другой день после приезда туда королевы.
Было просто поразительно, что короля не предупредили о бегстве матери!
Лакей аббата Ручеллаи, руководившего всей этой интригой, вез королеве-матери письмо, которое уведомляло ее о дне отъезда герцога д’Эпернона из Меца и, в то же самое время, давало ей знать о тех мерах, какие были предприняты для того, чтобы препроводить ее в Ангулем.
Лакей подозревает, что письмо, которое ему было поручено доставить, содержит важные сведения и что король будет очень рад ознакомиться с ним; так что он отправляется прямо в Париж, обращается к слугам Люина и говорит им, что располагает важной тайной и готов раскрыть ее фавориту, если только тот хорошо ему заплатит.
Люин пренебрегает этим сообщением и вынуждает лакея ждать до тех пор, пока советнику Дюбюиссону, преданному стороннику королевы-матери, не становится известно, что упомянутый лакей, доверенное лицо д’Эпернона и Ручеллаи, находится в городе. Удивленный тем, что этот человек не явился повидаться с ним, как он это всегда делал в ходе своих прежних поездок, Дюбюиссон осведомляется о местонахождении лакея и узнает, что его видели у дверей Люина. Советник ставит там в
засаде человека; тот опознает лакея, по-прежнему пытающегося попасть к фавориту, и начинает вести переговоры с ним, выступая якобы от имени Люина, затем вручает ему пятьсот экю и забирает у него письмо.
Что сталось с лакеем? Об этом никто ничего не знает.
«Те, кого он обманул, – сообщает летописец, – по всей вероятности, приказали убить его, чтобы забрать обратно свои деньги».
Если бы Люин встретился с этим человеком, все дело провалилось бы.
Но он был занят чрезвычайно важным вопросом, решение которого наталкивалось на известные трудности: речь шла о том, чтобы заставить короля довершить его брак с королевой.
Но как получилось, что по прошествии четырех лет после венчания брак так и не был довершен?
Поясним это. Перед нами самая что ни на есть типичная подробность из числа тех, с какими имеет дело история, рисующая людей в их домашнем халате.
Мы уже рассказывали о том, что, когда встал вопрос о браке короля и испанской инфанты, Людовик XIII, желая выяснить, на ком его заставляют жениться, отправил отца своего кучера Сент-Амура в Мадрид, чтобы получить от него отчет о принцессе.
Отчет оказался благоприятным, и король, отправившись навстречу будущей королеве Франции, доехал до Бордо.
Однако в Бордо его вновь охватил страх: отец его кучера, столь прекрасно разбиравшийся в лошадях, мог и не разбираться так же хорошо в женщинах.
И король поручил Люину доставить письмо инфанте, чтобы проверить свидетельство Сент-Амура.
Так что Люин отправился навстречу кортежу маленькой королевы (именно так называли Анну Австрийскую, чтобы отличить ее от королевы-матери).
С этим кортежем Люин встретился лишь по другую сторону от Байонны.
Он тотчас спешился, опустился на одно колено, промолвив: «По поручению короля», и одновременно подал инфанте письмо Людовика XIII.
Анна Австрийская взяла письмо, распечатала его и прочла:
«Сударыня, не имея возможности, при всем своем желании, находиться подле Вас во время Вашего въезда в мое королевство, дабы ввести Вас во владение властью, коей я в нем обладаю, равно как и дать Вам знать о моем глубоком стремлении любить Вас и служить Вам, я посылаю Вам Люина, одного из самых преданных моих слуг, чтобы он поприветствовал Вас от моего имени и сказал Вам, что я с нетерпением ожидаю Вас, дабы самолично предложить Вам то и другое. А потому, сударыня, прошу Вас принять его милостиво и верить тому, что он скажет Вам от моего имени, то есть от имени Вашего предупредительнейшего друга и слуги.
ЛЮДОВИК».
Инфанта вежливо поблагодарила посланца, попросила его вновь сесть в седло и ехать рядом с ее дорожными носилками, а затем продолжила путь, всю дорогу беседуя с Люином. На следующий день она вручила ему свое ответное послание, написанное по-испански. Анна Австрийская еще не писала и не говорила по-французски.
«Senor,
Mucho те he holgado con Luynes, con las buenas nuevas que me ha dado de la salud de Vuestra Majestad. Yo ruego por elle, у muy deseosa de llegar donde pueda servir a mi madre. Y asi me doy mucha priesa a caminar por la soledad que me haze, у bezar a Vuestra Majestad la mano a quien Dios guarde, сото deseo.
Bezo las manos a Vuestra Majestad.
ANA».
Что означает:
«Государь,
я с удовольствием увиделась с г-ном де Люином, который сообщил мне добрые вести о здоровье Вашего Величества. Я молюсь за Вас и полна желания сделать для Вас то, что может быть приятно моей матери; так что мне не терпится завершить мое путешествие и поцеловать руку Вашему Величеству.
АННА».
Люин взял это послание и галопом помчался обратно.
И в самом деле, ему следовало сообщить королю добрую весть: инфанта была восхитительно красива.
Однако, то ли тут дело было в вожделении, что маловероятно, то ли, скорее, в недоверчивости, в этом вопросе Людовик XIII полагался на Люина ничуть не больше, чем на отца Сент-Амура: он хотел увидеть инфанту собственными глазами.
Так что он выехал верхом, с несколькими сопровождающими, среди которых были Люин и герцог д’Эпернон, остановился у въезда в небольшой городок, расположенный в пяти или шести льё от Бордо, обогнул этот городок, через заднюю дверь вошел в выбранный заранее дом и расположился на его первом этаже.
Спустя час в этот городок въехала инфанта.
Герцог д’Эпернон, имея на то приказ, остановил дорожные носилки, чтобы обратиться к маленькой королеве с приветственной речью, причем сделал это в точности напротив дома, где спрятался Людовик XIII.
Дабы учтиво выслушать герцога, Анна Австрийская была вынуждена по пояс высунуться из дверцы носилок. Вот тогда-то король и рассмотрел ее в свое удовольствие.
По завершении приветственной речи инфанта продолжила путь, а король, в восторге от того, что инфанта оказалась, на его взгляд, еще красивее, чем ему говорили, снова сел в седло и во весь дух помчался в Бордо, куда он прибыл намного раньше инфанты.
И правда, если верить всем историкам того времени, Анна Австрийская отличалась совершенной красотой. Она была высокой, прекрасно сложенной, и еще ни одна королева не повелевала жестом такой белоснежной и изящной руки, какой обладала она; зеленоватый цвет ее изумительно красивых, легко распахивающихся глаз придавал им бесконечную ясность; ее небольшой алый рот казался одушевленной улыбающейся розой; наконец, ее длинные шелковистые волосы имели тот восхительный пепельный оттенок, какой придает лицам, которые волосы подобного цвета обрамляют, одновременно нежность блондинок и живость брюнеток.
Церемония венчания состоялась 25 ноября 1615 года в Бордо; но, поскольку августейшим новобрачным не было на двоих еще и двадцати восьми лет, к брачному ложу обоих сопроводили их кормилицы, которые оставались рядом с ними все те пять минут, какие они лежали вместе; после чего кормилица короля заставила его величество подняться, и инфанта осталась одна.
Брак следовало довершить лишь спустя четыре года.
Вот почему только в 1619 году Люин озаботился этим вопросом: довершение брака должно было состояться в Сен-Жермене, причем в то самое время, когда Мария Медичи бежала из замка Блуа.
IV
Мы затрудняемся сказать, как далеко продвинулся Людовик XIII в чрезвычайно важном деле, занимавшем его в то время, когда ему пришло отправленное из Лоша письмо, которым королева-мать извещала своего сына, что, претерпев в Блуа все неудобства настоящего тюремного заключения, она сочла необходимым попросить своего кузена, герцога д’Эпернона, вызволить ее оттуда и дать ей возможность удалиться в Ангулем.
Это было просто-напросто объявление гражданской войны, пришедшее по почте.
Люина охватил сильный страх; он прекрасно понимал, что угроза направлена главным образом против него. И потому он пребывал в весьма мрачном настроении, когда, войдя после получения этого известия в покои своей жены, обнаружил там ожидавшего его капуцина.
Поскольку такое общество не было обычным для красавицы Мари де Роган, Люин осведомился, что это за человек.
То был Франсуа Леклер дю Трамбле, по прозванию отец Жозеф, тот самый, кого впоследствии стали называть Серым Преосвященством.
Он явился предложить Люину средство заключить мир с Марией Медичи.
– И что это за средство? – поинтересовался Люин.
– Послать к ней епископа Люсонского.
– Я опасаюсь его честолюбия, – промолвил Люин.
– Подумаешь! – ответил отец Жозеф. – Он хочет быть кардиналом, только и всего.
– Ладно; если он желает только этого, – произнес Люин, – его сделают кардиналом.
Тотчас же он написал епископу Люсонскому письмо с призывом отправиться к королеве в Ангулем; внизу письма король собственной рукой написал:
«Прошу Вас верить, что изложенное выше выражает мою волю и что Вы доставите мне величайшее удовольствие, исполнив ее».
Ришелье отправился на почтовых, прибыл к воротам Ангулема, но, перед тем как въехать в них, попросил у герцога д’Эпернона разрешения вступить в город. Такая почтительность покорила д’Эпернона, и он пригласил благочестивого епископа остановиться у него в доме. Уже на следующий день епископ Люсонский стал канцлером королевы-матери.
Отец Жозеф не ошибся: соглашение между королем и королевой-матерью было достигнуто. Людовик XIII лично отправился в замок Кузьер возле Тура, принадлежавший герцогу де Монбазону, и встретился с ожидавшей его там Марией Медичи.
– Сын мой, – промолвила Мария Медичи, увидев Людовика XIII, – вы сильно выросли с тех пор, как я вас не видела.
– Это чтобы услужить вам, сударыня, – ответил король.
При этих словах мать и сын обнялись, как это делают люди, не видевшиеся в течение двух лет.
Тем временем случились два незначительных происшествия, которые ничего не изменили в ходе событий.
Темин, утверждавший, что епископ Люсонский нарушил данное ему слово, потребовал объяснений по этому поводу у маркиза де Ришелье, старшего брата епископа Люсонского.
Маркиз де Ришелье не любил Темина: данное им объяснение состояло в том, что он взял в руку шпагу. Темин сделал то же самое.
На третьем выпаде маркиз де Ришелье получил сквозной удар шпагой и тотчас испустил дух.
Таково было первое происшествие.
Второе же состояло в том, что было названо забавой при Ле-Пон-де-Се.
Мы приведем лишь те положения из мирного договора между матерью и сыном, которые нам важно знать.
«Герцог д'Эпернон вновь входит в милость.
Архиепископ Тулузский и епископ Люсонский получают кардинальские шапки.
Госпожа Виньеро де Пон-Курле, племянница Ришелье, получает от королевы-матери приданое в двести тысяч ливров и выходит замуж за Комбале, племянника Люина».
Антуан дю Рур де Комбале был чрезвычайно уродлив и крайне плохо сложен; лицо его было усеяно красным пятнами, и он не владел никаким состоянием, кроме того, что принесла ему в качестве приданого жена.
В итоге она прониклась к нему страшной неприязнью, и, когда он погиб, сражаясь с гугенотами, молодая вдова, опасаясь, что ее снова принесут в жертву каким-нибудь государственным интересам, дала обет не выходить замуж во второй раз и стать кармелиткой.
С тех пор – не срезав, однако, ни единого волоса со своей головы, а волосы у нее были необычайно красивы – она одевалась столь же скромно, как это могла бы делать какая-нибудь пятидесятилетняя богомолка, носила платья из гладкой одноцветной шерстяной ткани, никогда не поднимала глаза и, будучи камерфрау королевы-матери, постоянно находилась в таком наряде при дворе.
Подобная манера вести себя была присуща ей довольно долго. Но, поскольку молодая вдова явно становилась все более и более красивой, а ее дядя, со своей стороны, становился все более и более могущественным, она начала украшать свои наряды фестонами, выпускать локоны, прицеплять к волосам небольшой черный бант, наряжаться в шелковые платья и в конечном счете вела в обычай, что вдовы во Франции стали носить одежду любых цветов, кроме зеленого.
Наконец, когда герцог де Ришелье был объявлен первым министром, ее руки попросил граф де Бетюн, а затем граф де Со, звавшийся впоследствии г-ном де Ледигьером.
Однако ей хотелось выйти замуж за графа Суассонского, и, возможно, дело бы выгорело, не будь Комбале, ее покойный супруг, столь низкого происхождения.
И потому были предприняты попытки заставить всех поверить, что ее брак не был довершен; Дюло, придумавший буриме и именовавшийся архиепископским поэтом, поскольку он из милости жил в доме у кардинала де Реца, архиепископа Парижского, составил анаграмму из ее имени Marie de Vignerot (Мари де Виньеро), углядев в нем слова: VIERGE DE TON MARI («девственница твоего мужа»).
Но все это не побудило графа Суассонского жениться на ней. Правда, Дюло не был неоспоримым прорицателем.
Некогда он был священником в Нормандии. Там, помимо того, что ему приходилось служить мессы, он в качестве наставника занимался еще и воспитанием аббата Тийера, родственника маршала де Бассомпьера.
Однажды, то ли по рассеянности, то ли охваченный желанием сказать правду, он, вместо того чтобы воскликнуть: «Dominus vobiscum![41]», произнес: