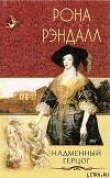Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 55 страниц)
Генрих II де Монморанси родился в Шантийи 30 апреля 1595 года; стало быть, ему было не более тридцати двух лет, когда он встал на сторону герцога Орлеанского. Хотя и страдая косоглазием, он обладал приятной внешностью, и, хотя его речь была невнятной, жесты его отличались таким изяществом, что, перестав вслушиваться в его слова, все лишь наблюдали за его жестикуляцией. Нередко, начав какое-нибудь приветствие или какой– нибудь рассказ, он останавливался на полпути. Впервые появившись у г-жи де Рамбуйе, он впал в такое замешательство, что начатую им фразу пришлось заканчивать кардиналу де Ла Валетту, пришедшему ему на помощь; но в это же самое время герцог продолжал так ловко сопровождать жестами те слова, какие говорил кардинал, что в итоге именно ему достались похвалы за это приветствие, хотя произнесено оно было другим.
– Господи Иисусе! – воскликнул герцог де Кандаль, старший сын г-на д'Эпернона. – Как же повезло этому человеку, что у него есть руки!
Вдобавок герцог де Монморанси был богат, храбр, галантен, щедр, прекрасно танцевал, превосходно держался в седле, содержал на жалованье остроумцев, заказывал для себя стихи Теофилю и Мере и охотно подавал бедным, будучи любим всеми и обожаем теми, кто входил в его окружение.
Однажды он услышал, как в гостиной какой-то дворянин сказал:
– Если бы мне удалось занять где-нибудь двадцать тысяч экю всего лишь на два года, я сделал бы себе состояние.
Герцог отвел его в сторону и сказал ему:
– Приходите ко мне завтра, сударь: мне есть что вам сказать.
Дворянин явился по приглашению и увидел на столе отсчитанные двадцать тысяч экю.
Через год, разбогатев, этот дворянин пришел вернуть ему деньги.
– Оставьте их себе, – промолвил герцог, – Монморанси не ссужают: они дают.
Когда же должник стал настаивать, он прибавил:
– Сударь, я вполне вознагражден удовольствием видеть дворянина, который держит свое слово; оставьте 479
у себя эти двадцать тысяч экю; вы огорчите меня, заставив взять их обратно.
Как-то раз герцог де Монморанси послал маркизе де Сабле, любовником которой он был, дарственную на земельную ренту в сорок тысяч ливров; однако маркиза отправила ему дарственную обратно, и, поскольку в отношении денег она была строже упомянутого дворянина с двадцатью тысячами экю, ничто не могло заставить ее принять такой подарок.
Женщина, которая отказывается от дарственной на земельную ренту в сорок тысяч ливров, заслуживает того, чтобы ей уделили минуту внимания; сразу же после этого мы вернемся к г-ну де Монморанси.
Мадлен де Сувре, жена Филиппа Эмманюэля де Лаваля, маркиза де Сабле, была дочерью маршала де Сувре, воспитателя Людовика XIII. Маркиза была еще очень молода, когда произошла ее первая встреча с г-ном де Монморанси, которого она затем страстно полюбила. Он добился от нее согласия на свидание. Свидание должно было происходить в нижней зале, и, вместо того чтобы войти туда через дверь, герцог, с присущей лишь ему ловкостью, впорхнул туда через окно; в ту же минуту он завоевал ее любовь, и она сохранила это чувство почти на всю свою жизнь.
К несчастью, г-н де Монморанси был далеко не так сентиментален, как его любовница, и это несходство характеров привело к охлаждению между ним и маркизой.
Однажды, когда герцог возвращался из Лангедока, где он был губернатором, и впереди у него оставалось лишь полдня пути, маркиза отправила навстречу ему какого-то дворянина, чтобы засвидетельствовать любовнику все то нетерпение, с каким она ждет свидания с ним.
Дворянин отыскал герцога и по возвращении сказал ей:
– Сударыня, монсеньор пребывает в не меньшем нетерпении, чем вы.
– Но где он теперь?
– Он скоро приедет.
– А почему же он не приехал тотчас?
– Сударыня, там, где он остановился пообедать, оказались лишь скверные постоялые дворы, очень плохо обеспеченные провизией; так что ему пришлось послать за парой куропаток; затем он велел ощипать их в его присутствии, потом их поджарили под его надзором, после чего он съел их с большим аппетитом.
Все это не показалось г-же де Сабле проявлением такого уж большого нетерпения, и, хотя маршал тем временем прибыл, ее настолько уязвило то, как мало он спешил увидеться с ней, что она заперлась у себя и не пожелала его видеть.
Маркиза очень сильно ревновала г-на де Монморанси, и, надо признать, на то были основания, поскольку герцог был чрезвычайно ветрен; однако она ревновала его кстати и некстати. Однажды ей пришло в голову упрекать его за то, что он танцевал на придворном балу и выбирал себе в качестве партнерш самых красивых дам.
– А вы, сударыня, стало быть, хотите, чтобы я выбирал самых уродливых? – спросил у нее г-н де Монморанси.
– Безусловно, сударь, – ответила она, – это ваш долг.
После казни несчастного маршала она сделалась одной из самых мнительных особ на свете, особенно в отношении смерти; не раз она заболевала от страха, услышав, что сестра, брат или тетка того или той, с кем она в эту минуту беседовала, были больны корью или у них просто был жар.
В то время, когда Мадемуазель болела оспой, маркизу пришел навестить герцог Немурский.
– Ах, монсеньор, неужто у вас достало неосторожности побывать в доме у Мадемуазель? – спросила она его.
– Разумеется, – ответил он.
– Ручаюсь, вы поднимались там наверх?! – бледнея, воскликнула маркиза.
– Несомненно: я хотел поговорить кое с кем.
– И вы входили в ее спальню?
– Нет; одна из ее камеристок вышла ко мне.
– И вы разговаривали с этой женщиной?
– Да я же и поднимался ради этого.
– Ах, уходите быстрее, господин герцог, уходите!
Герцог удалился. Минут через десять явилась г-жа де Лонгвиль и обнаружила, что спальня маркизы наполнена дымом: г-жа де Сабле жгла там все, что могло изгнать зараженный воздух.
Госпожа де Лонгвиль хотела начать разговор, но маркиза не слышала ни единого ее слова, беспрестанно повторяя:
– Нет, но вы видели когда-нибудь таких вот неосторожных людей, как герцог Немурский?!
Когда речь заходила о том, чтобы пустить ей кровь, дело становилось еще хуже: прежде всего, она требовала, чтобы хирурга отвели в самый удаленный от ее спальни уголок дома; там медику выдавали колпак и халат, а если имелся еще и подручный медика, то ему выдавали куртку; все это делалось из опасения, как бы они не принесли с собой зараженного воздуха.
Как-то раз маркиза находилась в гостях у маршальши де Гебриан, жившей на улице Сены, возле особняка Лианкур.
– Ах, не удивляйтесь, что я так засиделась у вас, – промолвила она. – Я воздерживаюсь от возвращения домой.
– И почему же?
– Я видела на Новом мосту какого-то мальчишку, недавно переболевшего оспой; он просил милостыню, и мои слуги, отгоняя его, могли заразиться.
– Но почему бы вам тогда не пойти по Красному мосту?
– Ах, что вы! Когда я шла по нему в последний раз, он так трещал!
Однако в конце концов она решилась пойти по Красному мосту, опасаясь обрушения моста меньше, чем оспы.
Когда же в Париже заговорили о чуме, страх маркизы стал беспредельным: ощущая себя заболевшей, она решила, что ей необходима консультация врачей. В итоге по ее распоряжению были собраны вместе три медика; каждому из них, как обычно, выдали халат и колпак; затем им было велено сесть у двери большого зала, в конце которого находилась маркиза, лежавшая на кровати, словно умирающая. Компаньонка маркизы подходила к врачам и говорила им, что испытывает ее хозяйка, а затем возвращалась, чтобы передать ей ответы медицинских светил.
Как раз в это самое время умер от чумы сын г-жи де Рамбуйе. Прекрасная Жюли д’Анженн писала в те дни маркизе, приняв, разумеется, все необходимые меры предосторожности.
Вот, впрочем, письмо мадемуазель де Рамбуйе; мы предпочитаем верить, что она написала его до смерти брата, иначе оно скорее делает честь ее остроумию, чем ее сердцу; хотя, следует признать, содержание письма позволяет думает, что написано оно после смерти ребенка.
Прежде всего, на конверте стояла такая надпись:
«Мадемуазель де Шале (это было имя компаньонки г-жи де Сабле) прочтет, если пожелает, это письмо госпоже маркизе, обратив его лицевой стороной к ветру».
Само же письмо содержало следующее:
«Сударыня, я полагаю, что мне не удастся начать общение с Вами в самом скором времени, ибо, несомненно, между первым предложением встретиться со мною, которое Вам будет сделано, и Вашим окончательным решением Вам предстоит столько поразмыслить, со столькими врачами посоветоваться и столько страхов преодолеть, что у меня будет полная возможность подумать. Условия, которые я предлагаю Вам, таковы: появляться у Вас не раньше, чем по прошествии трех дней после своего очередного визита во дворец Конде; менять всю свою одежду; выбирать для своего прихода морозный день; не подходить к Вам ближе, чем на четыре шага; садиться всегда на один и тот же стул. Вы можете также сильно топить камин в Вашей комнате, повсюду жечь можжевельник, держать рядом с собой императорский уксус, руту и полынь. Если предложенные мною меры предосторожности покажутся Вам достаточными и Вы не потребуете, чтобы мне к тому же еще остригли волосы, я клянусь Вам свято исполнять эти условия; ну а если Вы нуждаетесь в примерах, чтобы укрепить свою решимость, я скажу Вам, что королева соблаговолила встретиться с г-ном де Шодбонном, который перед этим вышел из комнаты мадемуазель де Бурбон, а г-жа д'Эгийон, которая прекрасно разбирается в такого рода обстоятельствах и которую ни в чем нельзя упрекнуть в отношении подобных дел, прислала известить меня, что, если я не пожелаю прийти повидаться с нею, она сама придет за мной!»
Неизвестно, однако, была ли, даже со всеми этими предосторожностями, принята маркизой прекрасная Жюли д’Анженн.
Однажды маркиза де Сабле велела составить для нее гороскоп.
– Сколько вам лет, сударыня? – спросил ее астролог. – Тридцать шесть.
Ей было в то время сорок два.
Астролог что-то тихо сказал мадемуазель де Шале.
– Что он говорит? – спросила маркиза, державшаяся, по своему обыкновению, на отдалении.
– Сударыня, он сказал мне, что ничего не сможет сделать, если не будет знать ваш подлинный возраст.
– Да он шутит, этот астролог! – воскликнула маркиза.
Но после минутного молчания добавила:
– Если ему этого мало, я дам ему еще полгода; но пусть начинает: больше он ничего не получит.
Перед тем как вселиться в какой-либо дом, она наводила справки, не умер ли там кто-нибудь. Однажды, когда ей стало известно, что во время строительства дома, взятого ею внаем, убился каменщик, она расторгла арендный договор, заплатив при этом крупную неустойку.
Она так часто наглухо затворялась у себя в доме, что аббат де Ла Виктуар, Клод Дюваль де Куповиль, прелат, наделенный восхительным остроумием, в своих разговорах о ней стал называть ее не иначе как покойная маркиза де Сабле.
Тут уж она сочла себя мертвой и более года пребывала в ссоре с аббатом де Ла Виктуаром.
Ее лучшей подругой была графиня де Мор, такая же мнительная особа, как и она сама; они поселились рядом, дверь в дверь, чтобы в свое удовольствие видеться, но, поскольку при малейшем недомогании одной другую охватывал страх подхватить какую-нибудь смертельную болезнь, они не виделись порой по три месяца и переписывались по десять раз на дню.
Но вот однажды графиня де Мор заболела серьезно.
Понятно, что с этого времени всякие прямые сношения между двумя подругами были прекращены; однако каждый день, пользуясь окном, мадемуазель де Шале расспрашивала слуг графини де Мор о здоровье их госпожи.
Правда, г-жа де Сабле дала строгий наказ, чтобы в случае смерти г-жи де Мор ей об этом не говорили.
В конце концов та умерла.
Мадемуазель де Шале в глубокой печали вернулась со своего наблюдательного пункта.
– Ну как там, Шале? – спросила маркиза.
– О сударыня!
– Она больше не ест?
–Да.
– Она больше не говорит?
–Да.
– Так значит, Шале, она умерла?
– Сударыня, – ответила Шале, – запомните, что это сказали вы, а не я.
Однажды она услышала церковное пение во дворе своего особняка.
– Шале, взгляните, что там такое.
– Ах, сударыня, это все парижские певчие в своих белых и красных одеждах.
– Но что они там делают?
– Они поют погребальный псалом.
– И кого же они отпевают?
– Вас.
– Меня?! И кто прислал сюда этих маленьких негодяев?
– Аббат де Ла Виктуар.
– Аббат де Ла Виктуар?
– Да, не видя вас больше, он продолжает настаивать, что вы умерли, заказывает молитвы за упокой вашей души и возносит их сам.
– Стало быть, он сейчас здесь со всей своей церковной детворой?
– Да, сударыня.
– Что ж, скажите ему, что я прощаю его, но пусть он убирается отсюда вместе со своими проклятыми хористами.
– Сударыня, он говорит, что у него не будет уверенности в том, что вы живы, пока не поговорит с вами.
– Хорошо, пусть он поднимется ко мне!
Аббат явился, был прощен и отослал своих певчих.
Вернемся, однако, к г-ну де Монморанси.
Как мы уже упоминали, он был весьма ветрен и причинял этим немало горя бедной маркизе де Сабле.
Вначале он был влюблен в Шуази, девицу из благородной семьи, но чрезвычайно легкомысленную; хотя и выйдя впоследствии замуж, она велела высечь на своем могильном камне, что ее весьма ценили вельможи и многие из них одарили ее своей любовью.
Затем герцог влюбился в королеву; однако в разгар этой любви неожиданно явился Бекингем и сильно все испортил. Господин де Монморанси обладал портретом своей царственной возлюбленной и заставлял всех, кому он его показывал, становиться на колени.
Однажды он затеял ссору с Бассомпьером; тот плохо танцевал, и г-н де Монморанси стал насмехаться над ним.
– Это правда, – промолвил Бассомпьер, – что у меня в ногах поменьше ума, чем у вас, однако я могу похвастаться, что у меня его побольше в другом месте.
– Во всяком случае, – сказал ему в ответ герцог, – если у меня и не такой острый язык, как у вас, то, полагаю, шпага у меня более острая.
– Да, – отпарировал Бассомпьер, – у вас шпага великого Анна.
При этом Бассомпьер произнес слово «Анн» так, как если бы в нем была лишь одна буква «н».
В итоге Бассомпьер и Монморанси вознамерились драться на следующий день, но их помирили еще до того, как они расстались.
У него была и другая ссора, на этот раз с герцогом де Рецем. Господин де Монморанси должен был вот-вот жениться на мадемуазель де Бопрео, однако королева– мать расстроила эту женитьбу, чтобы дать ему в жены одну из своих родственниц, происходившую из рода Орсини; позднее герцог де Рец женился на мадемуазель де Бопрео. Ссора вышла из-за того, что г-н де Монморанси, вместо того чтобы называть своего соперника герцогом де Рецем, именовал его герцогом де Мон-Рестом.
Герцогиня де Монморанси очень сильно ревновала своего мужа, которого она нежно любила. Тем не менее, поскольку все женщины гонялись за ее дорогим герцогом и нередко приезжали из провинции лишь для того, чтобы взглянуть на него, она заключила с ним соглашение, состоявшее в том, что ему предоставлялась полная свобода действий, но на условии, что он будет рассказывать ей о своих любовных романах. Соглашение было не только заключено, оно еще и исполнялось, и герцогиня, которой муж то и дело изменял, утешалась, как она сама с гордостью говорила, при виде того, каких знатных дам он выбирал ей в соперницы.
Герцог был очень храбрым человеком, но весьма посредственным воином, что станет ясно сразу, как только мы расскажем о сражении, в ходе которого он был пленен королевскими войсками.
Итак, продолжим наш рассказ с того места, где мы его прервали, то есть с момента, когда стало известно, что герцог де Монморанси встал на сторону Гастона Орлеанского.
Аббат д'Эльбен, племянник епископа Альби, от имени принца явился к г-ну де Монморанси и предложил ему объявить себя противником Ришелье; он расписал ему славу, которой покроет себя человек, сумевший сокрушить идола, пообещал ему меч коннетабля, который уже четырежды вручался представителям его семьи, и напомнил ему об окровавленных головах Шале и Марийяка, незадолго до этого скатившихся к подножию эшафота.
Монморанси примкнул к сторонникам принца.
Однако он потребовал дать ему время на то, чтобы провести набор рекрутов и собрать достаточное число солдат, как вдруг до него дошло известие, что приближается Гастон Орлеанский, преследуемый двумя армиями.
Гастон привел с собой примерно две тысячи солдат, причем на эти две тысячи солдат приходилось восемь или десять генералов.
Монморанси, хотя и захваченный врасплох, не пожелал нарушить данное слово. Им были посланы эмиссары в Испанию, чтобы получить оттуда денег и навербовать там солдат, ибо вместе с теми, кого привел с собой герцог Орлеанский, он мог выставить против королевских войск не более шести тысяч человек, да и то размещены они были между городами Лодев, Альби, Юзес, Алее, Люнель и Сен-Понс.
Гастона Орлеанского, как уже было сказано, преследовали две армии: одной командовал маршал де Шомбер, другой – маршал де Ла Форс.
Монморанси решил атаковать первую.
Двадцать девятого августа 1632 года он встретился с ней лицом к лицу. Гастон Орлеанский находился подле герцога де Монморанси.
И тогда маршал де Шомбер, не забывая, что кардинал Ришелье всего лишь министр и он может пасть; рассудив, что у короля слабое здоровье и он может умереть и, наконец, что герцог Орлеанский, против которого идет королевская армия, является наследником престола, маршал де Шомбер, повторяем, начал последние переговоры с принцем, послав к нему парламентером Кавуа.
Однако герцог ответил:
– Сначала сразимся; переговоры будут после битвы.
День 31 августа прошел в рекогносцировках с той и другой стороны.
Первого сентября, в восемь часов утра, г-н де Шомбер захватил дом, находившийся на расстоянии всего лишь нескольких мушкетных выстрелов от передовых линий герцога де Монморанси, и разместил там свой авангард.
При получении этого известия маршал-герцог вместе с пятью сотнями человек отправился на боевую разведку армии Шомбера и, оказавшись возле захваченного дома, атаковал засевших в нем солдат, которые тотчас покинули свою позицию.
Окрыленный этим успехом, который показался ему добрым предзнаменованием, г-н де Монморанси вернулся к своему войску.
Он застал там герцога Орлеанского, который поджидал его, находясь в окружении графа де Море, своего сводного брата, и графа де Рьё.
Приблизившись к принцу, он воскликнул:
– Монсеньор, вот день, когда вы одержите победу над всеми вашими врагами, день, когда вы воссоедините сына с матерью! Но для этого нужно, чтобы нынешним вечером ваш меч сделался таким же, каким стал мой меч этим утром, то есть обагренным кровью по самую рукоять!
Герцог Орлеанский не любил обнаженных мечей, а особенно мечей окровавленных: он отвел глаза.
– Ах, сударь, – сказал он, – вы все никак не расстанетесь с вашей привычкой к бахвальству. То, что вы совершили этим утром, ничуть не предвещает успеха в сражении, а лишь дает нам надежды.
– Во всяком случае, – парировал маршал, – даже если полагать, что я даю вам лишь надежды, это все же больше, чем дает вам король, ваш брат; ведь вместо того, чтобы давать вам надежды, он отнимает их у вас все, даже надежду на жизнь.
– Полноте! – бросил Гастон, пожимая плечами. – Неужели вы думаете, что жизнь наследника престола когда-нибудь может оказаться под угрозой? Чтобы ни случилось, я по-прежнему уверен, что смогу добиться безопасности для себя и еще пары человек.
Маршал горько усмехнулся.
– Ну вот, – вполголоса сказал он графу де Море и графу де Рьё, – наш принц уже распустил сопли! Он рассчитывает сбежать, прихватив с собой пару человек; но ведь ни вы, ни я не станем служить ему эскортом, не так ли, господа?
Оба дворянина подтвердили это.
– Что ж, – продолжил маршал-герцог, – присоединяйтесь ко мне. Нам нужно увести его вперед так далеко, чтобы мы увидели его с мечом в руке.
В эту минуту ему доложили, что замечена армия Шомбера, которая вышла из леса и строится в боевой порядок.
– Итак, господа, – произнес маршал-герцог, – час настал ... Все по местам!
Затем, желая лично оценить силы противника, г-н де Монморанси, шлем которого был разукрашен перьями цветов герцога Орлеанского, вскочил на еще не утомленного серого коня, преодолел на нем ручей и подъехал на расстояние в пятьдесят шагов от вражеских линий; потом, увидев то, что ему хотелось увидеть, он вернулся к своему войску и принял на себя командование правым крылом, предоставив командование левым крылом графу де Море.
Почти тотчас послышались первые выстрелы; два военачальника, которым не суждено было увидеться вновь, в последний раз поприветствовали друг друга мечами и ринулись на врага.
В той стороне, где командовал герцог, бой оказался коротким.
Торопясь вступить в рукопашную схватку, он встал во главе кавалерийского эскадрона, преодолел ров и бросился вперед по узкой дороге, по которой за ним могли последовать лишь несколько дворян.
Граф де Рьё пытался удержать его, но, видя, что это невозможно, воскликнул:
– Я последую за вами, монсеньор, и, по крайней мере, умру вместе с вами!
И он сдержал слово.
В конце дороги, по которой так неосмотрительно помчался Монморанси, в боевом порядке построилась вражеская пехота.
Герцог принял огонь на себя и не остановился, даже когда пуля задела ему горло.
В то же мгновение он оказался лицом к лицу с несколькими солдатами легкой кавалерии короля, кинувшимися навстречу ему. Пистолетным выстрелом он прострелил руку офицеру, который командовал ими, но тот успел всадить ему две пули в щеку.
Не обращая никакого внимания на три свои раны, маршал продолжал нестись вперед; два кавалериста, барон де Лорьер и его сын, попытались преградить ему путь; он опрокинул обоих, но, падая, они выстрелили в него из пистолетов, и их пули оцарапали ему грудь.
Но это не имело для него значения! Он продолжал мчаться тем же путем.
Наконец, когда герцог прорвался сквозь седьмой ряд противника, его лошадь, покрытая ранами, рухнула, и он покатился вместе с нею, истекая кровью из десятка полученных им ран и выкрикивая, словно последний боевой клич, свое имя Монморанси.
Как видно, эта битва, носящее название битвы при Кастельнодари, была не более чем боем; однако в то самое время, когда герцог попал в плен, граф де Море был убит. Схватка длилась не больше часа: г-н де Шомбер насчитывает в своем донесении восемь убитых и двух раненых. Эти двое раненых и половина убитых получили свои увечья или пали от рук г-на де Монморанси.
Герцог, потерявший сознание под тяжестью своей лошади, был вытащен из-под нее усилиями королевского лучника.
Придя в себя, он первым делом потребовал привести к нему исповедника, а затем, полагая себя смертельно раненным, снял с пальца кольцо и попросил передать его своей жене.
С него прежде всего сняли доспехи, что принесло ему значительное облегчение; затем лучник и несколько его товарищей на руках отнесли раненого в соседний хутор, где капеллан маршала де Шомбера принял у него исповедь.
Затем явился хирург, который промыл его раны и перевязал их; после чего на какую-то стремянку положили доски и солому, королевские гвардейцы разостлали поверх нее свои плащи и на этих самодельных носилках отнесли герцога в Кастельнодари.
Появление г-на де Монморанси в этом городе, где его боготворили, едва не привело к бунту, и пришлось прибегнуть к силе, чтобы не дать народному горю перерасти в необузданную ярость.
Когда появилась уверенность, что раны герцога не смертельны, началась подготовка к суду над ним.
С этой целью его препроводили в Тулузу.
Однако городские власти заявили, что, какую бы охрану ни приставили к маршалу, они не могут нести ответственность за узника, столь любимого народом; и потому его поместили в замок Лектур, находившийся в двойном подчинении: по вопросам управления он зависел от властей Гиени, а по вопросам судопроизводства – от властей Тулузы.
Господин де Монморанси начал с того, что дал отвод судьям, которых хотели назначить для суда над ним, и заявил, что рассматривать его дело надлежит Парижскому парламенту.
Но вскоре ему стало стыдно, что он, солдат, ввязывается в такую борьбу.
– Хватит! – сказал он. – Что толку с помощью подобных уловок отстаивать свою жизнь? В Париже меня приговорят точно так же, как и здесь.
После этого он срезал свои усы и косичку – в те времена носили только одну с левой стороны – и отослал все это жене.
Что же касается герцога Орлеанского, то он, как и следовало ожидать, помирился с королем: 1 октября условия этого мира были утверждены в Монпелье. Гастон немного поспорил, пытаясь добиться сохранения жизни Монморанси, но, видя, что такое упорство затянет решение его собственных дел, в конце концов уступил, оставив несчастного маршала на произвол судьбы, как он прежде поступил с Шале.
Тем не менее Людовика XIII настойчиво упрашивали помиловать г-на де Монморанси, но король ничего не хотел слышать.
– Мой брат должен быть наказан, – повторял он.
Наказать Гастона Орлеанского, отрубив голову Генриху де Монморанси, было довольно странным способом наказания.
Кардинал, осаждаемый со всех сторон просьбами, был вынужден предложить половинчатый выход: приговорить герцога к смерти, но отсрочить казнь, оставаясь, тем не менее, в полной готовности привести ее в исполнение, как только появится повод пожаловаться на герцога Орлеанского, и сделать это не иначе как отправив главного прево исполнить его обязанность туда, где будет содержаться узник.
– Правда, – добавил кардинал, – господин де Монморанси нуждается в бдительной охране.
Король счел, что все это будет слишком затруднительно, и решил, что правосудие должно идти свои ходом.
Суд не мог быть долгим: обвиняемый во всем признался. Приведенный на допрос, герцог заявил о признании вины, в которую он впал скорее по неблагоразумию, чем по злоумышлению, и за которую он много раз просил прощения у Бога и короля, равно как и просит его в настоящую минуту.
Судьи вынесли свое решение.
Этим решением герцог лишался всех своих чинов, званий и должностей; он приговаривался к отсечению головы на эшафоте, установленном на площади Сален; его имения Монморанси и Данвиль навсегда утрачивали достоинство пэрства и вместе со всеми прочими поместьями осужденного присоединялись к королевским владениям.
Герцог, впрочем, попросил об одной милости, которая была ему бесспорно дарована: он попросил обходиться с ним еще до вынесения приговора так, как если бы решение суда было уже оглашено. В соответствии с этим уже на второй день после его прибытия в Тулузу ему был предоставлен исповедник.
Им стал отец Арну, бывший духовник короля, впавший в немилость за одиннадцать лет до этого; герцог сам остановил на нем свой выбор.
Помимо этого, герцог попросил дать ему в качестве чтения книгу «О подражании Иисусу Христу» и распорядился принести ему некоторые дорогие для него святыни; одновременно, словно желая порвать со всякой памятью о земной суете, он снял с себя нагрудную цепь и браслеты.
Король всячески торопил вынесение приговора: он страшно скучал в Тулузе и спешил покинуть ее. Тем не менее, когда решение суда было оглашено, отец Арну стал умолять об отсрочке его исполнения на сутки; по его словам, эти сутки нужны были ему для того, чтобы окончательно отрешить несчастного герцога от всего земного. Однако это был всего лишь предлог, ибо герцог и так полностью смирился со своей участью, но вот все друзья осужденного, сговорившись, должны были воспользоваться этой отсрочкой и попытаться добиться для него помилования.
К несчастью, король укрылся от всех ходатайств, запретив всем родственникам осужденного въезжать в город, где он находился. Госпожа де Конде, сестра герцога, тщетно пыталась добраться до короля; получив везде грубый отказ, она удалилась в часовню и до самого вечера пробыла там в молитвах.
Герцог Ангулемский, обязанный г-ну де Монморанси своей свободой, написал письмо королю, взывая к его милосердию; дворянин герцога Орлеанского, доставивший Людовику ХIII умоляющее письмо, написанное его господином, трижды бросался в ноги королю, рыдая и целуя полу его мантии; но все просьбы и слезы были напрасны.
Кардинал де Ла Валетт, а также герцог и герцогиня де Шеврёз, которым было безжалостно отказано в приеме, заставили герцога д'Эпернона умолять вместо них о помиловании; седоволосый и седобородый старец встал на колени перед Людовиком XIII, умоляя его простить герцогу де Монморанси преступление, в котором сам он, д'Эпернон, в свое время оказался виновен, и представляя свою нынешнюю верность примером того, какое действие может произвести прощение: однако король потупил глаза, брови его оставались нахмуренными, лицо мрачным, и он ничего не отвечал, словно был глухонемым.
Наконец он разжал свои мертвенно-бледные губы, стиснутые гневом, и произнес, обращаясь к герцогу:
– Уйдите, сударь!
Герцог удалился.
С этой минуты всем стало понятно, что взывать отныне следует не к королю, а к Богу и что спасти осужденного может лишь чудо.
Герцога де Монморанси привели в ратушу и, пока городские власти о чем-то еще совещались, он написал жене прощальное письмо, дав ей отчет о своих долгах, нечто вроде завещания в пользу своих слуг и дворян своей свиты, а затем попросил ее передать в дар три драгоценные картины, которыми он владел, трем различным легатариям.
Одна из этих картин предназначалась его сестре, принцессе де Конде; другая – иезуитской обители святого Игнатия, а третья – странное дело! – кардиналу Ришелье.
Точно так же во времена Калигулы и Нерона те, кого заставляли вскрыть себе вены, непременно оставляли какую-нибудь ценную часть своего имущества в наследство императору, принуждавшему их к смерти.
Покончив с этими заботами, герцог снял с себя свое обычное платье и надел одеяние из белого холста, которое он заранее приготовил для своего последнего дня; потом он написал еще два письма: одно кардиналу де Ла Валетту, другое принцессе де Конде, а после этого сделал несколько новых распоряжений, касающихся его слуг.
Вслед за тем, как это было принято в подобных случаях, к осужденному явились от имени короля и потребовали у него вернуть маршальский жезл и цепь ордена Святого Духа, что он тотчас и сделал, приготовившись спуститься на нижний этаж, чтобы выслушать там приговор суда ... В это время лейтенант роты гвардейцев, командовавший охраной ратуши, был вызван к королю. Все решили, что его величество помиловал герцога, и радостный шепот докатился до самой площади.
Лейтенант, преисполнившись надежды, бегом помчался к королю и застал у него маршала де Шатийона, который в свой черед умолял его величество даровать помилование несчастному герцогу; король остался непоколебим, однако, «вняв мольбам одного из своих слуг, просившего привести в исполнение смертную казнь герцога де Монморанси в каком-нибудь особом месте, как это некогда было позволено в подобном случае его досточтимейшим отцом, да отпустит ему грехи Господь», он, подобно Генриху IV, сделавшему в свое время нечто похожее для Бирона, дал согласие на то, чтобы герцогу отрубили голову во дворе Тулузской ратуши.