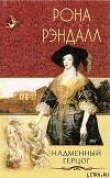Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 55 страниц)
Ракан был наставником малолетнего графа де Марана, принадлежавшего, как и он, к роду де Бюэй, и вынудил мужа матери мальчика отчитаться в расходах; это до такой степени оскорбило отчима, что он вызвал Ракана на дуэль.
Однако Ракан покачал головой в знак отрицания и произнес:
– Я очень сталый, и у меня одышка.
– Ваш противник будет сражаться верхом, – отвечают ему.
– У меня делаются язвы на ногах, когда я надеваю тапоги; к тому же я могу потелять двадцать тысяч дохода. Пусть мой плотивник внетет залог в четылеста тысяч ливлов, и после этого мы посмотл им.
– Но он говорит, что будет нападать на вас везде, где встретит вас.
– О, это совтем иное дело! Я велю лакеям нести за мной шпагу и, етли он нападет на меня, буду защищаться. У нас тяжба, а не лаздор.
У бедняги Ракана было большое горе: его старший сын был глуп, и все свои надежды отец возлагал на второго сына, который был пажом короля и находился в добрых отношениях с герцогом Анжуйским.
К несчастью, этот второй сын умер.
Мальчик все время норовил носить шлейф Мадемуазель, дочери Гастона, которую впоследствии называли Великой Мадемуазель. Вначале ее пажи ворчали на это, однако Мадемуазель велела им помалкивать и заявила, что всякий раз, когда какой-нибудь паж королевы пожелает нести ее шлейф, оказывая ей этим честь, она будет весьма признательна ему за это. Так что ребенок продолжал по собственному почину оказывать Мадемуазель эту услугу. И тогда ее пажи, взбешенные этим, заставили самого младшего своего товарища вызвать его на дуэль. Им позволили сразиться, а затем прямо на месте поединка обоих задержали и выпороли.
Спустя какое-то время товарищи уполномочили юного Ракана добиться от королевы, чтобы им выдавали двух гусенков вместо одного, ибо королевский казначей удерживал одного из тех двух, какие им полагались.
«Гусенком» называли бант из лент, предназначеный для украшения платья, шляпы и шпаги. Королева согласилась на это требование.
– Хорошо, – сказала она, – но поскольку вы сын господина де Ракана, то, по крайней мере, подайте мне вашу просьбу, изложив ее в стихах.
На следующий день мальчик поднес королеве мадригал, написанный, как утверждали, Раканом-отцом:
Вам, о владычица, благоприятный рок
Вручил весны моей счастливейшие годы, —
Примите ж от меня и первый сей цветок
С тех склонов, где струит Пермес живые воды.
Когда бы получил в наследство от отца
Я вместе с именем и дивный дар певца,
Его назло врагам прославивший в отчизне, —
Вам вечность подарить стихами мог бы я,
Владычица моя, Дарительница жизни.[52]
Во время своего последнего пребывания в Париже, то есть в 1651 году, Ракан уже не мог обходится без Академии и говорил, что у него нет иных друзей, кроме господ академиков; а поскольку у него в это время была судебная тяжба, он выбрал в качестве стряпчего Луи Фароара, мужа Катрин Шаплен, сестры поэта, ибо ему казалось, будто этот человек, будучи зятем Шаплена, является и зятем Академии.
Вот такие забавные истории и рассказывал Буаробер кардиналу, заставляя его смеяться над ними.
Среди них особняком стояла одна, которую мы приберегли напоследок, поскольку она обладала неоспоримой привилегией разглаживать морщины на челе его высокопреосвященства.
Хотя и будучи сама поэтом, мадемуазель де Турне – добрая старая дева, историю которой мы рассказали со слов Таллемана де Рео, – так вот, хотя и будучи сама поэтом, мадемуазель де Турне сохранила, тем не менее, глубочайшее восхищение перед всеми великими поэтами той эпохи, за исключением Малерба, позволившего себе раскритиковать ее книгу «Тень». И потому, когда вышло в свет второе издание этой книги, мадемуазель де ГУрне разослала ее экземпляры всем величайшим дарованиям XVII века.
Разумеется, достался такой экземпляр и Ракану.
Когда Ракан получил этот братский подарок, столь любезно отправленный ему, рядом с ним находились его неразлучные друзья, шевалье де Бюэй и Ивранд. Польщенный оказанной ему честью, Ракан в присутствии двух этих друзей сказал, что на следующий день он лично пойдет поблагодарить мадемуазель де Турне за такой знак внимания.
Это заявление попало в уши людей слышащих, а не тех глухих, о каких говорит Гораций и каким поем мы. Ивранд и шевалье де Бюэй решили подшутить над Раканом.
Ракан должен был явиться к мадемуазель де Турне в два часа; друзья знали это достоверно.
В полдень появляется шевалье де Бюэй и стучит в дверь доброй старушки.
Жамен идет открывать и видит красивого кавалера.
Де Бюэй, не соизволив назвать себя, выражает желание повидаться с хозяйкой дома. Жамен тотчас входит в кабинет мадемуазель де Турне.
Та, с пером в поднятой руке, с устремленными к небу глазами и в позе вдохновенного поэта сочиняет в это время стихи.
Жамен докладывает старой деве, что какой-то человек просит разрешения поговорить с ней.
Мадемуазель де Турне, мысли которой витают в облаках, просит Жамен повторить ее фразу.
Жамен повторяет.
– А кто этот человек? – спрашивает мадемуазель де Турне.
– Он не желает называть свое имя.
– А как он выглядит?
– Это красивый кавалер лет тридцати – тридцати пяти, – отвечает Жамен, – и, мне кажется, он из благородной семьи.
– Пусть войдет, – произносит мадемуазель де Турне. – Мысль, которую я искала и которую я несомненно вот– вот нашла бы, прекрасна; но она еще может ко мне вернуться, а вот этот кавалер, вполне возможно, уже не вернется.
– Входите, сударь, – говорит Жамен шевалье де Бюэю, мало-помалу приблизившемуся к двери кабинета старой девы.
Шевалье де Бюэй входит.
– Сударь, – обращается к нему мадемуазель де Турне, – я позволила вам войти, не спрашивая, кто вы такой, и полагаясь на благоприятный отзыв Жамен о вашей наружности. Надеюсь, что теперь, когда вы здесь, вы соблаговолите оказать мне честь, назвав свое имя.
– Мадемуазель, – отвечает ей шевалье де Бюэй, – меня зовут Ракан, и я пришел поблагодарить вас за книгу, которую вы любезно прислали мне вчера.
При этом известии мадемуазель де Турне, знавшая пока автора «Пастушеских стихотворений» лишь по имени, радостно вскрикнула и велела Жамен заставить умолкнуть душечку Пиайон, которая мяукала в соседней комнате и, продолжай она мяукать, мешала бы старой деве слушать те приятные слова, какие намеревался сказать ей г-н де Ракан.
Шевалье де Бюэй, отличавшийся остроумием, наговорил мадемуазель де Турне целый короб небылиц, настолько позабавивших добрую старую деву, что, когда он поднялся, чтобы уйти, она употребила все усилия, чтобы удержать его.
Однако шевалье уже считал минуты: он мог оставаться у мадемуазель де Турне лишь три четверти часа.
В час с четвертью он решительно поднялся и вышел, унося с собой кучу комплиментов по поводу своей учтивости и оставляя старую деву в полном восторге от него.
Такое расположение духа благоприятствовало тому, чтобы вновь обрести мысль, посреди которой ее оторвали от стихотворчества и которая ускользнула, встревоженная вторжением мнимого Ракана.
Так что мадемуазель де Турне вновь взяла перо и пустилась вдогонку за этой мыслью, как вдруг в дверь позвонили во второй раз.
Жамен пошла открывать; однако Ивранд – ибо теперь в свой черед явился Ивранд – не дал ей времени доложить о своем приходе.
Уведомленный шевалье де Бюэем относительно расположения комнат, он открыл дверь кабинета еще до того, как Жамен затворила входную дверь.
– Я позволил себе войти не спросясь, – заявил он, – но с мадемуазель де Турне, прославленным автором «Тени», не подобает обращаться, как со всеми.
– Этот комплимент мне нравится! – радостно воскликнула старая дева. – Жамен! Жамен! Дайте мне мою записную книжку, я должна внести его туда.
– Я пришел поблагодарить вас, мадемуазель, – продолжал Ивранд.
– За что, сударь?
– За то, что вы соблаговоли послать мне вашу книгу.
– Я, сударь? Я ничего вам не посылала, но мне следовало бы это сделать. Жамен, дайте одну «Тень» для этого господина.
– У меня уже есть ваша книга, мадемуазель.
– Так она у вас есть?
– Да, и в доказательство этого я приведу вам что– нибудь из той или другой главы.
И он принялся читать наизусть чуть ли не половину ее книги.
Старая дева была крайне удивлена тем, что ее книга пользуется подобным успехом.
– В ответ, – сказал ей Ивранд, – я подношу вам несколько стихотворений моего сочинения.
И он, в самом деле, принялся декламировать собственные стихи.
– Какие милые стихи, не правда ли, Жамен? – спросила старая дева.
И, прерывая себя сама, добавила:
– Жамен в стихах разбирается, сударь; она ведь дочь Амадиса Жамена, пажа Ронсара ... Но могу я узнать ваше имя, сударь?
– Мадемуазель, – отвечает Ивранд, – меня зовут Ракан.
– Сударь, вы смеетесь надо мною!
– Смеяться над вами?! Смеяться над мадемуазель, названой дочерью великого Монтеня?!
– Что ж, – промолвила она, – значит, тот, кто только что вышел отсюда, хотел посмеяться надо мною; а может быть, это все-таки вы сейчас смеетесь надо мною. Ну да не столь это важно: молодости дозволено смеяться над старостью. В любом случае я была очень рада увидеть двух молодых господ столь приятной внешности и столь остроумных.
На этом Ивранд и мадемуазель де Турне расстались, наговорив друг другу кучу комплиментов.
Не прошло и пяти минут после ухода Ивранда, как в дверь позвонили в третий раз, и, когда Жамен ее открыла, на пороге появился, запыхавшись, настоящий Ракан, страдавший небольшой одышкой.
– Ах, плаво, извините меня, мадемуазель, – произносит он, – етли я без втяких целемоний тяду на стул.
– Господи, какое смешное лицо! Жамен, вы только посмотрите! – восклицает мадемуазель де Турне.
– Мадемуазель, – говорит Ракан, – челез четвелть чата я ткажу вам, зачем я пришел тюда, но плежде позвольте мне отдышаться. Какого челта вы заблались так вытоко?.. Ох, как вы то к о, мадемуазель, как вытоко!
Понятно, что если манеры и лицо Ракана позабавили мадемуазель де Турне, то она развеселилась еще больше, услышав его тарабарщину.
Но в конце концов утомляешься от всего, даже от смеха. И через несколько минут старая дева произнесла:
– Сударь, когда вы отдохнете через четверть часа, вы мне хотя бы скажете, что привело вас сюда?
– Мадемуазель, – сказал Ракан, – я плишел тюда, чтобы поблагодалить вас за то, что вы плислали мне вашу «Тень».
Однако мадемуазель де Турне, презрительно глядя на вновь прибывшего, заявила:
– Жамен, подтвердите, что я послала мою книгу лишь господину де Малербу и господину Ракану.
– Что ж, именно так, мадемуазель: я и есть Лакан.
– Значит, вы Лакан? А кто такой Лакан?
– Ну да, Лакан! Поэт Лакан.
– Я не знаю поэта с таким именем, сударь.
– Как, вы не знаете поэта Лакана, сочинившего «Пастушеские петни»?
– Сударь, вы умеете писать? – спросила мадемуазель де Гурне.
– Умею ли я питать?! – воскликнул Ракан, глубоко уязвленный подобным вопросом.
– Что ж, в таком случае, сударь, возьмите мое перо, ибо вы так бормочете, что вас невозможно понять. Жамен, дайте перо господину.
Жамен подала перо незадачливому посетителю, который самым разборчивым почерком и крупными буквами вывел имя «РАКАН».
– Ракан! – воскликнула Жамен, следившая за тем, как буквы одна за другой появлялись из-под пера того, кто их выводил.
– Ракан? – повторила мадемуазель де Гурне.
– Ну да, – подтвердил Ракан, обрадованный тем, что его, наконец, поняли, и полагавший, что теперь его будут принимать иначе, – ну да!
Но мадемуазель де Гурне, с презрением глядя на него, промолвила:
– Вы только посмотрите, Жамен, на этого занятного человека, который присваивает себе подобное имя! Двое других были, по крайней мере, забавны, но этот просто какой-то жалкий шут.
– Что за двое длугих? – поинтересовался Ракан.
– Да поймите, вы уже третий, кто сегодня является ко мне в дом, называя себя Раканом.
– Мне не известно, являюсь ли я тлетьим Лаканом, мадемуазель, но, во втяком тлучае, именно я настоящий Лакан.
– Мне не известно, мнимый вы Ракан или настоящий, но мне известно, что вы самый глупый из всех трех. Черт вас раздери!Яне потерплю, чтобы меня поднимали на смех!
Восклицание «Черт вас раздери!» мадемуазель де Гурне придумала для собственного употребления, чтобы пользоваться им в минуты гнева. Оно заменяло ей «Черт вас возьми!», и, говоря «Черт вас раздери!», она не грешила.
Мадемуазель де Гурне сопроводила это восклицание повелительным жестом, означавшим: «Ступайте вон!»
Ракан, пришедший в полное отчаяние и не знавший больше, что ему делать, внезапно заметил на столе какой-то поэтический сборник, распознал в нем свои
«Пастушеские стихотворения», бросился к нему и, показывая его мадемуазель де Гурне, воскликнул:
– Мадемуазель, я настолько настоящий Лакан, что етли вы тоблаговолите взять влуки эту книгу, то я плочту вам наизусть от начала и до конца в те стихи, какие в ней есть!
– Что ж, – промолвила мадемуазель де Гурне, – это означает, что вы их украли, так же, как вы украли имя Ракана, и я заявляю вам, что, если вы не уйдете отсюда сию же минуту, я позову на помощь.
– Но, мадемуазель ...
– Жамен, прошу вас, кричите караул!
Жамен принялась изо всех сил кричать караул.
Ракан не стал ждать последствий этого объявления войны: он уцепился за лестничную веревку и, при всей своей одышке, стрелой спустился вниз.
В тот же день мадемуазель де Гурне узнала всю правду. Посудите сами, каково было ее отчаяние, когда ей стало понятно, что она выставила за дверь единственного из трех Раканов, который был настоящим.
Она наняла карету и уже на следующий день помчалась к дому г-на де Бельгарда, где, как мы уже говорили, жил Ракан. Бедная мадемуазель де Гурне так спешила принести извинения человеку, к которому она питала глубочайшее уважение, что, несмотря на противодействие камердинера, живо вошла в покои Ракана. Оказавшись лицом к лицу со старой девой, Ракан подумал, что она хочет снова мучить его, и, тотчас же поднявшись с постели, укрылся в соседнем кабинете. Вбежав туда и заперевшись на замок и на засов, он прислушался.
Через минуту все выяснилось: Ракан понял, что мадемуазель де Гурне явилась к нему не для того, чтобы упрекать его, а для того, чтобы принести ему извинения, и, успокоившись, наконец, в отношении ее намерений, согласился выйти из своего укрытия.
Начиная с этого дня они стали лучшими друзьями.
Мадемуазель Мари Ле Жар де Гурне умерла 12 июля 1642 года, в возрасте семидесяти девяти лет, и была погребена в церкви святого Евстафия.
VII
И все же, несмотря на способность Буаробера смешить своими небылицами кардинала и его убежденность в том, что его высокопреосвященство не может обходиться без него, Буаробер впал однажды в немилость, преодолеть которую он уже не надеялся.
Вот как это случилось.
Кардинал распорядился разучивать пьесу «Мирам», испытывая одновременно два недобрых чувства: ревность поэта к Корнелю и ревность влюбленного к Анне Австрийской. На одной из репитиций Буаробер получил задание впускать в зал только актеров, актрис и сочинителей. Кардиналу хотелось составить себе понятие о том, какое впечатление производит пьеса на знатоков театрального дела. Приказ быд строгий, но в натуре бедного Буаробера было кое-что от шлюхи: когда его о чем– нибудь довольно настойчиво просили, он не мог отказать. Очаровательная потаскушка Сент-Амур, имевшая некоторое право на контрамарку, ибо одно время она состояла в труппе Мондори, наседала на Буаробера до такой степени, что в конце концов добилась от него входного билета.
Когда репетицию уже вот-вот должны были начать, в зал ворвался герцог Орлеанский, штурмом взявший дверь.
Кардинал пришел в ярость, однако он не осмелился выставить за порог первого принца крови, тем более что тот, видя, что ему оказывают сопротивление, упорно пытался войти.
Его появление вызвало суматоху в зале.
Малышка Сент-Амур, которой Буаробер советовал держать вуаль опущенной, не смогла удержаться: она сочла момент благоприятным, подняла вуаль и повернулась так, что Гастон увидел ее лицо.
Спустя несколько дней состоялось первое представление спектакля. Отправить приглашения на него было поручено Буароберу и шевалье Дерошу. Однако список приглашенных затерялся и попал в руки женщины весьма сомнительной добропорядочности. Она известила об этом своих приятельниц; каждая из них выбрала себе какое-нибудь имя из списка и явилась в театр: одна под именем маркизы ***, другая под именем графини ***.
Проверку при входе осуществляли два дворянина; но, видя, что заявленные имена действительно находятся в списке, они пропустили этих дам и передали их в руки двух других распорядителей, которые отводили гостей к президенту Винье и г-ну де Балансе, а те рассаживали их по местам.
Как видим, в ту эпоху царил дух терпимости: ремеслом капельдинеров занимались судейский и священник.
Король, всегда искавший случай сказать кардиналу что-нибудь неприятное, узнал о том, что произошло, и в присутствии герцога Орлеанского заявил:
– Господин кардинал, так намедни у вас на спектакле было немало мошенниц?
– А как могло быть иначе, – воскликнул герцог Орлеанский, на лету подхватывая реплику короля, – когда в зале, куда не хотели впускать меня, была малышка Сент– Амур, одна из самых известных парижских потаскух!
Услышав это, кардинал пришел в бешенство и, не найдя других слов в свое оправдание, воскликнул:
– Вот так, выходит, мне служат!
Но, выйдя от короля, он спросил Кавуа, капитана своих гвардейцев:
– Кавуа, известно ли тебе, что на днях на репетиции оказалась малышка Сент-Амур?
– Такое возможно, ваше высокопреосвященство, – ответил Кавуа, – но через ту дверь, которую охранял я, она не входила.
На беду Буаробера, при этом разговоре присутствовал Пальвуазен, туренский дворянин, родственник епископа Нантского и враг Буаробера, тотчас же подавший голос:
– Монсеньор, она вошла через дверь, у которой стоял я.
– Сударь! – в гневе воскликнул кардинал.
– Погодите, монсеньор ... Впустил ее господин Буаробер.
– Что ж, если то, что вы сейчас сказали, правда, Ле Буа мне за это заплатит! – произнес кардинал.
Канцлер услышал эту угрозу и, встретив Буаробера, сказал ему:
– Господин кардинал очень сердит на вас; остерегайтесь появляться у него на глазах.
Буаробер хотел украдкой уйти, но, прежде чем он дошел до двери, появился посланец его высокопреосвященства, пришедший сказать ему, что кардинал ждет его.
Приходилось принять приглашение.
Буаробер подчинился и со смущенным видом явился к кардиналу.
Там не было никого, кроме г-жи д’Эгийон, ненавидевшей Буаробера; но, к счастью, подле нее, служа своего рода противовесом ей, находился г-н де Шавиньи, относившийся к нему довольно любовно.
– Буаробер, – произнес кардинал, не называя его больше Ле Буа, как он это делал в хорошем настроении, – так это вы на днях пустили на репетицию плутовку Сент-Амур?
– Монсеньор, – ответил Буаробер, – я полагал, что в тот день вход был открыт для актеров и сочинителей. Я же знаю малышку Сент-Амур лишь как актрису, и доказательство этого состоит в том, что я видел ее только на театральных подмостках, куда она поднялась с дозволения вашего высокопреосвященства.
– Но я же говорю вам, – воскликнул кардинал, – что она шлюха!
– Возможно, монсеньор, – невозмутимо ответил Буаробер, – однако я всех этих дам почитаю за шлюх.
– Как это, сударь?
– Монсеньор, разве актерами или актрисами всегда становятся на основании свидетельства о добронравии?
– Довольно, сударь, – промолвил кардинал. – Вы привели в негодование короля. Уходите!
Буаробер плакал и пытался пустить в ход все мыслимые оправдания.
Но кардинал стоял на своем.
Буаробер ушел и лег в постель; на следующий день пополз слух, что Буаробер тяжело болен.
Поскольку у него было много друзей, а кроме того, все знали о слабости, которую питал к нему Ришелье, и чем закончились все прежние его ссоры с кардиналом, то есть еще большим фавором, с визитом к нему стали являться все придворные, включая даже родственников кардинала.
Маршал де Грамон побывал у него трижды; на третий раз он сказал ему:
– Буаробер, если вы обещаете мне не быть болтуном, я кое-что скажу вам.
– Клянусь вам молчать, монсеньор!
– Так вот, в воскресенье вы вновь обретете милость: в субботу кардинал встретится с королем и попросит его простить вас.
Это было правдой; но король, настроенный своим братом, оказался неумолим. Буаробер, доверившись словам маршала, уже полагал себя снова в милости, как вдруг, напротив, получил приказ покинуть Париж. У него была возможность сделать выбор между своим аббатством, которое называлось Шатийон, и Руаном, где он был каноником. Он отдал предпочтение Руану.
И как раз в Руане он, дабы вновь обрести милость, сочинил оду Богоматери, где есть такие две строфы:
Благодаря тебе, о матерь Божья,
На суше избежал я бездорожья,
А в море спасся от подводных скал.
Милей, чем здесь, мне не найти приюта,
Я смог забыть здесь горечь той минуты,
Когда ко мне остыл мой кардинал.
Ведь нет умней и нет мудрей владыки!
Мне дал удачу этот муж великий,
Им был обласкан я, простой аббат.
Он отстранил меня могучей дланью,
Но жизнь его – пример для подражанья,
И этим я и счастлив, и богат![53]
Тем не менее его высокопреосвященство не поддался на лесть, содержащуюся в этой оде, как прежде он не поддался на мольбы и слезы. И тогда Буаробер понял, что под этим кроется вовсе не то, что он впустил какую-то мелкую шлюху в зал, где собралась целая толпа знатных вельмож, а нечто более серьезное; он порылся в памяти, и вот что ему вспомнилось.
Дело было в те времена, когда г-н де Сен-Мар находился на вершине фавора. (Мы еще не дошли до этого в своем повествовании, но порой нам приходится забегать вперед.) Кардинал имел шпиона, которого звали Ла Шене. Господин Главный – напомним, что так называли Сен-Мара, поскольку он носил титул главного шталмейстера, – так вот, господин Главный хотел погубить этого шпиона. У него появилась мысль обратиться к Буароберу, и как-то раз, когда они оказались в Сен-Жермене один на один, он сказал ему:
– Ей-Богу, господин Ле Буа, я всегда чрезвычайно высоко ставил вас, а маршал д’Эффиа, мой отец, всегда любил вас.
Буаробер поклонился.
– Господин Ле Буа, – продолжал главный шталмейстер, – до сих пор вы охотились только на воробьев и жаворонков, и мне хочется устроить для вас настоящую дворянскую охоту, то есть дать вам возможность напустить сокола на куропаток и фазанов. Какого черта! Вам пора подумать о вашем благосостоянии и отхватить какой-нибудь изрядный кусок.
Буароберу было известно легкомыслие молодого дворянина, и потому он продолжал кланяться, ничего не отвечая.
Так что господину Главному приходилось говорить одному.
– Господин Ле Буа, – произнес он, – я прошу вас служить мне.
Тут уж следовало ответить да или нет.
Однако Буаробер отыскал еще одну возможность не отвечать ни да, ни нет:
– Служить вам, сударь? Охотно! Но в чем?
– Так вот, господин Ле Буа, – продолжал Сен-Мар, – Ла Шене предал меня: у него была по моему поводу долгая беседа с господином кардиналом, после которой господин кардинал обошелся со мной, как со школяром; вы наверняка можете сказать мне, кто ввел его в окружение кардинала и кто его друзья при дворе.
– А с какой целью, сударь? – поинтересовался Буаробер.
– С какой целью? Да потому, что я хочу их всех погубить! О! Господин кардинал грубо обращается со мной?! Пусть, но, черт побери, либо ему, либо мне придет из-за этого конец!
Буаробер опустил голову: только такой безумец, как господин Главный, мог позволить себе угрожать первому лицу после короля, а точнее говоря, первому лицу прежде короля. Тем не менее он пообещал г-ну де Сен-Мару служить ему и сообщить, кто входил в число друзей Ла Шене.
После чего г-н де Сен-Мар покинул его.
Как только главный шталмейстер завернул за угол, Буаробер пустился бежать и примчался к г-же де Лансак, гувернантке дофина, чтобы спросить у нее, как у женщины мудрой, совета.
– Друг мой, – ответила она не задумываясь, – нужно все рассказать кардиналу.
– Но ведь тем самым, сударыня, – воскликнул Буаробер, – вы советуете мне просто-напросто совершить донос!
– Я всего лишь прошу вас взять в расчет ваше собственное спасение.
Однако Буаробер покачал головой в знак отрицания.
– Никогда! – произнес он. – Во всем этом нет ничего, кроме причуды молодого человека, и из-за такого пустяка я никогда не решусь навредить господину Главному.
И в самом деле, Буаробер ограничился тем, что начиная с этого времени стал избегать главного шталмейстера и, видя, что тот приближается по одной стороне улицы, переходил на другую.
Однако господин Главный не оценил этой скрытности Буаробера: он вбил себе в голову, что тот сыграл с ним злую шутку, и, чтобы отплатить ему тем же, стал дурно говорить о нем королю, пересказывая недобрые толки об аббате Шатийонского монастыря и канонике Руанского собора. А о Буаробере много чего говорили.
Самые постыдные слухи о нем распускал некий г-н де Сен-Жорж.
В Пон-де-Л'Арше был комендант по имени Сен-Жорж. (Об этом Сен-Жорже и идет речь.) Буароберу стало известно, что тот взимает пошлину с каждого судна, поднимающегося вверх по течению, а так как считалось, что ее собирают в пользу кардинала, то суда эти прозвали кардиналами.
На этот раз, поскольку была задета честь его покровителя, Буаробер рассказал ему все.
Господин де Сен-Жорж лишился должности коменданта и, чтобы отомстить, стал рассказывать повсюду, что Буароберу свойственны наклонности, распространенные вантичные времена.
Слух это стали повторять, а поскольку каждая клевета несет с собой некий душок, который нравится зловредным людям, то начались поиски доказательств.
Нашлись ли такие доказательства, мы не знаем, да вовсе и не этим нам следует заниматься: для нас важно знать другое: оказывается, король сказал его высокопреосвященству, что Буаробер бесчестит дом своего господина.
Итогом всего этого и стала, как мы уже рассказывали, ссылка Буаробера в Руан, где он сочинял оды Богоматери.
И хотя в глубине души кардинал не так уж сердился на своего дорогого Буаробера, а больше делал вид, все оставалось по-прежнему вплоть до смерти господина Главного.
Известно, каким образом он умер, и, когда это произошло, все стали хлопотать о Буаробере, особенно Мазарини, который написал ему:
«Вы можете вернуться в Париж, если у Вас есть тут дела».
Буаробер вернулся туда с двадцатью двумя тысячами экю наличными, и поскольку самым спешным его делом была игра, как только представлялась такая возможность, а играл он как в карты, так и в кости, то он стал играть и спустил эти двадцать две тысячи экю.
Как только Мазарини сам вернулся в Париж, он написал Буароберу:
«Справьтесь обо мне в следующее воскресенье и, даже если я буду в спальне его высокопреосвященства, приходите повидать меня там».
Буаробер откликнулся на это приглашение. Мазарини и в самом деле находился в спальне кардинала. Буаробер вошел туда.
Едва заметив его, Ришелье протянул к нему руки и принялся рыдать.
Буаробер настолько не ожидал подобного приема, что был им совершенно ошеломлен и, при всей своей способности легко проливать слезы, не сумел выдавить из себя ни единой слезинки.
Что оставалось делать, если в глазах не было слез, а кардинал плакал?
Притворяться, что ты охвачен волнением.
– О Бог мой! – воскликнул Буаробер. – Меня душат слезы, монсеньор, и, тем не менее, я не могу плакать!
И он падает в соседнее кресло.
– Ситуа, Ситуа! – кричит кардинал. – Ле Буа стало плохо.
– Идите скорее, Ситуа! – добавляет Мазарини, понимавший, что все будущее Буаробера решается в эту минуту. – Идите скорее и пустите кровь господину Ле Буа.
Господин Ле Буа никоим образом не чувствовал себя плохо, но, чтобы дело не выглядело так, будто он играет комедию, вынужден был согласиться на кровопускание.
Ситуа выпустил из него три полных тазика крови.
– Единственное доброе дело, которое сделал для меня этот трус Мазарини, – говорил позднее Буаробер, – состоит в том, что он велел пустить мне кровь тогда, когда я не испытывал в этом никакой надобности.
Кардинал Ришелье вскоре умер; Буаробер, выражая свои соболезнования г-же д'Эгийон, сказал ей:
– Сударыня! Я ваш покорный слуга, каким мне довелось быть для господина де Ришелье.
Госпожа д'Эгийон поблагодарила его и, со своей стороны, пообещала, что в самом скором времени она даст ему доказательства своей любви.
Эти доказательства любви, которые должен был получить Буаробер, заключались в том, что г-жа д'Эгийон, чей племянник имел в своем подчинении аббатства с зависевшими от них приоратами, могла бы давать Буароберу кое-какие из этих аббатств, по мере того как они становились вакантными.
В итоге Буаробер стал подстерегать вакантные приораты, подобно тому как охотник подстерегает кроликов. Как только ему становилось известно, что должность настоятеля какого-нибудь приората освободилась, он с услужливым видом, со шляпой в руке, тотчас являлся к г-же д’Эгийон; однако она с сокрушенным видом объявляла ему, что он опоздал на сутки и что этот приорат был отдан кому-то накануне.
Наконец Буаробер заподозрил, что за всем этим кроется какой-то обман, и, чтобы рассеять свои сомнения, отправился к г-же д'Эгийон с письмом, которым его уведомляли, что приорат Кермассоне стал вакантным.
– Ах, мой дорогой Буаробер, – воскликнула г-жа д'Эгийон, – вас все время преследуют неудачи!
– Неужто, – промолвил Буаробер, – его отдали вчера?
– Да нет, сегодня, каких-нибудь два часа тому назад ... Ах, почему вы не пришли сегодня утром!
– Даже если бы я пришел сегодня утром, сударыня, – ответил Буаробер, – успех был бы тот же.
– Но почему же?
– Да потому, что вы можете располагать этим приоратом не больше, чем луной.
– Что вы хотите этим сказать?
– А то, что приората с таким названием никогда не было, сударыня, и что на этот раз я удаляюсь, убежденный в вашей искренности и правдивости ... Ваш покорный слуга!
И Буаробер действительно удалился, и ноги его никогда больше не было в доме г-жи д'Эгийон.
Благодаря колкому остроумию и язвительному характеру Буаробера у него никогда не было недостатка в приключениях такого рода.
Особой яростью отличалась его ссора с государственным секретарем Луи Фелипо, владетелем имений Ла Врийер и Шатонёф-на-Луаре.
Господин де Ла Врийер исключил из списка тех, кто получал пенсион, брата Буаробера. По роду занятий этот брат Буаробера, носивший имя д'Увиль, был инженером.
Буаробер, знакомый со всем двором и всеми городскими властями, повел на Ла Врийера настоящую атаку по поводу названного д'Увиля. Наконец, поскольку все кругом стали говорить ему, что государственный секретарь дрогнул и что если нанести ему последний визит, то крепость будет взята, Буаробер решил отправиться к Ла Врийеру.
Однако вместо дрогнувшего человека Буаробер застал человека крайне раздраженного.