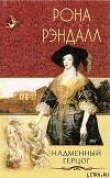Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 55 страниц)
Конрар не получил никакого образования, настолько отец боялся, что сын сделается писателем; отсюда его полное незнание латыни.
К несчастью для отца, у юного Конрара был двоюродный брат, г-н Годо, епископ Вансский, который одной рукой писал эротические стихи, а другой – духовные песнопения и впоследствии тоже состоял во Французской академии. Годо пользовался большой известностью, особенно в доме Ришелье, и когда кто-либо сочинял похвальное слово или стихотворение, то, кто бы ни был автором, в присутствии кардинала было принято говорить:
– О, это восхитительно! Сам Годо не сочинил бы лучше!
Но вот отец Конрара умер, и ничто, кроме недостатка образования, не мешало более сыну следовать своему призванию. Не отважившись приступить к латыни, он занялся итальянским языком, выучив его довольно хорошо, и испанским, выучив его довольно плохо. Не в силах заставить говорить о себе иным способом, он принялся ссужать деньги людям образованным и стал у них как бы на побегушках; ради одной лишь надежды сделаться известным в Швеции, он одолжил шесть тысяч ливров графу Тотту, главному шталмейстеру и послу шведского короля, оказавшемуся в Париже без гроша.
Неудержимое желание считаться просвещенным человеком и любовь к книгам овладели им одновременно. У него была превосходная библиотека, вероятно единственная, где не было ни одной греческой и ни одной латинской книги. Чтобы поступать так же, как другие, он всегда был настороже, внимательно следя за тем, что происходит кругом. Если модно было писать рондо, он сочинял рондо; если веянием времени становилась сатира, он сочинял сатиры, и так все подряд: рондо, загадки, парафразы. Подобное постоянное умственное напряжение вызывало у него прилив крови к голове, так что лицо его стало цвести, словно цветочная клумба весной; видя это, он начал так часто прикладываться к рюмке, что от этого у него расстроились нервы и появилась подагра. В итоге он стал страдать одновременно от подагры в ногах и от прыщей на лице.
Его предупредительность и бесконечные предложения услуг с его стороны были почти так же неприятны, как у других бывают противны себялюбие и черствость.
Мальвиль говорил о нем:
– Не кажется ли вам, что Конрар ходит по улицам и кричит: «А вот моя дружба, моя прекрасная дружба! Кому мою дружбу, мою прекрасную дружбу?»
И в самом деле, он попросил всех своих друзей подарить ему эмблемы с изречениями относительно дружбы и велел написать их красками на веленевой бумаге. Как и других, он попросил сделать это и г-жу де Рамбуйе: эмблема, которую она ему дала, изображала весталку, поддерживающую священный огонь в храме Весты; надпись же на эмблеме гласила: «FOVEBO»[49].
Тем не менее этот великий жрец дружбы поссорился с Таллеманом де Рео и Патрю, поскольку взаимная дружба этих молодых людей казалась ему сильнее той, какую они питали к нему, и с д'Абланкуром, поскольку тот написал ему просто-напросто: «Господину Конрару, секретарю короля», вместо того чтобы написать: «Господину Конрару, секретарю-советнику короля».
Когда кардинал Ришелье, прислушавшись к подсказке Конрара, задумал учредить Академию, найти сразу сорок достойных человек, которые должны были ее составить, не удалось. Буароберу, к которому мы теперь возвращаемся, было поручено включить в нее подставных академиков, подобно тому как капитаны, желая, чтобы все полагали, будто их роты укомплектованы, выставляют на смотрах так называемых подставных солдат, то есть людей, не записанных в полк. Итак, Буароберу было поручить включить в Академию подставных академиков. Он не оплошал, и академиками сделались двенадцать или пятнадцать человек, которых стали называть детьми жалости Буаробера. Сам он именовал себя заступником бедствующих муз и нередко заранее выплачивал четверть или половину их пенсионов беднягам-авторам, возвращавших ему эти деньги по собственному усмотрению.
Весьма часто он ссорился с кардиналом из-за того, что чересчур смело говорил с ним о тех, кто попал в опалу, и, никогда не выступая против них, неизменно действовал в их пользу. Кардинал противился такому давлению, но в конце концов Буаробер добивался своей цели: он знал слабую сторону кардинала; ему удавалось рассмешить его, а когда кардинал смеялся, он лишался способности к сопротивлению.
Вспомним маршала де Витри, убийцу, а точнее сказать, наемного убийцу, лишившего жизни маршала д'Анкра. Так вот, в силу естественного круговорота событий, со смертью Люина, своего покровителя, он, в свой черед, лишился не только влияния, но и свободы: кардинал приказал заключить его в Бастилию за то, что он ударил епископа.
Находясь в заключении, Витри отправил Буароберу приглашение совместно отобедать. Несмотря на сделанные ему предостережения, Буаробер отправился в Бастилию.
Но это было еще не все: за обедом Витри вырвал у Буаробера обещание пересказать кардиналу кое-какие подробности, довести которые до его высокопреосвященства маршал считал крайне важным.
В тот же вечер Буаробер, как обычно, вошел к кардиналу.
– А, это ты, Ле Буа! – промолвил Ришелье.
– Да, монсеньор.
– Ну что, какие новости?
– Прежде всего скажу вашему высокопреосвященству, что мне довелось сегодня невероятно вкусно поесть.
– Вот оно что! Так ты обедал с Ла Фаллоном?
– Нет, монсеньор, и я сомневаюсь, что вы, ваше высокопреосвященство, догадаетесь, где я обедал.
– И где же ты обедал, Ле Буа?
– В Бастилии, монсеньор.
– Ах, так! – с недовольным видом произнес кардинал. – У господина дю Трамбле, ее коменданта?
– Нет, монсеньор, у господина де Витри, ее узника.
– У господина де Витри!
Кардинал нахмурил брови.
Буаробер сделал вид, что он этого не заметил, и продолжил:
– Вы не можете себе представить, монсеньор, каким сведущим он стал.
– Неужто! – откликнулся кардинал. – И в чем же он стал сведущ?
– В религиозных вопросах ... С помощью выдержек из сочинений отцов Церкви он доказал мне, что ударить епископа никакое не преступление.
– Выходит, Ле Буа, – промолвил кардинал, – вы беретесь критиковать короля? Вы что, разыгрываете из себя министра?
– Монсеньор ...
– Король осудил поступок маршала и желает, чтобы маршал был наказан; и потому я нахожу, что вы проявляете необычайную дерзость, встав на сторону господина де Витри и выступая против мнения короля, которое я поддерживаю.
– Вы правы, монсеньор, – поклонившись, произнес Буаробер, – и я никогда более не заговорю о государственных делах ... Так вот, по поводу поручения, которое вы, ваше высокопреосвященство, мне дали, я говорил следующее ...
И он принялся давать кардиналу отчет в том, как было исполнено это поручение; затем, закончив свой рассказ, он добавил:
– Монсеньор, мне было еще поручено сказать вам ...
– Ле Буа, то, что вам поручили сказать мне, является государственным делом?
– Нет, монсеньор, нет ... Мне поручили сказать вам, что господин маршал де Витри даст своей дочери сто тысяч экю в тот день, когда вы окажете ей честь дать ей мужа по вашему собственному выбору.
– Ле Буа! – воскликнул разгневанный кардинал. – Прошу вас, замолчите!
– О! Помнится, монсеньор дал мне еще одно поручение ...
И Буаробер принялся рассказывать об этом втором поручении, как он это делал по поводу первого порученного ему дела; однако внезапно он остановился:
– Погодите, монсеньор; мне ведь еще было поручено сказать вам ...
– Кем? Господином де Витри?
– Да, монсеньор; он поручил мне сказать вам, что у него есть взрослый сын, хорошо сложенный, хорошо 286
упитанный, и он предлагает его вам: распоряжайтесь им по своему усмотрению.
– Ах, Ле Буа, это уже чересчур!
– Простите, монсеньор, но у меня было еще и третье поручение: оно состояло в том, что ...
– Нет, вы только посмотрите, каков негодяй! – воскликнул кардинал. – В итоге он выложил мне все, да так, что я не смог рассердиться.
Буаробер и в самом деле выложил ему все, однако кардинал рассердился.
Так что Буаробер поссорился с ним. К счастью, Ситуа, врач кардинала, был дружен с Буаробером. На следующий день, когда Ришелье находился в Рюэле и выпроводил какого-то посетителя, который навел на него невероятную скуку, он спросил, обращаясь к врачу:
– Ситуа, нет ли здесь кого-нибудь, кто мог бы заставить меня забыть об этом мерзавце?
– Монсеньор, здесь есть только Буаробер.
– Буаробер? Но я же отказал ему от дома. Кто впустил его в переднюю?
– Я, монсеньор; я только что повстречал его в парке: он намеревался броситься в воду и утопился бы, не помешай я этому.
– Значит, он раскаивается?
– Да еще как горестно, монсеньор!
– Тогда пусть войдет.
Буаробер, который подслушивал, стоя под дверью, тотчас вошел, рассказал кардиналу тысячу всяких небылиц и стал еще большим его другом, чем прежде.
Вот почему, когда они ссорились, а кардинал в это время был болен, Ситуа говорил:
– От всех моих лекарств не будет никакого толка, если не добавить к ним десять или двенадцать граммов Буаробера.
Жила-была на свете старая дева по имени мадемуазель де Турне, не умершая с голоду лишь благодаря неустанной предупредительности Буаробера.
Мадемуазель де Турне была родом из Пикардии и происходила из благородной семьи. В возрасте восемнадцати лет она прочитала «Опыты» Монтеня и загорелась желанием познакомиться с их автором. Между тем как раз в это время Монтень приехал в Париж; разузнав его адрес, мадемуазель де Турне тотчас отправила ему послание с изъявлением уважения, которое она питала к нему лично и к его книгам. На другой день он пришел повидаться с ней и, найдя ее столь юной и восторженной, предложил ей привязанность и союз отца и дочери; она с благодарностью приняла это предложение и с этого времени стала именовать себя названой дочерью Монтеня.
Мадемуазель де Гурне сочиняла стихи, причем не такие уж плохие, если судить по дошедшему до нас образцу. Речь идет о четверостишии, посвященном Жанне д'Арк:
Как примирить, скажи, о дева дорогая,
Твой кроткий взор с мечом, что грозной сечи ждет? —
Глазами нежными отчизну я ласкаю,
А меч мой яростный свободу ей несет![50]
Буаробер был знаком с мадемуазель де Гурне и, зная, что она находится в бедственном положении, решил помочь ей при посредстве кардинала. С этой целью, выбрав день, когда Ришелье пребывал в добром расположении духа, он показал ему четверостишие, которое мы только что привели. Кардинал прочитал четверостишие и одобрил его; вот тогда Буаробер и произнес имя мадемуазель де Гурне.
– Мадемуазель де Гурне?.. – переспросил кардинал, знавший весь литературный Париж. – Не автор ли это «Тени»?
– Именно так, монсеньор.
И в самом деле, мадемуазель де Гурне опубликовала томик под названием «Тень, или Суждения мадемуазель де Гурне».
– Приведи мне ее послезавтра, Ле Буа.
Обрадовавшись, Ле Буа отправился сообщить эту добрую весть мадемуазель де Гурне и предупредить ее, что через день он придет к ней, чтобы сопроводить ее к его высокопреосвященству.
Не стоит задавать вопрос, была ли старая дева готова к назначенному часу. Вместе с Буаробером она прибыла в Пале-Кардиналь и там была без промедления принята.
Кардинал встретил славную старую деву приветствием, которое было целиком составлено из устаревших слов, заимствованных из ее «Тени». Мадемуазель де Гурне прекрасно поняла, что кардинал хочет посмеяться над ней, однако она ничуть не смутилась и промолвила:
– Вы смеетесь над бедной старухой; но смейтесь, смейтесь, великий гений! Разве не должен весь мир развлекать вас?
Кардинал, удивленный таким присутствием духа, принес ей извинения, а затем, повернувшись к Буароберу, сказал:
– Нам следует что-нибудь сделать для мадемуазель де Гурне.
– Как раз для этого, – ответил тот, – я и привел ее к вашему высокопреосвященству.
– Хорошо, – произнес кардинал, – я даю ей пенсион в двести экю.
– Для нее это достаточно, монсеньор, и она благодарит вас; но у нее есть слуги.
– Так у нее есть слуги?
– Да, монсеньор понимает, что благородная девица не может обслуживать себя сама.
– Да, я понимаю ... И какие же у нее есть слуги?
– У нее есть мадемуазель Жамен! – ответил Буаробер.
– А кто такая мадемуазель Жамен? – поинтересовался кардинал.
– Побочная дочь Амадиса Жамена, пажа Ронсара.
– Даю пятьдесят экю в год для побочной дочери Амадиса Жамена, пажа Ронсара.
– Это достаточно для мадемуазель Жамен, и от ее имени мадемуазель де Гурне благодарит вас, однако у нее есть еще душечка Пиайон.
– А кто такая душечка Пиайон? – спросил кардинал.
– Это кошка мадемуазель де Гурне, – ответил Буаробер.
– Я даю пенсион в двадцать ливров душечке Пиайон, – произнес Ришелье, – но при условии, что она будет получать потроха.
– Она получит их, – заявил Буаробер, – и от ее имени мадемуазель де Гурне благодарит вас, но ...
– Как, Ле Буа, – воскликнул кардинал, – есть еще одно «но»?!
– Да, монсеньор; оно заключается в том, что душечка Пиайон только что окотилась.
– И сколько же у нее котят?
– Пять, монсеньор.
– Да ну? – промолвил кардинал. – Душечка Пиайон плодовита! Но это не столь важно, Буаробер: я добавляю по пистолю на каждого котенка.
И мадемуазель де Гурне, обрадованная, довольная и до конца своих дней спасенная от нищеты, удалилась с четырьмя пенсионами: двумястами экю для нее самой, пятьюдесятью экю для Жамен, двадцатью ливрами для душечки Пиайон и по пистолю для каждого из котенка!
Признайтесь, дорогие читатели, что под таким углом зрения вы кардинала еще не видели!
Так что мадемуазель де Турне была чрезвычайно признательна Буароберу, которого она всегда называла добрым аббатом; однако она побаивалась его из-за небылиц, которые он то и дело распускал.
О своей подопечной, к примеру, он говорил, что у нее вставная челюсть из зубов морского волка; что за столом она снимает эту челюсть, когда ест, а потом вновь вставляет, чтобы легче было говорить; затем, когда в свой черед говорят другие, она снимает ее снова и поспешно жует, ну а когда другие умолкают, вставляет ее опять, чтобы произнести острое словцо или целую тираду.
Душечка Пиайон упоминается в исторических сочинениях, причем не только у Таллемана де Рео, но и у аббата де Мароля, и то, что он говорит о ней, могло зародить определенные сомнения относительно пола этого любопытного животного и даже стать поводом к обвинению Буаробера и мадемуазель де Турне в мошенничестве, ибо кот неспособен окотиться.
Вот что говорит аббат де Мароль:
«За те двенадцать лет, что Пиайон жил подле мадемуазель де Гурне, он ни на одну ночь не покидал своей комнаты, чтобы, подобно другим котам, бегать по крышам».
Вам понятно, какую растерянность вызвало у комментаторов подобное расхождение во мнениях. К счастью, после долгих изысканий один археолог обнаружил два стихотворения мадемуазель де Гурне, обращенных к ее кошке; в этих стихотворениях она называет ее бесстыдницей. Так что Таллеман де Рео прав, а аббат де Мариоль ошибается: речь идет одушечке Пиайон, а не о малыше Пиайон, о кошке, а не о коте, и, стало быть, душечка Пайон вполне могла окотиться, хотя она и не бегала по крышам; но это означает, что мадемуазель де Гурне должна была без всяких угрызений совести пользоваться пенсионом в пять пистолей, который кардинал подарил пяти котятам.
VI
То влияние, какое Буаробер имел на кардинала, объяснялось его природным даром смешить своими небылицами человека, смеявшегося крайне мало.
Героями его историй были прежде всего Ракан и Вуатюр.
Поясним вначале, кем был Ракан, а затем перескажем нашим читателям кое-какие из тех историй, которые Буаробер рассказывал кардиналу.
Ракан происходил из благородной семьи: он звался Онора де Бюэй, маркиз де Ракан. Родился он в 1589 году, через четыре года после смерти Ронсара и через тридцать четыре года после рождения Малерба. В тот самый день, когда на свет появился будущий автор «Пастушеских стихотворений», его отец, который был кавалером ордена Святого Духа и генерал-майором, приобрел в качестве поместья мельницу и пожелал, чтобы сын носил фамилию по этому новому владению. Купленная мельница именовалась Ракан.
Ракан командовал тяжелой конницей маршала д'Эффиа. Это давало ему средства к жизни, ибо он ничего не мог вытянуть из отца, дела которого были в крайне запущенном состоянии и который оставил сыну наследство, не принесшее тому никакой пользы. Однако позднее Ракан разбогател.
Он был пажом нашего старого друга Бельгарда, что несколько испортило его нравственность; однако г-жа де Бельгард – и это должно было послужить ему оправданием в глазах тех, кто его осуждал, – оставила ему двадцать тысяч ливров ренты из тех сорока, какие она имела. Ракану было уже лет тридцать или тридцать пять, когда ему досталось это наследство. До этого ему нередко приходилось весьма туго.
Однажды Буаробер застал его в Туре, где Ракан занимался тем, что сочинял стихи для какого-то мелкого чиновника, обещавшего ему заплатить за них двести ливров. Буаробер одолжил ему двести ливров, и у Ракана отпала необходимость сочинять эти стихи. Как видим, славный Буаробер был настоящим ангелом-хранителем.
Как-то раз Конрар застал Ракана в каком-то притоне и хотел заставить его сменить местожительство. Однако Ракан ответил:
– Да нет, мне здесь х о л о ш о: обедаю я за столько-то, авечелом мне еще задалом тупу наливают.
Чтобы понять эту тарабарщину, следует знать, что Ракан не выговаривал ни «с», ни «р»: вместо «с» он произносил «т», а вместо «р» – «л».
Он подружился с Малербом, сделался его учеником и извлек такую пользу из его уроков, что внушил зависть своему учителю.
Особую зависть вызывала у Малерба следующая строфа из стихотворения под названием «Утешение г-ну де Бель– гарду по случаю смерти г-на де Терма, его брата»:
Под ним все божества и сам Олимп великий,
Под ним рабов своих спесивые владыки
Играют их судьбой по прихоти своей;
Под ним, как муравьи, тьма тьмущая людей,
По кучке праха всласть мотаясь неустанно,
Тщеславно вновь и вновь дробят ее на страны.[51]
Кстати, в роду у Ракана еще до него были если и не поэты, то стихоплеты: его отец и мать сочиняли стихи; правда, хорошими эти стихи не назовешь. Сам он, еще будучи ребенком и состоя в пажах у г-на де Бельгарда, уже писал стихи. Как раз к этому времени относится стихотворение «Стансы против ревнивого старца», которое начинается словами:
О старческое тело, без капли крови и без мыши ...
Пьесы Арди, постановки которых юный Ракан видел в Бургундском отеле, куда он попадал в качестве пажа г-на де Бельгарда, возбудили у него интерес к поэзии, и это при том, что он, как и Конрар, не знал латыни. Оду Горация «Beatus ille» – которую, кстати, не найти в собрании его сочинений, – Ракан перевел стихами, пользуясь прозаическим переводом шевалье де Бюэя, своего родственника.
Если силу, берущую верх над всем, дарование черпает в самом себе, то ни у кого эта сила не проявлялась ярче, чем у Ракана, ибо вне поэзии он, казалось, был полностью лишен здравого смысла.
Лицом он напоминал нормандского фермера, говорил запинаясь и никогда не мог произнести своего имени, но человеком он был добродушным, беззлобным и бесхитростным.
Как-то раз, когда Ракан, ночуя вместе с Бюсси-Ламе, своим кузеном, был занят тем, что читал книжонку, ставшую довольно редкой уже в ту пору, он почувствовал, что его, точь-в-точь как заглавного героя «Мнимого больного», прихватила вполне реальная нужда. Он отправлятся в кабинет, по выражению Мольера, а так как чтение сильно заинтересовало его, он читает на ходу, продолжает читать, делая свое дело, а затем, закончив его, бросает свою книгу в очко нужника и возвращается обратно с бумажкой перед носом, полагая, что держит в руке книгу.
– Что за дрянь там у вас?! – спрашивает его Бюсси– Ламе.
– Черт побери! – восклицает Ракан. – Это «Умиляющая Фланция», очень интелетная и очень тельезная книга.
Вместо ответа Бюсси-Ламе схватил его за руку и ткнул ему бумажку прямо в нос.
Лишь тогда Ракан заметил ошибку, совершенную им по рассеянности.
Однажды, думая о чем-то другом, он съел столько гороха, что чуть было не умер от несварения желудка. Принимая по этой причине рвотное, он без конца повторял:
– Нет, но вы потмотлите на этих негодяев лакеев: видели ведь, как я тъел столько голоха, что едва не лопнул, и не пледостелегли меня!
В другой раз он отправился в деревню повидать одного из своих друзей; ехал он один и на рослой лошади. Нужда, подобная той, какая повлекла за собой утрату «Умирающей Франции», заставила его спешиться. Затем ему следовало снова сесть в седло; однако лошадь была длинноногая, а подставки для посадки верхом рядом не нашлось. Ракан взял лошадь под уздцы и пешком продолжил путь.
Подойдя к двери своего друга он, наконец, обнаруживает там подставку и восклицает:
– О, какая удача!
С этими словами он садится на лошадь, разворачивается и возвращается домой, даже не справившись у своего друга, как тот себя чувствует.
Однажды, когда Ракан ночевал в одной комнате с Малербом и Иврандом – Ивранд, бретонский дворянин, был учеником Малерба и пажом Большой конюшни – так вот, повторяем, однажды, когда Ракан ночевал в одной комнате с Малербом и Иврандом, он поднялся первым, натянул на себя штаны Ивранда, приняв их за свои подштанники, поверх надел собственные штаны и вышел из дома, сказав, куда направляется, что по привычке всегда делал, ибо опасался забыть, куда ему следовало идти: в таком случае друзья могли ему это напомнить.
Через несколько минут Ивранд тоже решил одеться.
Однако его штанов на месте не оказалось!
– О! – восклицает он. – Это мерзавец Ракан их забрал!
С этими словами он натягивает на себя штаны Малерба, несмотря на его крики, и, даже не надев камзола, бросается вдогонку за Раканом, которого ему удается настичь на углу Королевской площади.
– А, ну вот и вы! – произносит он, с трудом переводя дыхание и опуская руку на плечо Ракану.
– Да, вот и я, – отвечает Ракан. – Ты хочешь мне что-то т к а з а т ь?
– Я хочу сказать вам, что сегодня ваша задница толще, чем вчера.
– Возможно, – говорит Ракан, – еелазнетло от плостуды: в нашей тпальне так дуло.
– И поэтому вы надели мои штаны под ваши собственные?
Ракан оглядывает себя и, обнаружив, что он, и в самом деле, толще, чем обычно, произносит:
– Возможно; но етли это так, я немедленно вел ну их вам: я ведь не вол.
И он удостоверяется, верна ли догадка Ивранда.
– Ах, признаться, это плавда! – восклицает он. – Да, конечно, плавда!
И, ничуть не беспокоясь из-за того, где они находятся, Ракан прислоняется к каменной тумбе, сначала стягивает с себя свои штаны, затем снимает штаны Ивранда, отдает их ему, снова надевает свои и продолжает путь, с удивленным видом пробираясь сквозь толпы людей, задающихся вопросом: что это за два человека – один без камзола, а другой вообще в одной рубашке, – которые переодеваются прямо на улице?
А это были Ивранд и Ракан.
Однажды вечером, попав под проливной дождь, Ракан явился в дом г-на де Бельгарда, где он жил, промокшим до нитки, и, полагая, что вошел в собственную комнату, ввалился в комнату г-жи де Бельгард.
Госпожа де Бельгард сидела по одну сторону камина, а г-жа де Лож – по другую.
Лакей Ракана, сопровождавший его и видевший, что хозяин ошибся, хотел было предупредить его об этом, однако дамы знаком велели ему молчать, ибо они предвидели, что этот рассеянный мечтатель в очередной раз чем-нибудь позабавит их.
И в самом деле, Ракан не преминул сделать это.
Не заметив ни ту, ни другую даму, он велел разуть его, снял с себя штаны и чулки и сказал лакею:
– Поди почисть мои тапоги; здеть в камине х о л о ш и й огонь, ияпотушу штаны и чулки.
Лакей удаляется.
Ракан подходит к камину, кладет прямо на голову г-жи де Бельгард свои чулки, а на голову г-жи де Лож свои штаны, усаживается в кресло и начинает сушить свою рубашку.
– Послушайте, Ракан, – обращается к нему г-жа де Бельгард, – а что это вы делаете?
Ракан вздрагивает, озирается по сторонам и видит г-жу де Лож, голова которой покрыта его штанами, и г-жу де Бельгард, голова которой покрыта его чулками.
– О тудалыни, – восклицает он, – тысячу извинений! Я п л и н я л вас за подставки для д л о в.
Однажды он собрался пойти вместе со своим приятелем-приором поохотиться на куропаток. Отправиться на охоту они должны были после вечерни.
Ракан является за час до назначенного времени.
– Дорогой мой, – говорит ему приор, – вы запамятовали, что мне нужно служить вечерню.
– Что ж, служите; я вам помогу.
Приор соглашается, полагая, что Ракан снимет с плеча ягдташ и ружье. Но ничуть не бывало: он обнаруживает Ракана в полном охотничьем снаряжении на клиросе, держащим на поводке свою собаку, и в таком виде тот читает от начала и до конца хвалебную песнь Богородице.
Что же касается охоты, то Ракану встретился охотник еще более рассеянный, чем он сам: это был г-н де Гиз.
Однажды, когда они вместе были в Туре, г-н де Гиз говорит ему:
– Ракан, поехали на охоту.
Они поехали, и в течение всего дня не расставались ни на минуту.
На следующий день г-н де Гиз встречает своего вчерашнего спутника и говорит ему:
– Вы правильно сделали, что не поехали вчера со мной на охоту: от наших собак мы ничего путного не дождались.
Ракан, хоть и был страшно рассеянным, заметил рассеянность г-на де Гиза и, подобно тому как заяц Лафонтена был счастлив встретить еще большего труса, чем он сам, пришел в восторг, встретив человека, который по части рассеянности мог дать ему сто очков вперед.
И потому, когда г-н де Гиз отправился на охоту в следующий раз, Ракан не поехал с ним; однако, нарочно весь перепачкавшись, он стал поджидать его возвращения и, в ту минуту, когда тот появился, занял место рядом с ним.
– О, черт побери, – при виде его воскликнул г-н де Гиз, – день на день не приходится, Ракан! Вы отлично поступили, поехав сегодня с нами, ведь мы получили огромное удовольствие, не так ли?
– Да, монтеньол, – ответил Ракан, с удовольствием пересказывавший затем эту историю.
Не раз случалось, что, остановленный приятелем, который встречался ему на дороге и останавливал его, чтобы побеседовать с ним, Ракан подавал ему милостыню, приняв его за нищего.
Как-то раз он целый день прохромал, поскольку нередко прогуливался с каким-то с хромым дворянином.
Однажды утром, не приняв еще никакой пищи и ощутив потребность выпить что-нибудь, он заходит к одному из своих друзей.
– Это ты, Ракан?
– Ну, конечно же, я!
– И по какому случаю я тебя вижу?
– Да вот, шел мимо и ощутил тлабость; дай-ка мне что-нибудь выпить.
– Послушай, – произносит друг, который еще лежал в постели, – вон в том шкафчике стоит рюмка гипокраса, которую я налил себе вчера, а рядом – рюмка с лекарством, которое мне надо принять сегодня утром. Постарайся не ошибиться.
Ракан подошел к шкафчику, и, поскольку друг позаботился сделать запах своего лекарства как можно более приятным, чтобы принимать его было не так противно, наш чудак не преминул перепутать рюмки.
– Ну вот! – говорит он. – Теперь все преклатно, и, хотя гипоклас у тебя сквелный, он, надеюсь, поможет мне дотянуть до обеда.
– Так ты еще не завтракал? – спрашивает друг.
– Нет, я иду к обедне и буду пличащаться.
– Как, ты собираешься причащаться и перед причастием пьешь гипокрас?
– А ведь, ей-Богу, ты пл а в! – восклицает Ракан. – Я намелевался товелшить кощунство, не подумав об этом ... Коли так, я пойду к обедне, но пличащаться не буду.
И, в самом деле, Ракан отправился к обедне.
Однако, когда дело дошло до молитвы «Символ веры», он ощутил такой непорядок в желудке, что если и успел выскочить из церкви, то без происшествий добежать до дома все же не сумел.
Что же касается его больного друга, который выпил гипокрас вместо слабительного, то он не ощутил ничего, кроме тепла в желудке, и сходил совсем мало, тогда как Ракан сходил чересчур сильно.
Когда Ракан ухаживал за женщиной, позднее ставшей его женой, он решил однажды навестить ее за городом и ради такого торжественного случая заказал у своего портного платье из тафты селаданового цвета: этот бледно– зеленый цвет, называвшийся по имени героя «Астреи», был тогда в моде.
Платье было доставлено заказчику. Тот одобрил его и решил надеть; однако у Ракана был слуга, заботившийся о нем больше, чем он сам, и звавшийся Никола.
Никола воспротивился такой расточительности.
– Ну а если пойдет дождь, – спрашивает он своего хозяина, – что станет с вашим платьем из селадоновой тафты?
– Это вел но, – соглашается Ракан.
– Ну, конечно!
– И что же делать?
– Да уж, вопрос трудный, не так ли?
– Я нахожу его тлудным, Никола, потому и тплащиваю у тебя товета.
– Ну что ж, тогда наденьте ваше платье из темного сукна, а в ста шагах от замка, где-нибудь под деревом, переоденетесь.
– Xолошо, Никола, я сделаю по-твоему, мой мальчик, – отвечает Ракан.
И он отправился в путь в своем темном суконном платье, в то время как Никола нес селадоновое платье, бережно завернутое в полотенце.
В ста шагах от дома своей милой Ракан видит небольшое деревце, словно нарочно посаженное там для того, чтобы под ним можно было делать то, чем он собирался заняться, спешивается и начинает переодеваться.
Но едва только он успел натянуть на себя штаны, как внезапно в сопровождении двух подруг появляется предмет его любви.
Все три девицы принимаются громко кричать.
– Ах, Никола, – восклицает Ракан, – ну что я тебе говолил! Тебе понятно, что у меня был такой вид, будто я не пелеодевался, а делал нечто совсем длугое?
– О сударь, – отвечает Никола, – все это не беда, однако поторапливайтесь.
Возлюбленная Ракана хотела обратиться в бегство, однако остальные девицы по зловредности подтолкнули ее к нему.
И тогда, совершенно пристыженный, Ракан горестно произносит:
– Мадемуазель, это Никола так захотел; я этого не хотел ...
И, повернувшись к слуге, добавляет:
– Да говоли же за меня, Никола, а то я не знаю, что еще тказать.
Как-то раз один из соседей Ракана – это произошло спустя несколько дней после его женитьбы на юной девице, столь некстати наблюдавшей за ним, – так вот, повторяю, как-то раз один из его соседей, к которому он приехал обедать, подарил ему великолепные оленьи рога. Когда настало время уезжать, Ракан велел Никола взять их с собой, однако тот заупрямился.
– А чего это ты охаешь, Никола? – спрашивает его Ракан.
– О сударь, – отвечает слуга, – я пытаюсь примерить так и сяк вещь, которую вы мне дали.
– И что же?
– А то, что вы, как видно, еще не знаете, насколько тяжело носить рога; иначе вы не стали бы меня так мучить.
Когда его приняли в Академию, он должен был произнести вступительную речь.
Поскольку слава его была велика, все с нетерпением ждали эту речь. Собралось много народу.
Ракан вошел, поднялся на трибуну и, показывая всем разорванный листок бумаги, произнес:
– Готпода, я точинил очень класивую, на мой взгляд, лечь, но моя болзая сука начисто ее тжевала; вот эта лечь: извлеките из нее в те, что тможете, ибо наизусть я ее не знаю, а копии у меня нет.