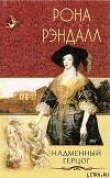Текст книги "Генрих IV. Людовик XIII и Ришелье"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 55 страниц)
Кроме того, Рене Бенуа, духовник короля, тоже склонял ее к тому, чтобы вернуться в Париж на эти торжества.
Так что было решено, что любовники разлучатся дней на пять и вновь встретятся, как только праздник Пасхи завершится.
Столь короткая разлука была пустяком для людей, которым приходилось весьма часто расставаться, и, тем не менее, не бывало еще отъезда более печального. Казалось, оба они испытывали какое-то смертельное предчувствие и некий мрачный голос говорил им в глубине души, что они не увидятся вновь. Любовники все никак не могли решиться на разлуку; они расставались, но стоило Габриель отъехать на двадцать шагов, как она возвращалась, чтобы препоручить королю заботу о своих детях, своих слугах и своем доме в Монсо; затем король прощался с ней, после чего уже он, в свой черед, вновь окликал ее. Генрих проводил ее более чем на целое льё, а затем, грустный и заплаканный, вернулся в Фонтенбло, в то время как Габриель, не менее грустная и не менее заплаканная, продолжила свой путь в Париж.
Наконец, Габриель приехала в Париж. Ее сопровождал камердинер Генриха IV, по имени Фуке и прозвищу Ла Варенн. Это был деятельный пособник короля в его любовных похождениях. Он играл подле него ту же роль, какую Лебель играл при Людовике XV. Несчастный умер от страха, когда ученая сорока, которую он дразнил, выкрикнула не его фамилию, Фуке, и не его прозвище, Ла Варенн, а назвала его именем рыбы.
В сущности говоря, ученая сорока явно совершила не столь страшную ошибку, как обезьяна Лафонтена, принявшая название Пирей за имя человека.
Предчувствия бедной Габриель были небеспричинны.
Весь двор объединился против нее.
Генрих IV бывал влюблен множество раз и влюблен по-разному, но никого он не любил так, как Габриель.
Он сочинил или приказал сочинить для нее, вероятно на мелодию старинного псалма, восхитительную песенку, ставшую популярной тогда и остающуюся популярной еще и сегодня, – «Прелестная Габриель».
Если от всей монархии что и осталось на устах народа, так это одно имя: Генрих IV и две песенки: «Прелестная Габриель» и «Мальбрук в поход собрался».
Хотя нет, осталось еще выражение «Курица в горшке».
После сорока лет войны страна вошла в эпоху мира; все испытывали голод и жажду, ибо не пили и не ели на протяжении полувека. Казалось, даже сам гасконец, умеренный в еде и питье, сделался гурманом.
«Пришлите мне жирных гусей из Беарна, – приказывает он, – самых жирных, каких только вам удастся найти и какие могут сделать честь тамошнему краю».
Как и всем своим любовницам, Генрих обещал Габриель жениться на ней. Габриель, которой исполнилось двадцать шесть лет, была полной, дородной и жизнерадостной; она чрезвычайно любила поесть – это для нее, по всей вероятности, Генрих IV выписывал жирных гусей из Беарна. На рисунке, которому суждено было стать ее последним прижизненным портретом и которым владеет Библиотека, ее цветущее лицо сияет, словно букет лилий и роз.
«Если это и не была еще королева, – говорит Мишле, – то это определенно была любовница короля, царствующего во времена мира: она являлась символом и блистательным предзнаменованием семи тучных лет, которые должны были последовать за семью тощими годами и заря которых едва забрезжила».[26]
Более того, это была мать детей, которых король очень любил, – толстяков Вандомов. Мягкотелый во взаимоотношениях со своими любовницами, Генрих IV был еще более мягкотелым отцом, по крайней мере в отношении тех детей, каких он считал своими. Он никогда не был снисходителен к Людовику XIII, которого письменно приказывал нещадно сечь. Вспомним, как ползавший на четвереньках король с восседавшими на его спине детьми принимал испанского посла.
Генриху было сорок пять лет; с тридцати он носил ратный доспех и, едва сняв его с себя, почти тотчас же облачался в него снова. Он подошел к тому возрасту, когда человек нуждается в отдыхе, в спокойном домашнем счастье. Как и всех слабовольных людей, его одолевало спесивое желание казаться неограниченным властелином. Габриель, которая в действительности была повелительницей, позволяла ему выглядеть повелителем. И это его устраивало.
Худой, юркий, постаревший телом и крайне изношенный в любовных похождениях, он оставался бесконечно молод душой и своей кипучей энергией внушал уважение Европе и поддерживал высокое мнение о себе. Никогда его не видели сидящим, никогда он не казался уставшим: казалось, что за какой-то совершенный им грех этот неутомимый беарнский ходок получил от небес запрет на отдых; стоя он выслушивал послов, стоя руководил советом, а затем, закончив выслушивать послов и руководить советом, садился на лошадь и с яростью охотился. Казалось, в теле его живет дьявол. И потому народ, столь точный в своих оценках, назвал его Четырежды Дьяволом.
Вся эта энергия сохранялась до тех пор, пока длилась война. Как только был заключен мир, Генрих IV заметил, что он не только устал, но и исчерпал свои силы.
Через полгода после заключения мира, устав, вероятно, ждать, на короля обрушилась ужасающая троица: задержка мочеиспускания, подагра и диарея. Прости, дорогой читатель, но мы ведь рассказываем о королях в домашнем халате!
Несчастный Генрих IV решил, что он умирает.
Он столько перевидал, столько сделал, столько страдал!
Но в одном отношении Генрих IV оставался тем, кем он был всегда: большим охотником до женщин и даже девушек.
Госпожа де Мотвиль жалуется, что в ее время женщины уже не пользовались таким почетом, как при Генрихе IV. Дело в том, что Генрих IV любил женщин, а Людовик XIII питал к ним отвращение.
Почему же сын Генриха IV питал отвращение к женщинам?
Однако мы, альковные историки, никогда и не говорили, что Людовик XIII был сыном Генриха IV.
И, возможно, мы скажем нечто совсем противоположное, когда приступим к разговору о его рождении.
Так что обстоятельства складывались для Габриель благоприятно: помучившись немного, она вот-вот должна была стать женой уставшего короля и принести ему в качестве приданого не золото и не провинции, а нечто куда более ценное: уже готовых детей.
Но потерпевшая поражение Испания питала надежду отыграться, подложив в постель к королю королеву– испанку.
Отсюда и проистекали страхи Габриель. Она ощущала себя помехой. А перед лицом Испании и Австрии помехи существовали недолго.
Французский король был единственным в Европе королем-солдатом, а Франция – единственной воинственной нацией. Завладеть Францией было невозможно, и потому следовало завладеть ее королем.
Следовало его женить.
Ну а если женить его оказалось бы невозможно, его следовало убить.
Его женили, но это не помешало его убить.
Как политик он был тоже чрезвычайно силен. У него одного ума было больше, чем у всех его врагов вместе взятых. Хотя и притворяясь, что он делает все, что угодно Риму, Генрих IV всегда в конечном счете поступал по-своему.
Он пообещал папе возвратить иезуитов, но и не подумал сдержать свое слово.
Возвращение иезуитов, и он это прекрасно понимал, означало его смерть.
Папа оказывал на него давление посредством своего нунция. Но он, всегда остроумный, всегда уклончивый, всегда ускользающий, отвечал:
– Будь у меня две жизни, я охотно отдал бы одну папе. Но у меня она только одна, и я должен сохранить ее, чтобы служить его святейшеству.
И добавлял:
– И интересам моих подданных.
Итак, следовало женить короля или убить его!
Надо отдать справедливость папе, он выступал за женитьбу.
За женитьбу итальянскую или испанскую: к примеру, тосканскую.
Медичи были одновременно итальянцами и испанцами.
Правда, на всякий случай легат Мальвецци готовил в Брюсселе убийство. Почитайте сочинение де Ту.
Король, как и прежде, был еще очень беден. Находясь в крайней нужде, он был вынужден прибегать к помощи князя-банкира, самовластителя Флоренции. У наших королей была привычка просительно протягивать руку поверх Альп, и герб Медичи все еще украшали геральдические лилии, которыми Людовик XI уплатил им свои долги. Но, будучи банкирами, Медичи приняли меры предосторожности. Генрих занимал у них деньги под будущие налоги, и флорентийские банкиры располагали во Франции двумя финансовыми инспекторами, действовавшими от их имени и получавшими подати напрямую.
То были Гонди и Заме.
Обратите внимание, что как раз в доме Заме умрет Габриель.
В доме подданного великого герцога Фердинандо, который год спустя выдаст замуж свою племянницу – фламандку по матери, Иоганне Австрийской, фламандку по деду, императору Фердинанду, родственнику Филиппа II и Филиппа III, – за Генриха IV, вдовца Габриель.
На всякий случай великий герцог Фердинандо послал Генриху IV портрет Марии Медичи.
– Вы не опасаетесь этого портрета? – спрашивали у Габриель.
– Нет, – отвечала она, – я не опасаюсь портрета, но я опасаюсь денежного сундука.
Поддержкой Габриель служило то, что с таким человеком, как Генрих IV, ощущалась потребность в королеве-француженке.
Однако к числу ее противников относился человек, от которого трудно было добиться согласия: Сюлли, а Генрих IV ничего не делал без согласия Сюлли. Д'Эстре совершили ошибку, настроив против себя злопамятного финансиста.
Сюлли мечтал стать главнокомандующим артиллерией, а д'Эстре забрали эту крупную должность себе.
Этот великий астролог земных дел своим в высшей степени прозорливым умом осознал, что Габриель не добьется своего, хотя на ее стороне и стоит король.
Но что значил король в подобных делах!
Он мог отдать все свое тело, но не руку.
А кроме того, у него не было ни гроша. Сюлли лишь начал свой грандиозный труд по восстановлению финансов, который по прошествии десяти лет принес вместо двадцатипятимиллионного дефицита излишек в тридцать миллионов. Итальянка была богата, и Сюлли, являвшийся прежде всего финансистом, стоял за итальянку.
Генрих IV имел подле себя двух человек, к которым он питал полное доверие:
Ла Варенн, бывший капеллан;
Заме, бывший сапожник.
Они были негодяями, и король это знал, но он не мог обойтись без них, так же как и без любовниц.
Нам предстоит заняться прежде всего Заме.
Ну а теперь, обозрев обстановку, перейдем к драме.
VI
По приезде в Париж, неизвестно почему, Габриель, вместо того чтобы остановиться в собственном доме – у великих бед всегда есть свои тайны, – так вот, вместо того чтобы остановиться в собственном доме, Габриель остановилась у Себастьяна Заме, особняк которого находился у стен Бастилии, ровно там, где теперь проходит улица Вишневого сада.
Вишневый сад, в старые времена служивший плодовым садом наших королей, составлял в ту пору часть парка Заме.
Как могло получиться, что в нашем рассказе о частной жизни Генриха IV мы еще не упоминали этого богатого откупщика? Мы и сами этого не понимаем.
Себастьян Заме, отец генерал-майора королевской армии и епископа Лангрского, был сапожником Генриха III. Лишь ему одному удавалось должным образом обувать изящную ногу его величества. Родом он был из Лукки. Его жизнерадостный характер и его флорентийские шутки обеспечивали ему доступ к Генриху III. Он был их тех, кого в Париже в ту эпоху называли лихоимцами, в древнем Иерусалиме именовали фарисеями, а в наши дни во всех странах мира называют ростовщиками.
Когда при подписании брачного договора одной из дочерей Заме нотариус, не знавший, как его титуловать, спросил финансиста, по какому владению он хотел бы именоваться в этом документе, тот спокойно ответил:
– Напишите «владетель миллиона семисот тысяч экю».
Король, как мы уже говорили, любил его и часто приходил к нему ужинать вместе со своими друзьями и любовницами. Называл он его просто Б а с т ь я н.
Итак, Габриель, вместо того чтобы остановиться в своем особняке, где ее, по всей вероятности, не ждали, остановилась у Заме.
Сюлли сам рассказывает, что он навестил ее там и она была очень ласкова с ним; после этого он послал к ней свою жену, но это все испортило. Желая быть любезной, Габриель сказала г-же де Сюлли, что та может рассчитывать на ее дружбу и что она всегда будет принимать ее во время своих утренних выходов и своих вечерних отходов ко сну.
Эти королевские замашки вывели г-жу де Сюлли из себя.
Она вернулась в замок Рони разъяренная, но Сюлли успокоил ее, сказав:
– Не волнуйся, душенька моя, так далеко дела не зайдут.
Заме, казалось, был обрадован великой честью, оказанной ему Габриель; он велел приготовить самый изысканный обед и лично пекся о блюдах, которые, как ему было известно, более всего любила герцогиня.
Наутро, то есть в Страстной четверг, она причастилась.
Будучи любительницей поесть и радуясь тому, что она разделалась с обязанностью, исполненной ею лишь крайне неохотно, Габриель, к тому же беременная, ела очень много.
После полудня она отправилась к Темной заутрене, которая должна была проходить в церкви Пти– Сент-Антуан и сопровождаться долгими песнопениями. Она проследовала туда в дорожных носилках, в сопровождении капитана гвардейцев, ехавшего рядом с носилками. Для нее приберегли отдельную часовню, куда она вошла, чтобы не испытывать тесноты и не быть чересчур на виду. Пока шла служба, находившаяся рядом с герцогиней мадемуазель де Гиз прочитала по ее просьбе письма из Рима, в которых Габриель уверяли, что ждать развода короля и королевы Маргариты осталось недолго, и два письма короля, которые он написал ей в тот день.
Эти письма были, возможно, самыми пылкими и самыми страстными из всех, какие он когда-либо писал герцогине де Бофор. В них он извещал ее, что незамедлительно отправляет в Рим сьера де Френа с новыми распоряжениями.
По окончании Темной заутрени, выходя из церкви, она оперлась о руку г-жи де Гиз и сказала ей:
– Я не понимаю, что со мною, но мне плохо.
Затем, подойдя к дверям и садясь в носилки, она промолвила:
– Прошу вас, приходите вечером побеседовать со мной.
После этого она приказала доставить ее обратно в дом Заме и там, почувствовав себя немного лучше, попыталась прогуляться по парку.
Но во время этой прогулки у нее начался второй приступ.
И тогда, как если бы вдруг молния сверкнула в ее сознании, она принялась кричать, требуя, чтобы ее забрали из дома Заме и отвезли к ее тетке, г-же де Сурди, жившей около клуатра Сен-Жермен.
«Что и пришлось сделать, – заявил Ла Варенн в разговоре с Сюлли, – из-за чрезвычайной горячности, какую она выказывала, желая уехать из дома сьера Заме».
Тотчас по прибытии в дом г-жи де Сурди герцогиня приказала, чтобы ее раздели. Она жаловалась на сильную головную боль.
Госпожи де Сурди не было дома, и герцогиня оказалась наедине с Ла Варенном. Он по-всякому хлопотал вокруг нее, но за врачом не посылал.
За ним послали лишь тогда, когда приступы у герцогини стали частыми и страшными.
Пока больную раздевали, у нее случились ужасные судороги.
Едва придя в себя, она попросила перо и чернил, чтобы написать письмо королю, но ей помешали сделать это новые судороги.
Оправившись от этих новых судорог, герцогиня взяла пришедшее как раз в эту минуту письмо короля. Это было уже третье его письмо, полученное ею после отъезда из Фонтенбло. Она хотела прочитать его, но у нее в третий раз начались судороги, становившиеся все сильнее.
Явился врач; однако он заявил, что ничего не может прописать беременной женщине и надо предоставить действовать природе.
В пятницу у нее случился выкидыш; ребенок был четырехмесячный.
Врач снова ничего не сделал. А ведь это был Ла Ривьер, врач короля.
Вечером в пятницу герцогиня потеряла сознание.
В одиннадцать часов она скончалась.
Умерла она буквально на глазах у врача.
Таким образом сбылись четыре сделанных ей предсказания:
первое – что она будет замужем только один раз;
второе – что она умрет молодой;
третье – что ребенок разрушит все ее надежды;
четвертое – что человек, которому она целиком и полностью доверяла, предаст ее.
«После своей смерти, – говорит Мезре, – она выглядела такой безобразной, а лицо ее было так искажено, что на нее нельзя было смотреть без страха. И ее враги, – добавляет он, – не упустили случай внушить народу, что это дьявол привел ее в такое состояние, поскольку, утверждали все те же враги, она предалась ему, чтобы одной пользоваться милостями короля, и теперь дьявол свернул ей шею».
Ну разумеется, дьявол!
Повод к этой небылице дало то, что тот самый Ла Ривьер, который ограничился тем, что наблюдал, как она умирает, имел неосторожность сказать, уходя:
– Hie est manus Domini.[27]
Впрочем, в то же самое время нечто подобное рассказывали о Луизе де Бюдо, второй жене Генриха де Монморанси. Вот что говорит о ней в своих «Мемуарах» Сюлли:
«Рассказывают, что она находилась в обществе приятельниц, когда ей доложили, что какой-то дворянин, довольно приятный на вид, но смуглый и темноволосый, желает поговорить с ней о важных делах. Явно озадаченная и растерянная, она велела передать ему, чтобы он пришел в другой раз. В ответ он заявил, что, если она не выйдет к нему, он явится к ней сам. Так что ей пришлось покинуть приятельниц, и, расставаясь с ними, она со слезами на глазах сказала трем своим подругам слова прощания, как если бы шла на верную смерть. И действительно, через несколько дней она умерла, причем лицо ее и шея были повернуты задом наперед. На этой небылице, — добавляет Сюлли, – настаивают три дамы, с которыми попрощалась г-жа де Монморанси».
Вернемся к Генриху IV.
В это время, как мы уже говорили, он находился в Фонтенбло.
При первом же известии о болезни герцогини он верхом, во весь опор, помчался в Париж. В Вильжюифе король встретился с гонцом, ехавшим к нему с вестью о ее смерти.
Д'Орнано, Роклор и Фронтенак, сопровождавшие короля, убедили его повернуть обратно и в конце концов приехали с ним в аббатство Соссе вблизи Вильжюифа, где он бросился на постель, выказывая признаки сильнейшего горя.
Несколько часов спустя из Парижа приехала карета; он сел в эту карету и вернулся на ней в Фонтенбло, куда уже поспешили приехать самые важные вельможи.
Но, прибыв туда и войдя в главный зал замка, он сказал, обращаясь к ним:
– Господа, прошу вас всех возвратиться в Париж и молить Господа даровать мне утешение.
Вельможи откланялись и удалились. Король оставил возле себя лишь Бельгарда, графа дю Люда, Терма, Кастельно де Шалосса, Монгл4 и Фронтенака.
И поскольку Бассомпьер, сопровождавший герцогиню де Бофор из Фонтенбло в Париж, куда она ехала водным путем, хотел удалиться вместе с другими, король остановил его.
– Бассомпьер, – сказал он ему, – вам довелось последним находиться подле моей возлюбленной; оставайтесь же подле меня, чтобы оказать мне поддержку.
«Так что я остался, — вспоминает Бассомпьер, – и мы провели неделю или дней десять в одном и том же составе, если не считать нескольких послов, которые приезжали погоревать вместе с ним, а затем тотчас возвращались обратно».[28]
По прошествии этой недели Генрих IV удержал подле себя лишь Бюсси-Ламе и герцога де Реца.
Герцог де Рец дал королю возможность излить жалобы, а затем сказал ему почти со смехом:
– Ах, право, государь, в конечном счете эта смерть представляется мне манной небесной.
– Манной небесной? И почему же? – спросил Генрих IV.
– Да подумайте о невероятной глупости, которую вы намеревались совершить, государь.
– Что за невероятная глупость?
– Жениться на этой женщине!.. Сделать мадемуазель д'Эстре королевой Франции! О, еще раз Богом клянусь, Провидение оказало вам великую милость.
Король уронил голову на грудь и какое-то время размышлял.
Наконец он поднял голову и сказал:
– Возможно, в конечном счете вы и правы, герцог; не знаю, милость это или испытание, но, полагаю, на всякий случай мне следует возблагодарить Господа.
«И он возблагодарил Господа и утешился настолько, – говорит автор «Любовных похождений великого Алькандра», – что по прошествии трех недель влюбился в мадемуазель д'Антраг».
Однако это вовсе не помешало тому, чтобы в течение трех месяцев король ходил в трауре, причем черном, вопреки обычаю: короли носят траурные одежды фиолетового цвета.
Что же касается несчастной Габриель, то о причинах ее смерти так ничего больше и не узнали. Однако продолжал ходить слух, что она была отравлена.
В Рони царила великая радость. Габриель умерла в субботу утром, но еще в пятницу вечером Ла Варенн отправил гонца в Рони.
Так что в тот самый час, когда Габриель умирала, Сюлли обнимал жену, лежавшую в постели, и говорил ей:
– Девочка моя, вам не придется появляться на утренних выходах герцогини: ее надежды лопнули.
Что же касается Заме и Ла Варенна, то оба они остались в фаворе: Заме – именуя свою кассу ломбардом для королей, а Ла Варенн – закладывая фундамент церкви в Ла-Флеше.
VII
Однажды вечером Генрих и Сюлли беседовали с глазу на глаз в спальне короля, положив ноги на каминные подставки для дров, словно два заурядных обывателя с улицы Сен-Дени.
Прошло три месяца после смерти Габриель и месяц или полтора после того, как мадемуазель д'Антраг сменила герцогиню де Бофор.
– Итак, государь, – говорил Сюлли, – у нас есть согласие Маргариты на развод, и ваш брак вскоре будет расторгнут Римской курией. Вам следует подумать о том, чтобы выбрать себе жену среди владетельных принцесс; ибо, напоминаю вам без всякого злого умысла ваш возраст, государь, тринадцатого декабря этого года вам исполнится сорок шесть лет, и вам пришло время жениться, если вы хотите довести вашего наследника престола до совершеннолетия.
Генрих на минуту задумался, а затем, покачав головой, сказал:
– Друг мой, это тяжелая задача – отыскать себе вторую жену, если первую звали Маргарита Валуа; ведь даже если предположить, что мне удастся соединить в одной– единственной женщине всю красоту и все достоинства всех любовниц, какие у меня были, я пожелаю, чтобы в ней было нечто еще.
– Но что же нужно найти в женщине, государь, чтобы вы были довольны?
– Мне нужно найти красоту в ее облике, целомудрие в образе жизни, любезность в нраве, искусность в уме, плодовитость в браке, благородство в происхождении и большое государство во владении; и я, полагаю, друг мой, что такая женщина еще не родилась и не скоро родится.
– Что ж, – промолвил Сюлли, – поищем тогда нечто реальное.
– Поищем, если это доставит тебе удовольствие, Рони.
– Что вы скажете об испанской инфанте, государь?
– Я скажу, что, хотя инфанта некрасива и старовата для любовных утех, она вполне подошла бы мне, если бы вместе с ней я сочетался бы браком и с Нидерландами.
– А не видите ли вы в качестве своей жены какую– нибудь немецкую принцессу?
– Не говори мне о них, Рони: королева-немка едва не погубила всю Францию.
– Ну а сестры принца Оранского?
– Они гугенотки и повредят моим взамоотношениям с Римом и ревностными католиками.
– А племянница Фердинандо, герцога Флоренции?
– Она из семьи королевы Екатерины Медичи, наделавшей много зла Франции, а особенно мне.
– Тогда поищем внутри самого королевства. Вот, к примеру, ваша племянница де Гиз.
– Она благородного происхождения, красивая, высокая и статная, хотя немного кокетливая и, по слухам, чересчур любит любовные записочки. Добрая, остроумная и веселая, она мне очень нравится; однако я опасаюсь ее пристрастия к возвеличиванию своих братьев и своей семьи. Старшая дочь Майена, хоть она и смугла, нравится мне ничуть не меньше, однако она еще слишком юна. Есть еще одна девица в семье Люксембургов и одна – в семье Гемене, есть моя кузина Екатерина де Роган. Но эта последняя опять-таки гугенотка, а что касается прочих, то они мне не нравятся.
– Но ведь, государь, поскольку в конечном счете вам необходимо жениться, то я бы на вашем месте просто– напросто остановил свой выбор на женщине с характером добрым и любезным, которая родит мне детей и будет в состоянии руководить королевством и своей семьей, если я, умерев, оставлю дофина чересчур молодым для того, чтобы он правил самостоятельно.
Генрих IV тяжело вздохнул. Сюлли понял, что ему следует пойти на уступки.
– Даже если мне пришлось бы искать в любовнице те достоинства, каких не будет в жене, – добавил он.
Эти последние слова явно произвели впечатление на Генриха IV.
– Любовница у меня уже есть, – сказал он. – Остается найти жену.
– Хорошо, государь, поищем!
– Я не вижу никого, кроме тех, что я тебе назвал.
– Что ж, поищем среди тех, что вы мне назвали.
И оба они принялись искать.
Наконец после долгих поисков, обсуждений и споров предубеждение против имени Медичи было устранено и король и Сюлли остановили свой выбор на Марии де Медичи, племяннице Фердинандо, великого герцога Флоренции, дочери Франциска де Медичи, предыдущего герцога, и Иоганны Австрийской.
Когда Генрих IV надумал жениться на ней, это была уже не юная девушка, а двадцатисемилетняя женщина. Все с похвалой говорили о ее красоте; посмотрим, было ли это справедливо.
История говорит, что у нее были прекраснейшие каштановые волосы, высокий лоб, кожа восхитительной белизны, живые глаза, гордый взгляд, совершенный овал лица, восхитительные шея и грудь, плечи и руки, достойные служить моделью великим живописцам и великим ваятелям ее родины; все это дополнялось пышным станом и прекрасным сложением.
Посмотрим теперь, что говорит действительность.
Взгляните на полотна Рубенса: Рубенс уступил действительности. Распря с ее черными волосами, трепещущим телом и пылающими глазами великолепна. Белокурая нереида очаровательна: это любовная греза, сотканная из лилий и роз. Но среди всего этого королева – толстая торговка, как называли ее французы, – дебелая рослая женщина с белоснежной кожей, красивыми плечами и красивой грудью, в высшей степени заурядна и выглядит истинной дочерью торговцев, своих предков!
Это по поводу ее внешних достоинств.
Что же касается ее нравственных достоинств, то она никоим образом не имела всех тех положительных качеств, какие Генрих IV надеялся найти в ней. Сердце она имела доброе, даже щедрое, и ум ее отличался определенной утонченностью, но в ней было больше самомнения, чем одаренности, и больше упрямства, чем истинного величия. Ни на шаг не отступая от собственных суждений или суждений тех, кто подавал ей советы, она обладала склонностью к интриге и способностью к той итальянской политике, которая состоит в том, чтобы создавать партии, а затем разделять их. Но, создавая и разделяя эти партии, она не владела искусством объединять их в свою пользу и извлекать из этого выгоду, а это всегда приводило к тому, что она, напротив, становилась их жертвой. В минуты своего дурного настроения король обвинял ее в том, что она высокомерна, спесива, подозрительна, склонна к роскоши и мотовству, ленива и мстительна. Однако он добавлял, причем не как противовес этим недостаткам, а, возможно, как еще один упрек, что она скрытна и всегда трудно узнать то, что она хочет утаить.
Как это принято говорить в делах, связанных с брачными договорами, с собой она принесла надежды.
Прежде всего, огромную сумму денег.
А кроме того, обещание способствовать избранию папы от французской партии.
Вот и все по поводу жены.
Что же касается любовницы, которой из предосторожности уже обзавелся Генрих IV, то есть Генриетты д'Антраг, то – скажем сначала о ее происхождении – это была дочь Мари Туше и Франсуа де Бальзака, сеньора д'Антрага, де Маркуси и дю Буа-Мальзерба, которого в 1578 году Генрих III возвел в достоинство рыцаря своего ордена. Родившаяся в 1579 году, она была младшей сестрой знаменитого графа Овернского, позднее ставшего герцогом Ангулемским, который был внебрачным сыном Карла IX и прожил семьдесят восемь лет, то есть до 1650 года, а значит, будь он законным сыном, а не внебрачным, царствовал бы вместо Генриха III, Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV.
Мари Туше, эта вдова Карла IX и жена Франсуа де Бальзака, была строгой хранительницей чести своей дочери. Однажды, когда один из пажей забылся и вольно повел себя с девушкой, Мари Туше убила его собственной рукой.
Ее дочери, мадемуазель д'Антраг, было девятнадцать лет, когда умерла Габриель.
Вот что написал о ней Берто в одном из своих сонетов:
Глаза! Вы на земле – небесные светила,
Сердца влюбленных вы сжигаете дотла.
Вы, дивные глаза, для гордецов – могила,
И стоит вам взглянуть – вождям ничто хвала.
Вы – это западня, но жизнь без вас уныла,
Сеть золотых волос героев в плен брала.
Презрения и любви в зрачках таится сила;
Вы – гибель и расцвет, вам – оды и хула.
Красавица, у вас – ни одного изъяна,
Я не могу молчать о том, как вы желанны,
Но ваши прелести кто сможет перечесть?!
Блеск вашей красоты достоин вашей славы.
Пропеть вам громкий гимн не я имею право —
Лишь только ангелам дана такая честь![29]
Не знаю, заметили ли наши читатели, что три поэта, которые сочиняли в ту эпоху стихи подобного рода, имевшие целью превозносить видимые и тайные прелести любовниц короля, были духовными лицами: аббат Депорт, епископ Берто и кардинал дю Перрон.
Вернемся к мадемуазель д'Антраг.
Ее звали Генриетта; то был сверкающий ум, если не сказать пламенный; она была своенравна, строптива, язвительна, хитра и очень молода – ей исполнилось, напомним, всего лишь девятнадцать лет, – а ее фигура нимфы сильно отличалась от тучной фигуры Габриель.
Она любила сказать то, что тогда называли красным словцом, а мы теперь называем остротой, и в этом отношении обладала определенным сходством с Генрихом IV.
«Это была, — говорит Сюлли, – острая на язык говорунья, удачные шутки которой делали ее общество необычайно приятным для короля».
Не было у нее недостатка и в познаниях, и, если верить Эмери д'Амбуазу, одной из своих прелестных ручек она листала «Исповедь» святого Августина, а другой – «Галантных дам» Брантома.
Однако она была злой, вспыльчивой, мстительной и куда более честолюбивой, чем нежной. Генрих IV сомневался, что она когда-нибудь любила его, и с еще большим основанием сомневаемся в этом и мы.
Ее притягательное средство состояло в том, чтобы по расчету поступать так, как мадемуазель де Тиньонвиль и Антуанетта де Пон поступали из чувства целомудрия.
«Люди, – говорит Сюлли, – которые могли завоевать признание лишь какими-нибудь придворными интригами и единственная заслуга которых состояла в умении с приятностью рассказать королю очередную небылицу, восторженно восклицать при каждом его слове и присутствовать на тех увеселениях, где государи забываются, как и прочие смертные, эти люди выставляли ему в таком выгодном свете очарование, игривость, изящество и живость мадемуазель д'Антраг, что они зародили в нем желание увидеть ее, затем встретиться с ней вновь, а потом и полюбить ее».
Это отвращение Сюлли к мадемуазель д’Антраг, вначале лишь бессознательное, тотчас превратилось в ненависть, когда Генрих IV попросил своего главноуправляющего финансами выплатить мадемуазель д’Антраг сто тысяч экю.