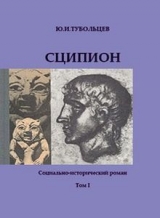
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 1"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 63 страниц)
Настала ночь, но римляне, осветив залив тысячью факелов, продолжали работу. Сотни больших и малых кораблей, в самом деле, составили мощную «деревянную стену», которую легионеры теперь готовили для отражения штурма. На настил устанавливались метательные машины, всяческие приспособления с крюками и ковшами, возводились навесы для защиты солдат, заготавливались камни, стрелы и дротики.
А карфагеняне, узнав на пути к Утике, что в римский лагерь уже прибыл Сципион, смутились и не рискнули сразу напасть на противника. Они украдкой проскользили мимо осажденного города и заночевали на рейде возле небольшого союзного поселения на другом краю залива. Лишь утром при ярко-желтом свете летнего африканского дня пунийский флот выполз из-под прикрытия на чистую воду и, осторожно приблизившись к Утике, выстроился в боевую линию, вызывая соперника на неравный бой.
Простояв в угрожающей позиции, пока римляне не завершили все работы, карфагеняне наконец смекнули, какого рода встречу им приготовил враг и, помедлив еще некоторое время в замешательстве, пошли в атаку на внезапно возникшее среди морских волн укрепление.
Около тысячи римских воинов заняли оборонительные позиции на своей стене и обрушили на пунийцев шквал метательных снарядов. Карфагеняне предприняли попытку ответить аналогичным образом, но без особого успеха. Грузовые суда, составляющие заграждение, имели более высокие борта, чем военные корабли, поэтому римляне, обстреливая противника сверху, наносили ему значительно больший ущерб. Карфагенские квинкверемы, безрезультатно побултыхавшись около стены, отпрянули назад. Поманеврировав некоторое время на безопасном расстоянии, они снова двинулись вперед. Пунийские стрелки на этот раз расположились на палубе гораздо рациональнее и тщательно укрывались за щитами. Но тут из-под настила через специально оставленные промежутки между конструкциями защитного сооружения выскользнули десятки небольших сторожевых судов и, пользуясь внезапностью, обломали весла многим квинкверемам. Таким образом, и вторая атака была сорвана. В римском стане нарастало воодушевление, а карфагенян все сильнее разбирало зло, поскольку нестандартный характер сражения не позволял им использовать свои преимущества. Однако роль наступающей стороны вдохновляла их на все новые дерзания, и в третий раз они устремились на штурм укрепления слаженным боевым порядком. Сторожевые суда в такой ситуации оказались бессильными против организованного вражеского строя и, понеся урон, были вынуждены поспешно юркнуть обратно в отведенные для них лазейки. Но, врезавшись в стену, карфагеняне опять вступили в перестрелку при неблагоприятных для них условиях. Гибли десятки пунийских воинов, кричали сотни раненых, трещали, проламываясь, палубы квинкверем, а римляне отделывались обильным трудовым потом, и только. А в один из моментов легионеры едва не захватили вражеский корабль, прямо с настила пойдя на абордаж. Карфагенянам пришлось отступить в очередной раз. Обнаружив преимущество римлян в живой силе, они в дальнейшем более не рисковали приближаться вплотную к их стене.
День уже перевалил через свой экватор, а пунийцы по-прежнему безуспешно бились о неприступную преграду. Им не удалось ни протаранить ее, ни захватить с помощью десанта, ни особенно потревожить защитников усилиями метателей. Будь в их положении нумидийцы или галлы, они давно пали бы духом и ни с чем вернулись бы в свой город, но карфагеняне, бесконечно разнообразя тактику, вновь и вновь бросались в бой. В этот черный год пунийцы терпели одну неудачу за другой, и если бы их еще и сегодня постигло столь нелепое поражение, то дух народа оказался бы окончательно сломленным. Но ныне Карфаген, являвшийся испокон веков мореходной державой, вручил судьбу предмету своей извечной гордости – флоту. Разгром в морских битвах первой войны с Римом изгладился из памяти нынешнего поколения пунийских моряков, и в них возобладала уверенность в себе, воспитанная столетиями господства в западном Средиземноморье, поэтому теперь они всеми силами, причем, со знанием дела стремились оправдать надежды сограждан.
Римляне не уступали им в упорстве и в свою очередь попытались перейти в контрнаступление. Механическими лапами и баграми они стали захватывать вражеские корабли и подтаскивать их к стене, чтобы овладеть ими штурмом. Однако, отталкиваясь ударами двух сотен весел, квинкверемы дали задний ход и вырвались на свободную воду, при этом в нескольких местах им даже удалось выдернуть из наспех скрепленного оборонительного сооружения отдельные конструкции. Обнаружив в этом эпизоде, что сила хода военных кораблей превышает прочность связей римской стены, карфагеняне уже сами принялись забрасывать привязанные на цепях захваты на элементы заграждения и растаскивать составляющие его грузовые суда. Постепенно римляне приноровились к такому способу действий противника и отстояли свое укрепление. Однако в результате многочасовых усилий пунийцы смогли разорить большую часть первого защитного ряда из четырех, составляющих сооружение. Добыв таким путем около шестидесяти посудин, карфагеняне, не сумев ни уничтожить римский военный флот, ни прорвать осаду Утики, все же получили некоторое моральное удовлетворение от своих трудов и благовидный предлог, чтобы без позора удалиться восвояси.
С патетическим надрывом играя роль победителей, они возвратились в Карфаген, таща на буксире связку широких купеческих кораблей. Перед плебсом дело тотчас же было представлено так, будто цель грандиозного морского похода состояла как раз в захвате части торговых судов римлян. Народ несколько дней шумно праздновал успех, в то время как военачальники, окончательно убедившись в своей неспособности что-либо противопоставить могущественному врагу, тайно послали гонцов в Италию к Ганнибалу и Магону, призывая их презреть завоевания и спешно возвращаться в Африку спасать Отечество. Для прикрытия этой затеи, карфагеняне решили завязать с римлянами переговоры о мире.
Сципион же, после отражения нападения вражеского флота, распорядился частично сохранить стену через залив, только корабли постепенно заменить в ней стационарными конструкциями. Проведя еще несколько дней в лагере под Утикой в ожидании, когда окончательно стабилизируется положение, проконсул затем вернулся в Тунет и возобновил там прерванные работы.
6
Тем временем Масинисса победоносно шествовал по Нумидии в пределах бывшего своего царства, изгоняя из городов гарнизоны Сифакса. Население большей частью поддерживало прежнего, законного владыку и всячески способствовало ему в продвижении вперед. Вскоре после начала этой операции к Масиниссе подключился Гай Лелий, который, не догнав, естественно, Газдрубала, был послан Сципионом на запад, чтобы возглавить кампанию по завоеванию Нумидии.
Сифакс в границах старой территории своей страны собирал очередное, третье за год войско. Вспышки активности в его деятельности чередовались с днями беспробудной пассивности. В нем еще бродили жизненные соки здорового тела и, временами ударяя в голову, возбуждали его на борьбу при всей ее безнадежности, но, спустя короткий срок, отравленное неудачами сознание парализовывало силы, и он снова впадал в апатию.
После второго поражения Сифакс возвратился в Цирту совсем другим человеком. Да и столица встретила его иначе, чем прежде. Люди вообще сторонятся неудачников, как животные в стаде – заболевшей особи, а в этом случае их недоброжелательство еще усугублялось сознанием того, что следом за царем к ним идет война и на хвосте своего коня Сифакс несет им несчастья. В народе поднялся ропот: царя укоряли за переход к карфагенянам. Теперь, когда выяснилась сила Рима, когда Газдрубал проявил себя ничтожеством в сравнении со Сципионом, измена римлянам представлялась безумием. Все здесь забыли свой недавний воинственный пыл и африканский патриотизм, бунтующий против вторжения иноземцев, и уверяли друг друга в исконных симпатиях к далекому Риму, а ответственность за ошибочный выбор союзника целиком возлагали на одного царя. Многовековое почтение нумидийцев к царскому титулу не позволяло им расправиться с Сифаксом, потому их гнев обращался на его близких. Софонисба, еще недавно являвшаяся объектом всеобщего преклонения за красоту, ум и родственные связи с могущественным родом великого Карфагена, теперь вызывала злобу ввиду тех же самых качеств и опасалась выходить из дворца, дабы не быть растерзанной разъяренной толпой, ищущей виновных. Временами и сам Сифакс оказывался в большей степени нумидийцем, чем царем, и с трудом подавлял неистовое желанье удушить жену. Отныне он видел в ней не свою дорогую Софонисбу, а надменную расчетливую карфагенянку Сафанбаал, отвратившую его от счастливого союза с Римом и погубившую хитроумными кознями. Ее вид вызывал в нем уже не радость и восторг, как раньше, а мучительную боль, рвущую душу, но так как он не имел сил извлечь из сердца позолоченный кинжал любви, то вновь и вновь стремился к ней, чтобы быть ужаленным ее красотой.
В свою очередь, и Софонисба, увидев мужа в дорожной пыли, приставшей к нему во время бегства и покрывшей толстым слоем грязи былой лоск, сразу поняла, что перед нею уже не любящий супруг и не союзник Карфагена, а обезумевший варвар. Убеждения, уговоры и эффектные проявления величия духа в обращении с ним теперь были неуместны. Потому Софонисба изменила тактику и все свои таланты приложила к тому, чтобы до предела обострить последнее оставшееся в ее распоряжении оружие, то самое, которое в равной степени разит и аристократа, и простолюдина, мудрого философа и неграмотного дикаря. Она низвела ум до уровня хитрости изворотливой самки, из красоты изгнала возвышенную душу, обнажив ее до голой чувственности, а царственную гордость превратила в острую приправу для бесстыдства. Когда она, преобразившись таким образом, зыбкой похотливой поступью проходила по мраморным полам дворцовых палат в неожиданно распахивающемся хитоне, рабы прислуги внезапно немели, и у них захватывало дух от зверского возбуждения. День и ночь, каждый час, всякое мгновенье она жестоко дразнила Сифакса и, доведя его до исступления, презрительно отвергала. Царь требовал, упрашивал, молил, ползал за ней на четвереньках, угрожал, терял разум, видя ее пылающее страстью тело и слыша холодный надменный отказ. Каждую ночь он лишь с кинжалом в руках вырывал у нее победу, причем стоило ему, отчаявшись в успехе, ослабить натиск, как она сама, подхлестывая его, извлекала из-под перин нож и, приставив зловещее лезвие к вздымающейся белой груди, кричала, что убьет себя в тот миг, когда Сифакс посмеет к ней прикоснуться, или же, наоборот, если он не овладеет ею в то же мгновенье. Всяческими ухищрениями она постоянно держала его в напряжении и поочередно то распаляла его плоть, то, удовлетворяя похоть, растравляла самолюбие. Иной раз она билась под ним в истерике безумного экстаза, а в другой день удручала ледяным безучастием. Теряясь в догадках относительно ее поведения, Сифакс обращал мысль на самого себя и в такие моменты критической самооценки ненадолго вновь принимал человеческий облик. Тогда Софонисба получала доступ не только к его эмоциям, но и к сознанию.
Однако, поддаваясь штурму карфагенянки, Сифакс, тем не менее, мешал в себе вожделение с ненавистью. В итоге переживаний последнего года он перестал доверять людям и в поступках всех и каждого подозревал низкую корысть. Страсти, будто бы владеющие Софонисбой, не воспринимались им как искренние. Но слишком много значила для него эта женщина, из-за которой он погубил и жизнь, и царство. Могучее чувство породила она в нем, и, вопреки сознанию, оно не хотело погибать. Любовь его отчаянно билась в предсмертных конвульсиях, и порой, когда Софонисба торжествовала победу своей женской силы, Сифаксу мерещилось, что не тело прекрасной карфагенянки он сжимает в объятиях, а остывающий труп собственной любви и судорожной страстью пытается вдохнуть в него жизнь.
Но, как бы там ни было, Софонисба все же и на этот раз сумела обрести власть над нумидийцем; будоража его силы посредством чувственности, она ловко направляла их на дело, угодное ее Отечеству. Ища исход жгучей энергии, разъедающей его тело, Сифакс поневоле обращался к государственным вопросам и, стремясь стряхнуть с себя наваждение женских чар, носился по всей стране, сгоняя толпы крестьян и кочевников в свой лагерь.
Вот такими средствами организовывали карфагеняне отпор римлянам.
Однако скоро у Сифакса собралась столь многочисленная армия, что он приободрился и опять начал предаваться мечтам о разгроме непобедимого Сципиона. Мир снова обрел для него прежние краски. Ему даже стало казаться, будто Софонисба в какой-то мере все же любит его. Во всяком случае, он воображал, что, одержав верх над иноземцами, завоюет истинную благосклонность красавицы, и целыми днями пропадал в лагере, обучая войско на римский лад.
Когда Гай Лелий и Масинисса в основном закончили покорение восточной Нумидии и двинулись к Цирте, Сифакс уже считал себя готовым сразиться с кем угодно. Он смело выступил им навстречу, желая поскорее разделаться с легатами, чтобы угрожать самому Сципиону. Сблизившись, противники поставили лагери в пределах видимости друг друга, и каждая сторона тут же продемонстрировала свою непримиримость конными выпадами. Лелий и Масинисса имели только всадников и легкую пехоту, тогда как у Сифакса было настоящее войско. Следовательно, перед римлянами стояла задача спровоцировать нумидийцев на конную битву без участия фаланги. Поэтому, начав дело с безобидных стычек, легаты постепенно подбрасывали в бой все новые турмы, как поленья в костер. Такая схватка, как ничто иное, разжигала азарт Сифакса. Он снова чувствовал себя оскорбленным невниманием Сципиона, его дух стремился к великим свершениям, а тут у него под ногами путались какой-то Лелий и многократно битый им Масинисса! Царь приходил во все большее раздражение и наконец вознамерился разом покончить с нарушающим субординацию врагом. Он пустил в ход всю массу конницы и начал выводить за ворота пехоту. Однако, прежде чем Сифакс выстроил фалангу, его всадники уже опрокинули римлян и погнали их к лагерю. Царь поручил пехоту попечениям офицеров, а сам рванулся вперед, дабы лично приобщиться к ратной славе. Вихрем мчались полчища Сифакса, сметая все на своем пути, но вдруг римские всадники куда-то исчезли, а на их месте оказались плотные ряды велитов, частично вооруженных как легионеры. Смертоносная туча метательных снарядов на мгновение закрыла над нумидийцами небо, приведя их в замешательство, а в следующий миг забились в судорогах падающие кони, застонали раненые люди, и африканцы подались назад. Римляне извлекли максимальные выгоды из этой запланированной ими паузы: их конница развернулась и лавиной пошла на врага, только теперь начиная настоящую битву, велиты, выпустившие метательный боезапас, с дротиками и копьями наперевес смешались с всадниками и как бы сцементировали собою атакующую конницу. Страшный своею мощью и внезапностью удар римлян смял нумидийцев, и, отступая, они были готовы вот-вот обратиться в бегство.
Разгневанный Сифакс, хлестая кнутом трусливо шарахающихся от противника подданных, пытался восстановить строй. Его неистовство, оставляющее равнодушной Софонисбу, возымело действие на всадников, оказавшись для многих из них сильнее страха смерти, и позволило царю сколотить авангардный отряд, с которым он несколько придержал наступление неприятеля. На короткое время ход боя выровнялся, но, поскольку значительная часть нумидийцев уже рассыпалась по лугам, радуясь поводу вернуться в свои селения, римляне снова стали одерживать верх. Сифакс понимал, что в его положении пунийский или римский полководец постарался бы организованно отступить к лагерю и затем, объединившись с пехотой, возобновить сражение на ином качественном уровне. Но его самолюбие не позволяло ему пятиться перед всего лишь помощниками Сципиона, и он сделал еще одну отчаянную попытку переломить судьбу битвы. Выкрикивая воинственные лозунги, Сифакс сдавил пятками брюхо коня, заставив его броситься в гущу врага. Однако за царем в этот раз почти никто не последовал, и он одновременно ощутил восторг при виде сраженного им италийца и ужас падения, когда под ним рухнул конь. Торжествующие римляне спешились и прижали африканского вождя к земле. И уже скоро Сифакс униженно предстал перед Гаем Лелием и, что самое страшное для него, перед Масиниссой. Узнав о пленении царя, нумидийское войско распалось, правда, значительная часть его отошла к Цирте. Римляне захватили и разграбили лагерь. Победа была полной.
Но предаваться упоению успехом не приходилось. Следовало торопиться в Цирту пока карфагеняне не поставили там нового царя, тем более, что у Сифакса уже подрос сын от одной из первых жен Вермина, для которого пунийцы вполне могли подыскать новую Софонисбу. Масинисса высказал Лелию пожелание овладеть столицей силами одних нумидийцев, дабы это выглядело как освобождение города от захватчика Сифакса, а не походило на завоевание Нумидии иноземцами. Лелий подивился политическому чутью африканца и одобрил его предложение. Будто между прочим Масинисса заметил, что для солидности предприятия ему нужен пленный царь. Римлянин согласился и с этим. Однако, когда Лелий увидел, как при появлении закованного в цепи Сифакса, засверкали глаза Масиниссы, как тот стал стискивать и вертеть в руках кинжал, раня им руки, он пришел в ужас от необузданности варвара и начал раскаиваться в оказанном ему доверии. Но уже ничего нельзя было изменить, не вступая в конфликт. Поэтому Гай ограничился предостережением Масиниссе, что, хотя самое главное в их деле выполнено, оставшаяся часть требует особой осторожности и деликатности.
Впрочем, Лелий напрасно страшился за трофейную жизнь Сифакса, опасность, и гораздо более серьезная, подстерегала римлян совсем в другом месте. А пока все шло прекрасно. В то время, как римляне не спеша следовали в однодневном переходе позади нумидийцев, Масинисса подступил к стенам бывшей отцовской резиденции и завел переговоры с городской знатью. Он долго удобрял умы бывших соотечественников своим красноречием, а потом вывел для всеобщего обозрения гремящего кандалами Сифакса. Партия сторонников западной Нумидии, состоящая в основном из остатков разгромленного войска, сразу пришла в расстройство, словно лишившись знамени. А друзья Масиниссы, используя заминку врага, сплоченной группой пошли в атаку. Возникла свалка. В суматохе удалось открыть ворота, и Масинисса с всадниками ворвался в город. Исход дела стал ясен, и противники молодого претендента в цари сложили оружие. А Масинисса с гордостью и волнением ступил на порог отцовского дворца, долгое время попираемого пятою ненавистного Сифакса.
Чуть позже в то же здание ввели и пленного царя, только в подземную его часть. Сифакс оказался в затхлой сырости темницы в обществе крыс, стиснутый оковами и тоской. Впав в прострацию, несчастный потерял счет времени. Как отголоски далекой жизни ему мерещились доносящиеся сверху звуки торжественной процессии и какого-то пиршества. Порой он терял ориентацию, и шум уже казался исходящим из-под земли, словно там, глубоко под ним, проходил разнузданный шабаш ведьм. Потом его чувства и вовсе отключились от всего окружающего. Минули часы или даже целые дни небытия. Душа его смирилась, приобщаясь к вечному покою. Он уже слышал небесные хоры потустороннего мира.
Возможно ли было предположить, что существует сила, способная поднять его с покрытых слизью камней, зарядить разрушительной энергией и заставить биться в истерике, бросаясь на стены? Однако именно такой эффект вызвал визит слуги, принесшего своему бывшему царю похлебку, который, прежде чем уйти обратно, со злорадством сообщил ему, что новый царь Масинисса справил пышную свадьбу с Софонисбой.
Сногсшибательное действие оказала эта весть и на Гая Лелия. Но у римлянина любые, самые неожиданные осложнения в первую очередь вызывают реакцию действием. Потому Лелий пришпорил коня, поторопил войско и вскоре прямо с похода ворвался в Цирту. Причем в пути он не терял времени и, наведя справки, узнал, что Масинисса еще в юности, находясь на обучении в Карфагене, был обручен с дочерью Газдрубала, но позднее, когда пунийцы сделали ставку на Сифакса, Софонисбу пустили в оборот с гораздо большей выгодой. Многое прояснила эта информация в поведении Масиниссы, но скрытность нумидийца обеспокоила Лелия не меньше, чем безумный, если только не предательский поступок.
Римляне, будто бы торопясь поздравить Масиниссу с возвращением отцовского царства, оккупировали дворец, а заодно выставили посты в ключевых точках города. Гай Лелий, не давая возможности африканцам прийти в себя и понять, в чем дело, оперативно обыскал помпезно разукрашенные палаты и вынул из-под кучи постельного белья полуголого, раскрасневшегося от ласк Масиниссу.
Застигнутый врасплох нумидиец растерялся. В нем бурлили противоречивые чувства. Наконец возобладал разум, и он, поняв, что любой царь стоит рангом неизмеримо ниже римского легата, подчинился Лелию и, накинув тунику, пошел за ним. Тот привел его в первый попавшийся зал, достаточно удаленный от спальни, и заговорил о делах войны, демонстративно умалчивая о свершенном проступке. Масинисса, отвечая невпопад, долго томился в ожидании главной для него темы беседы и в конце концов, потеряв самообладание, сам пустился в путаные оправдания, словно напроказивший мальчишка. Но при первом упоминании о Софонисбе, Лелий заявил, что жена врага, как и все его имущество, принадлежит римскому народу, а потому она вместе с Сифаксом будет отправлена в Рим, чтобы пройти в триумфальном шествии во славу императора. Нумидиец заикнулся о ее новом положении, достигнутом в результате свадьбы с ним, Масиниссой, но под волевым взглядом римлянина осекся и сжевал окончание фразы. Помолчав некоторое время, они снова вернулись к разговору о войне. Лишь выждав определенный период, пока Масинисса не привык к мысли, что Рим не позволит ему жениться на карфагенянке, Гай Лелий сменил тон и по-человечески выразил ему сочувствие.
И тут африканца прорвало. Он говорил вдохновенно, пышно и сумбурно, стараясь внушить собеседнику представление о Софонисбе как о прекрасной, чистой и несчастной женщине, ставшей жертвой интриг карфагенских политиканов и подлого Сифакса. Излив в едином порыве сразу все, накопившиеся за последние годы переживания, Масинисса чуть успокоился и начал излагать то же самое, но уже в более упорядоченной форме. Он рассказал о своих страданиях в тот период, когда узнал, что его невесту отдали злейшему врагу, о тяготевшем над ним с тех пор роке, о беспросветной грусти, томившей душу даже в дни побед в лагере Сципиона. Нагнетая страсти, как опытный оратор, нумидиец постепенно перешел к событиям последних дней, и терпеливый Лелий во всех подробностях узнал мысли и волнения своего союзника, весьма далекие от забот войны, когда тот входил в Цирту и затем вступал во дворец.
– Ты знаешь, как она встретила меня! – восклицал горячий Масинисса, но, не надеясь на Лелия, сам же отвечал: – Эта гордая женщина не стала ни рыдать, ни оправдываться, ни просить. Она печально взглянула на меня, при этом в ее глазах будто промелькнуло нечто из той нашей далекой жизни, когда мы были счастливы надеждами на будущую близость, и произнесла: «Я рада за тебя, Масинисса. Справедливость восторжествовала, и победил достойный. Жаль только, – добавила она томящим сердце голосом, – жаль только, что нет рядом с тобою равной тебе женщины, которая могла бы разделить такую радость и украсить собою твою победу». Каким кощунством звучало это упоминание о какой-либо женщине из ее уст! Ведь рядом с нею забываешь, что есть другие! Но она, бедняжка, уже списала себя со счетов, как говорят пунийцы… Правда, в этот момент во мне еще бурлил гнев, подогреваемый пылающей ревностью, но тут ее женский ум не сдержал эмоции, и она, ломая руки, воскликнула: – «Ах, почему не ты победил в битве с Сифаксом три года назад! Тогда расчеты безжалостных политиков не противоречили бы моим желаниям, и все было бы по-другому!» У меня, поверишь ли, Лелий, сердце встало на дыбы и забило копытами в грудь при этом возгласе, словно окрашенном женской кровью! Мне все стало ясно. Я понял, что преступленье, совершенное карфагенянами, тяжело ранив меня, мою любимую и вовсе убило! Я бросился к ней и принялся ее утешать, но она испуганно отпрянула, сбивчиво твердя, будто не достойна меня. Признаюсь, тогда в порыве сочувствия или еще чего-то я стал бормотать безрассудные вещи, но она опять отстранилась и начала уговаривать меня оставить ее на растерзание врагам, а самому блюсти верность вам, римлянам, поскольку в этом союзе она видела мое благополучие. Возможно ли в другой женщине встретить такое самоотречение и самопожертвование!?
– Однако, – нехотя встрял в прискучивший ему монолог Лелий, – в итоге не ей, а тебе пришлось отречься от друзей, поставивших тебя на ноги, и пожертвовать высоким титулом и царством ради нее.
– Неужели это так серьезно, Лелий! – простонал Масинисса, как раненый.
– Вы, нумидийцы, больше доверяете глазам, чем ушам. Так, чтобы оценить серьезность дела, спустись в подвал и посмотри на Сифакса.
– Как ты жесток, Лелий, хотя обликом нежен и красив, почти как Софонисба!
– Вот и извлеки урок из своего собственного сравнения.
– Эх! Не понимаешь ты меня, Лелий. Да иначе и быть не может. Ты правильно сказал насчет доверия глазам. Мой рассказ – пустой звук, тогда как там я видел такое… Речь – это лишь скелет общенья, а живая плоть его – жесты, движенья губ, блеск глаз!
– Пиши стихи, как Энний.
– Мне невозможно что-либо писать, я видел живой шедевр!
– Пиши стихи лучше Энния.
– Нет, Лелий, послушай меня, неужели твоей душе чуждо все высокое!
– Мне чуждо заблуждение.
– Нет, ты оцени хотя бы такую ее фразу, которую эта богиня изрекла, сладко изогнув стан, когда я спросил, действительно ли ее сердце не питает любви к Сифаксу: «Если бы я его любила, – впервые слегка улыбнувшись, произнесла она, – он не оказался бы в темнице, ибо рядом со мною был бы непобедим!» Ну каково, Лелий?
– Я скажу, что дух этого высказывания она украла у какой-то римлянки, – невозмутимо ответил Гай Лелий.
Масинисса подпрыгнул от бешенства, но, научившись в штабе Сципиона обуздывать дикий нрав, лишь сжал кулаки и проскрипел зубами.
– Мы не поймем друг друга, пока ты не увидишь ее, – сдержанно сказал он.
– А что, ваша карфагенянка сродни Медузе Горгоне и взглядом всех обращает если не в камень, то в ползучий студень? Ты слышал греческое сказание о Медузе?
– Конечно, что я варвар что ли! – огрызнулся Масинисса.
Нервно походив по комнате, нумидиец ближе прежнего подступил к римлянину и мрачно сказал:
– Прошу тебя, Лелий, отложи решенье этого вопроса до встречи со Сципионом. Корнелию я подчинюсь в любом случае, но тебя возненавижу, если ты сам справишь суд.
– Конечно, Сципион – проконсул, за ним и последнее слово, – миролюбиво согласился Лелий. – Но не хитри с нами больше, Масинисса. Твоя уловка со свадьбой не прошла, жена Сифакса осталась той, кем была. Зато в другой раз можешь пострадать уже ты сам, – неожиданно жестко добавил он.
На этом они расстались, отправившись на ночлег. Проходя мимо покоев, в которых под стражей находилась хитрая карфагенянка, Гай Лелий несколько притормозил, задумавшись, и, спустя мгновение, ступил в дверь. Сидящая на ложе Софонисба встрепенулась, но, заметив, что вошел римлянин, с недовольством отвернулась, однако в следующий миг осторожно, из-под ресниц покосилась на гостя и вдруг встала, глядя ему прямо в глаза.
– Не нуждается ли в чем-нибудь наша очаровательная пленница? – с приторной любезностью на греческом языке поинтересовался Лелий, рассматривая царицу, как породистого скакуна или египетскую кошку необычайной масти. – Не выразит ли она каких-либо пожеланий?
Софонисба молчала, с ужасом глядя в холодные светлые глаза изысканно красивого римлянина. Она сразу почувствовала, что ее женские прелести бессильны против этого человека, и возненавидела его с лютой страстью, в ярости способной даже обернуться любовью. Ей хотелось вцепиться в него, расцарапать ему лицо и вырвать леденящие душу глаза. Но она по-прежнему не двигалась с места и, удрученная внезапной бесполезностью своей красоты, не сумела придумать какой-либо колкости в ответ врагу.
– Не гневайся так сильно, лапушка, – со слащавой заботливостью продолжал Лелий, – берегись морщин и блюди цвет лица. Я велю прислать тебе самых восточных из всех восточных благовоний. Ты должна сохранить свои прелести для триумфа. А то ведь Ганнибал кривой, твой папаша плешив, а Сифакс сгорбился от горя, узнав об измене жены, так хоть ты яви Риму достоинства африканского племени. Я уверен, ты очаруешь Италию так же, как и Нумидию.
– Римлянин, ты не ходишь по ночам на кладбище? – срывающимся голосом также по-гречески спросила Софонисба.
Лелий насмешливо взглянул на исходящую злостью женщину и ободряюще сказал:
– Ну же, смелей заканчивай свою остроту, красотка. Поверь, я сумею ее оценить, причем готов выслушать все, что угодно, лишь бы облегчить твою участь.
– Ты мог бы выкапывать трупы и осквернять их, – захлебываясь от бешенства, неестественно низким при ее внешности тоном произнесла она, – это еще проще, чем издеваться над беззащитной слабой женщиной.
Лелий удовлетворенно кивнул головой, словно то самое и ожидал услышать, и снисходительно промолвил:
– Неплохо для африканки, но уж слишком мрачно. Лицо твое сияет белизною, а мысли черны. Ну уж если ты этой фразой излила всю душу и тебе нечего добавить, я удаляюсь. Доброй тебе ночи и, главное, спокойной ночи, прелестница ты наша неугомонная. Да смотри, не вздумай выйти замуж за моих стражников и подговорить их, чтобы они убили меня из-за угла.
От возмущения оскорбленная Софонисба упала в обморок, раскинувшись пред Лелием в роскошной позе, ловко обозначив под тонкой тканью упругую грудь и высоко вскинув тунику. Причем в припадке ярости она действительно едва не лишилась чувств и прибегла к обычной женской хитрости лишь инстинктивно. В этом, на первый взгляд картинном и несколько запоздалом падении можно было угадать беззвучный вопль искреннего отчаяния непризнанной красоты, но для римлянина Софонисба была всего только женою варвара, что в его глазах лишало ее всякой женственности и тем самым снижало его способность к сочувствию. Гай Лелий равнодушно отвернулся и пошел своей дорогой, удивляясь наивной доверчивости нумидийцев.








