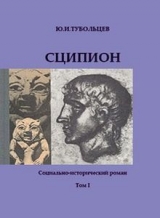
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 1"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 63 страниц)
Мандоний потупился, потом встрепенулся, велел удалиться своим спутникам и, глядя в глаза Сципиону, сказал:
– Корнелий, я устроил этот словесный маскарад лишь для них, в присутствии соплеменников я не мог говорить открыто. А то, что ты выше нашей хитрости, мне давно известно.
– Ты снова врешь! Мандоний опять опустил взор.
– Что же мне остается делать! – воскликнул он в отчаянии. – Посуди, Корнелий, зазорно ли было нам, воспользовавшись случаем, сбросить иго? Перед тобой мы виноваты, но перед богами и своим народом правы!
– Во-первых, наше верховенство – не иго, надеюсь, вам удастся в этом удостовериться, – спокойно сказал Публий, – а во-вторых, признайся, ведь вы больше думали о расширении собственной власти, чем о благе народа?
Испанец развел руки.
– Ты читаешь в наших душах лучше нас самих… Так загляни в меня поглубже, и ты увидишь, что с нынешнего дня нет в Испании преданнее тебе человека!
– Вот это, пожалуй, прозвучало естественно. Но все же позволь мне день-другой подумать.
– Корнелий, мы привели с собою заложников. Среди них наши жены и дети.
– Похвально, вот довод, который в нынешней ситуации убедительнее всех, перечисленных тобою ранее. Но ты ведь знаешь, что я предпочитаю истинную, добровольную дружбу.
Говоря это, Сципион направился к выходу и сделал знак ликторам следовать за ним. Переступив порог, он вдруг замер, как пораженный нежданной стрелою, пущенной из-за угла. Перед ним была толпа испанцев.
– Кто это? – глухо вымолвил он.
Вопрос был излишен, но ему требовалось время, чтобы прийти в себя от внезапного шока, причина которого еще скрывалась от его разума и мутила душу откуда-то из глубины.
– Заложники, – ответил Мандоний, довольный произведенным впечатлением, отнесенным им на счет внушительности делегации.
Сознание Публия еще плелось в хвосте эмоций, и, когда уже все его существо знало, в чем дело, оно, наконец, произвело на свет одно слово: «Виола». Взгляд Сципиона столкнулся с пристальным взором красавицы, и ему почудилось, будто в разделявшем их пространстве сверкнули искры. Ее глаза лучились каким-то холодным лунным светом, и весь облик казался пронизанным неким привнесенным, чуждым духом. Она очень изменилась. Красота ее расцвела пуще прежнего, но приобрела пряный аромат и стала яркой до бесстыдства. Черты лица слишком резко подчеркивались всевозможными косметическими средствами, завезенными сюда финикийцами с Востока, в фигуре с вызывающей четкостью обрисовались характерные особенности женского тела, отчего линии утратили трогательную девическую нежность; резкость, законченность форм подавила мягкую утонченность. Из богини вдохновения она сделалась жрицей страсти, душа растворилась в плоти.
– Это жена Индибилиса, – сказал Мандоний, заметив, куда смотрит римлянин.
Публию показалось, что какая-то сила приподняла его и подвесила в воздухе в наклонном положении. Он силился развернуться обратно, опершись на землю, принять нормальное состояние, но не мог. Рука автоматически ухватилась за косяк двери, однако он тут же ее отдернул в гневе на свою слабость.
«Так вот в чем дело, – подумал Сципион, – этот волшебный музыкальный инструмент перенастроен другим хозяином, все струны перетянуты на новый лад, потому и звучанье столь фальшиво…»
– Позволь, я ведь помню его жену, – сказал он уже вслух, – именно я вернул ему ее после освобождения Нового Карфагена. Та, вроде бы, была постарше…
– А, так она, понимаешь, Корнелий, заболела, превратилась в калеку, потому и лишилась прав на мужа, – с подозрительным подобострастием поспешно разъяснил испанец.
От Виолы не укрылось сногсшибательное, чуть ли не в прямом смысле, действие ее чар на чужеземца, и она коварно улыбнулась, продолжая все так же дырявить душу Публия пронизывающим взором голубоватых глаз. Сципион тоже, не отрываясь, смотрел на нее, хотя несколько предыдущих мгновений ничего не видел. Теперь же взгляд его снова прояснился, особенно в свете полученных разъяснений. Он понял эту напыщенную величавость красавицы, которая, выйдя замуж за одного из могущественнейших царьков своего края, возомнила, будто сделала выдающуюся женскую карьеру, и перенесла гордость с личных достоинств на титул царицы, подобно тому, как некоторые мужчины теряют себя, сливаясь в своих помыслах с денежным мешком.
Сотни раз Публий представлял себе их встречу. Она рисовалась ему в причудливых неожиданных вариациях, способных удивить даже саму Фортуну, но всякий раз неизменно несла в себе радость. И вот как это произошло в действительности… Сципион почувствовал обиду за низведение до плоскости земли, опошление дорогого ему образа Виолы, его божества, которому он приносил в жертву страдания души и муки тела. Однако к разочарованию дьявольским манером примешивалось вожделение, образуя кипучий едкий раствор. Ее красота била через край, преодолевая расстояния и преграды, и, как спрут, опутывала чарами все, что в мире есть мужского. Столь беспощадная женская властность граничила с жадностью, ненасытно требующей от мужчины полного подчинения, не оставляющей ему даже ничтожной лазейки для посторонней мысли или иного, не связанного с любовью желания. Другая женщина никогда никакими ухищрениями кокетства, никакой степенью наготы не добилась бы такой остроты воздействия, как это порождение Венеры, предстающее взору в невинной позе и скромном одеянии.
Публию почудилось, будто он уподобился вулкану, переполненному огнем и разрушительной мощью. Глядя ей в глаза, он нестерпимо четко видел и все остальное. Сквозь складки грубой иберийской ткани упруго проступали сладострастные формы, являя такие достоинства, которые требовали более осязаемого признания, чем вздохи, мольбы и стихи. Ранее ему представлялось кощунственным думать о ней лишь как о женщине, сейчас же, наоборот, невозможной казалась всякая иная мысль.
Сципион понимал, что в нынешних условиях он – полновластный господин всей Испании, и сама эта женщина, и муж ее безраздельно принадлежат ему. Пожелай он теперь взять себе в любовницы Виолу, никто не в силах будет возразить. Мимоходом ему подумалось даже, что варвары сами хотят откупиться от него такою ценой. Публий окинул беглым взором всю толпу: народ понимающе молчал, наблюдая затянувшуюся сверх всяких приличий борьбу взглядов красавицы и победителя-чужеземца, лишь некоторые женщины завистливо роптали. Виола стояла в переднем ряду в свободной позе, с достоинством неся на себе варварское, хотя и царское, одеяние и груз бесчисленных серебряных украшений. На римлянина она смотрела с гордостью царицы и женским лукавством, но без откровенного вызова и кокетства. Она ничем не выказывала своего знакомства с Публием, и только по скрываемой досаде можно было догадаться о том, что память ей не изменила. Считая себя достигшей вершины доступной ей жизни, она все же неловко чувствовала себя перед Сципионом, смутно ощущая двусмысленность такого положения, когда, с одной стороны, она владеет его душою, а с другой, находится у него в плену. Смущало Виолу и нечто иное при виде человека, устраивавшего ее первую свадьбу.
Поразмыслив, Публий решил, что красавица не исключает такого развития событий, какого требует его плоть, и не боится этого, будучи слишком горда, чтобы унижаться до страха перед мужчиной, который томится во власти ее чар, но, как легко было заметить, подобная перспектива ей не льстит. Он с болью и сожалением наблюдал эту женщину. Увы, она не может вырваться душою за пределы своего мирка, в то время как красота ее сметает все границы, и даже не желает ничего нового, поскольку не представляет необъятности жизненных просторов, открытых человечеством. У нее нет и тени мысли, что он, Сципион – представитель грандиозной цивилизации, несравнимой с ее дикой Испанией, и несет в себе духовные богатства великих народов. Она не видит разницы между его любовью и инстинктом варвара. Публий отчетливо осознал, что никогда не будет оценен этой женщиной, даже если проживет с нею десятки лет, она не поймет его ни в порыве вдохновения, ни на форуме, ни в триумфе, ни в постели.
Сципион задумчиво опустил голову, потом распрямился и наконец-то преодолел порог в прямом и переносном смысле, сделав последний шаг, чтобы выйти из дворца. Он приблизился к нестройному ряду заложников, прошелся перед ними вперед и назад, с вымученным любопытством присматриваясь ко всем, без разбора, лицам, и, находясь в непосредственной близости от Виолы, лишь скользнул по ней беспристрастным взглядом. Затем, обернувшись к Мандонию, он с наигранной молодцеватостью воскликнул:
– Так, ну жену братца ты поставил на самое видное место, словно продавая ее мне, а где же твоя собственная красавица? Ах, да, – неуклюже спохватился он, – вижу сам, вот она, – и невозмутимо глядя на разряженную сухопарую дылду с хищным, как у грифа, лицом, стоящую прямо перед ним, причмокнув, сказал:
– Хороша!
Потом, будто бы удовлетворившись результатами осмотра и составив представление о заложниках, Сципион вышел к середине строя, чуть-чуть, незаметно для самого себя, сместившись поближе к Виоле, и громко заговорил, обращаясь к толпе, естественно, через переводчика Сильвана:
– Увы, не для любезностей встретились мы с вами. Отцы и мужья ваши, преступив закон, поправ узы дружбы, затеяли войну с нами, освободителями Испании, но теперь они совершили еще большую гнусность, приведя вас сюда, чтобы за счет женщин и детей искупить собственную вину. Так всегда бывает: один проступок неизбежно влечет за собою другой, и, случись подобное, до бесконечности потянется цепь несчастий. Но мы, римляне, однажды защитив Испанию от карфагенян, не покинем вас и в этот раз. Я разорву цепи ваших бед, которыми вы сами себя сковали. У диких варваров, незнакомых с законами международного права, в обычае удерживать друг друга страхом за жизнь беззащитных близких. Мы же в межгосударственных делах предпочитаем разум и добрую волю. Вы мне нужны как друзья или, в противном случае, не нужны вообще. Я протянул вам руку, свободную от оружия, вы в свой рукав тайком засунули кинжал, но, выбив его на землю, я не отнимаю руки. Хотите дружбу великого народа – располагайте ею к собственному благу; нет – у меня всегда хватит сил покарать изменников. Для этого мне не требуются заложники, не в моих правилах избивать слабых, наказывать жен за мужей, детей – за отцов, если меня к тому вынудят, я буду творить суд над истинными виновниками! Отправляйтесь домой, живите мирно, а свое сегодняшнее униженье излейте стыдом на головы тех, кто послал вас сюда, кто спрятался за вашими хрупкими спинами!
Глядя в пространство поверх толпы, Публий неизменно видел Виолу. Услышав его голос, она сразу же не до конца утраченной прирожденной чуткостью души по тону и облику его уловила смысл слов еще до того, как взялся за дело Сильван. В глазах ее блеснули радость и восхищение, а выражение лица смягчилось добротою. В эти мгновения Публий узнал в ней свою возлюбленную Виолу и едва не застонал от томленья безысходной страстью. Сдерживаясь из последних сил, он выслушал от испанцев ответные изъявления благодарности и поспешно скрылся в своем дворце. Там он прошел в банное помещение и жадно бросился в бассейн, стремясь охладить хотя бы тело, если уж нет средств унять внутренний огонь.
Примерно через час Сципион снова призвал Мандония, повторил ему разрешение вместе с заложниками отправиться на родину, а в качестве расплаты за проступок велел только компенсировать издержки кампании по усмирению восстания. Для сбора дани он отправил вместе с иберами военного трибуна Марка Сергия и десяток солдат. Офицер, кроме основного, явного задания, получил и другое, тайное. Проконсул объяснил Сергию, что Индибилис и Мандоний давно имеют намерение превратить всю Испанию в собственное царство. Готовясь к реализации этого замысла, они строят козни друзьям римлян, поскольку разжечь бунт в нынешних условиях возможно только на антиримской пропаганде.
– До сих пор все это было известно лишь в общих чертах, – сказал Публий, – но теперь, пообщавшись с илергетами, я обнаружил кое-какие следы этих заговоров против наших сторонников. Заметил ли ты, Марк, среди заложников… – на мгновение он запнулся. – Смазливую девицу в серебряных побрякушках?
– Слащавая такая? – уточнил Сергий. Публий поморщился и промычал:
– М-м-м… будем считать, так.
После паузы он уже спокойнее продолжил:
– Пять лет назад я сам в Новом Карфагене устроил свадьбу одного из наиболее пылких наших сторонников из кельтиберской знати с этой женщиной. Испанец регулярно каждый год весною приводил ко мне значительный конный отряд, а в последнее время вдруг бесследно исчез. Сегодня же выяснилось, что его жена досталась илергету Индибилису. Очевидно, дело здесь нечисто. Затем Публий назвал Сергию еще несколько испанских имен и попросил расследовать ситуацию.
23
Еще до сражения с илергетами Сципион получил сведения от Луция Марция, находящегося в долине Бетиса, о том, что нумидийский царевич Масинисса готов заключить союз с римлянами, но только при личном свидании с проконсулом. Масинисса в настоящее время пребывал в Гадесе вместе с пунийцами и ускользнуть из-под надзора недоверчивого Магона ему было сложно, потому для встречи с ним Публию следовало самому идти на юг. Сципион придавал особое значение контактам с нумидийцами, которые до сих пор составляли наиболее действенную часть конницы карфагенян, и не считал зазорным потерять десять-двадцать дней ради переговоров, тем более, что в Масиниссе он угадывал немалые таланты и наряду с Сифаксом отводил ему существенную роль в своих планах на будущее. Поэтому, едва были улажены дела с иберами, Публий взял с собою легкую пехоту с конницей и выступил к Гадесу. Марк Силан повел остальные силы в Тарракон. Между Масиниссой и Марцием через фуражиров осуществлялась довольно регулярная связь. Африканец своевременно узнал о приближении Сципиона и стал нудно жаловаться Магону на трудные условия содержания конницы в городе, да еще расположенном на островах. Всадники, по его словам, погрязли в разъедающих воинский дух городских увеселениях, а лошади отощали от голода и выживут, только если обратятся в рыб и станут есть водоросли. Потеряв терпение, Магон отправил Масиниссу и его отряд на материк, чтобы, разграбив ближайшие испанские племена, всадники вернули себе квалификацию, а лошади – упитанность.
Едва Сципион поставил общий с Марцием лагерь, как к нему прибыли трое нумидийских офицеров с папирусным свитком. В письме Масинисса указывал место и порядок переговоров, а также предлагал римлянам двоих из присланных нумидийцев оставить у себя в качестве заложников. В своем ответе Публий внес некоторые коррективы в условия организации встречи, впрочем, не столько по необходимости, сколько с целью уже сейчас, загодя, приучать африканца к повиновению. При этом он хотел отослать заложников обратно, но, поразмыслив, решил не баловать нумидийца излишним великодушием, к каковому варвары не приучены и не всегда способны его верно понять. Из троих гонцов Публий выбрал одного, узнав в нем того самого всадника, который однажды под видом пленного уже побывал у него с завуалированной миссией от Масиниссы, и, вручив ему пакет, отправил к царевичу, а двоих удержал у себя под невинным предлогом, ничем не выдав нумидийского вождя, давшего относительно них столь коварное предложение.
Масинисса принял все поправки Сципиона, и вскоре произошла долгожданная встреча. Переговоры проходили в обстановке секретности, потому обе делегации были малочисленны.
Нумидиец при виде Публия, мимикой и жестами изобразил благорасположение, граничащее с восторгом. Однако это не польстило римлянину, ему еще предстояло выяснить, сколько в поведении варвара искренности, а какую часть составляет демонстрация, так как не вызывало сомнения, что, общаясь много лет с пунийцами, он в совершенстве овладел мастерством политического лицедейства и в прямом, и в переносном смысле. Сципион же, напротив, держался с естественностью и простотой, свойственными прирожденному величию, и этим несколько смутил африканца, ибо тот почувствовал, что с самого начала взял неверный тон.
После общепринятых приветствий первым по праву инициатора переговоров стал излагать свою позицию Масинисса. Он заговорил о властности, несправедливости и корыстолюбии карфагенян, которые этими пороками отвращают от себя союзников, не желающих рабской участи. Присмотревшись же к римлянам, он, Масинисса, понял, насколько выше народ, для которого доблесть дороже денег, и в дружбе с римлянами увидел необходимое условие для освобождения своего Отечества. Многие причины, – уверял он, – заставляют его до сих пор сохранять видимость верности пунийцам, но когда римляне придут в Африку и встанут между Нумидией и Карфагеном, а он в свою очередь займет к тому времени отцовский трон, то его страна обязательно поднимется на борьбу с пунийцами. Тут Масинисса принялся горячо убеждать Сципиона поскорее переправиться на африканский берег и непосредственно угрожать Карфагену. При этом, по его мнению, вся пунийская федерация неизбежно развалится, поскольку карфагенян ненавидят даже их соплеменники из других финикийских колоний.
Слушая, Публий внимательно изучал подвижное лицо нумидийца, по которому мысли и чувства то проносились безудержным потоком, то скрытно бурлили подводными течениями, оно в миг озарялось вдохновением, и вдруг так же мгновенно потухало, при этом, как омут, тая за мутною поверхностью коварную пучину. Масинисса был примерно одних лет с Публием, но облик имел далеко не столь располагающий. Не походил он и на Сифакса. Небольшие узкие глаза подсвечивались блеском смекалки и были довольно живыми, но лицо портили большой нос и толстые губы.
Заметив, что нумидиец слишком удалился от сути дела, Сципион мягко приостановил его и, выразив согласие с высказанными доводами по поводу рыхлости карфагенского союза, попутно приведя в подтверждение примеры из недавней ливийской войны, призвал его проследовать в своей речи дальше.
Масинисса понял, что собеседник осведомлен об обстановке в Африке не хуже его самого, и вернулся к объяснению собственной позиции. Еще некоторое время он настойчиво обосновывал целесообразность своего перехода на сторону римлян, словно убеждая в этом Публия, а в заключение выразил особую радость по поводу того, что судьба свела его именно со Сципионом, в котором, по его мнению, достойно восхищения все от благородной внешности и манеры вести беседу до воинских талантов и великодушия. Коснувшись великодушия, Масинисса сообщил, что отлично помнит, как римлянин поступил с его племянником Массивой, и с тех самых пор не оставляет мысли достойно отблагодарить благодетеля. Закончил же речь нумидиец еще одним фейерверком восхвалений Сципиону, но пока Публий слушал перевод, Масинисса после некоторой заминки неуверенно сделал жест, означающий его намерение кое-что добавить. Проведя еще несколько мгновений в сомнениях, он, наконец, решился и вкрадчивым тоном поведал о незатейливом плане избавления Гадеса от карфагенян, в соответствии с которым первым делом надлежало заколоть Магона.
Сципион улыбнулся и сказал, что может поздравить нумидийцев не только с физическим освобождением от гнета испорченного народа, но и с духовным очищением, поскольку с того дня, как Масинисса станет иметь дело с римлянами, ему уже не придется выдвигать такие идеи, каковым краской стыда противится его честная натура. Относительно же предложения умертвить Магона он упомянул римскую гордость, не позволяющую воровать победы, и для убедительности пересказал два случая из истории своего государства. Первый эпизод времен осады вольсского города Фидены повествовал о том, как фиденский учитель, желая угодить римлянам, обманом завлек к ним в лагерь детей знатных горожан, чтобы передать их в заложники. В ответ же Фурий Камилл приказал раздеть этого учителя и связать ему руки, а учеников вооружил розгами и велел им гнать предателя в город на позор всему населению. В другой раз, в ходе тяжелейшей войны с царем Пирром, царский лекарь проник к римлянам и пообещал отравить своего господина; он также получил вполне достойное вознаграждение за измену: консул, отправил его в оковах к Пирру с письменным объяснением задуманного им злодеяния. «Воспользуйся мы услугами предателей, успех, конечно, пришел бы к нам быстрее, но зато теперь мы уже не были бы римлянами, – подытоживая, сказал Сципион, – поступив же так, как нам велела совесть, мы все равно победили и при этом остались самими собой. Благодаря этому сейчас, разговаривая с тобою, я могу смело глядеть тебе в глаза; принимая от тебя заверения в дружбе, я в свою очередь имею возможность поручиться не только за себя, но и за своих преемников, ибо все мы – римляне».
Заметив, как раздосадован Масинисса, попавший впросак с неприглядным предложением, Публий, сменив тон, пояснил, что все сказанное им просто пришлось к слову. На самом же деле он не принял всерьез обещанную ему помощь, угадывая в этом предложении всего лишь шутку или эксперимент своего собеседника. Окончание фразы снова озадачило только было приободрившегося нумидийца. А Публий несколько насмешливо продолжал: «Наверное, мой новый друг еще раз желал проверить, так сказать, на деле, сколь существенно мы отличаемся нравом от пунийцев?.. Я ведь уже имел возможность удостовериться в хитроумии моего африканского Одиссея. Кто другой сумел бы так тонко замыслить посольство, явив его в образе пленного, дабы невзначай, тихонько прощупать того, с кем вознамерился иметь дело?» Тут нумидиец смутился пуще прежнего, однако он понял, что этими словами хотел сказать ему Сципион: с ним следует строить отношения только на доверии, при полной открытости. Между тем Публий, произнеся еще несколько хвалебных фраз хитрости Масиниссы, вдруг неожиданно сказал, снова приняв серьезный вид: «Хитрость – низшая ступень ума. Изворотливость присуща рабам, разум – свободным людям». Дальше он рассказал, как лгал ему недавно Мандоний, и на его примере пояснил, каким образом из талантливых людей властители типа карфагенян воспитывают себе подданных с рабской психологией.
«Я бы не завел этот скользкий разговор с кем-либо другим, – сказал Сципион, – но ты не Мандоний, и боги определили тебе судьбу совсем иного масштаба. В мире грядут большие перемены. В частности – в Африке, где Карфаген вынужден будет распрощаться с доминирующим положением, ибо сам беспредельной ненавистью к нам своих Ганнибалов, преступающей все допустимые в борьбе за первенство между государствами границы, навлек на себя великие несчастья. На благодатных ливийских равнинах должен взрасти новый хозяин, достойный наступающих времен, который не подавлением соседних народов будет осуществлять функцию руководства обширной страной, а поддержанием в ней справедливости, координацией жизнедеятельности всех племен. Естественно, мы хотим, чтобы лидер африканской политики был нашим другом. Мы – не пунийцы, если бы мы всего только сменили их гнет над ливийскими народами своим собственным, грош – цена была бы нашим победам». Далее Сципион высказал несколько положений мыслимой им модели будущего устройства мира, повторив в общих чертах сказанное прежде Сифаксу, и закончил эту тему следующими словами: «Ты, Масинисса, конечно, понял, что, говоря о роли лидера в Африке, я прочу ее тебе, или, может быть, сферы влияния будут поделены между тобою и Сифаксом, это покажет будущее. Так вот, я хочу, чтобы ты, если желаешь стать таким политиком, о котором я рассказывал, уже сейчас готовился к этому и напрочь забыл свое пунийское прошлое с его коварством и мелочной, торгашеской хитростью. Нам не нужны рабы, их мы в достаточном количестве добудем в сражениях, нам необходимы друзья, потому ценим мы в людях не изворотливость, а ум и, следовательно, честность. Нам требуются единомышленники, поскольку, как ты и сам легко уразумеешь, преобразовать этот неустроенный мир под силу лишь тем, кто действует совместно с лучшими людьми».
Множество догадок о личности Сципиона строил накануне встречи Масинисса, но реальность сокрушила границы его предположений. Ища разгадку характера римлянина, он шарил по земле вокруг себя, а Сципион вдруг вознес его на небеса и оттуда показал весь мир, раздвинув географические и временные горизонты. Нумидиец намеревался говорить о сиюминутных делах, а вместо этого ему размашистыми мазками начертали всю его жизнь, указав будущее, о котором он сам, несмотря на безудержное тщеславие, не смел, да и не способен был мечтать. Масинисса словно онемел и во все глаза смотрел на Сципиона.
Видя, что главная цель достигнута, Публий перевел разговор на текущие дела Масиниссы, в которых ему далеко не все было ясно. Но еще долгое время он не мог расшевелить африканца, до такой степени тот погряз в мечтах, представляя себя, с одной стороны – властелином Африки, а с другой – почти что римлянином. Лишь постепенно, мало-помалу, нумидиец очнулся от созерцания прекрасной картины своего будущего и возвратился мыслью к действительности, попутно осознав, сколь много надлежит ему совершить, чтобы достичь раскрывшейся его взору перспективы. Он, наконец-то, стал отвечать на вопросы Сципиона, и, как выяснилось при этом, шансы его на царство в своем государстве в последнее время заметно уменьшились, так как Гала умер, и, пользуясь отсутствием царевича, со ссылкой на некий древний обычай трон захватил дядя Масиниссы Эзалк. Новый царь имел возраст весьма почтительный, а здоровье – слабое, но эти, с точки зрения преемника, достоинства омрачались тем обстоятельством, что у него был взрослый сын, в любой момент готовый принять страну в качестве наследства. В результате смены власти многие видные люди лишились привилегированного положения при дворе, поскольку другой царь имел и других друзей, которым он и предоставил выгодные посты в государстве. Это привело к возникновению оппозиции и нарастанию мятежных настроений, которыми и следовало воспользоваться Масиниссе.
Такая запутанная ситуация в восточной Нумидии вызвала у Публия озабоченность, тем более, что с новым царским домом уже успели породниться карфагеняне, выдавшие замуж за старика Эзалка племянницу Ганнибала. Сципион пытался помочь Масиниссе советом, но быстро исчерпал свои возможности на этом поприще, потому как действовать в столь нестабильной обстановке следовало в зависимости от обстоятельств и заранее составить определенный план было делом нереальным. Тогда Сципион подступил к проблеме с другой стороны, и, не будучи в состоянии дать своему предполагаемому соратнику рецепт, годный для всех случаев, решил вооружить его политическим мировоззрением, дабы тот самостоятельно мог противостоять любым трудностям. Для начала Публий, видя, как приуныл Масинисса, попробовал взбодрить его и полушутя провозгласил, что боги намеренно поставили молодого царевича в сложные условия, дабы, ориентируя его на высшую цель, устроить ему одновременно и проверку, и тренировку, пройдя через которые, он будет достоин настоящей карьеры. Потом Сципион начал рассказывать о судьбах великих людей прошлых веков, вспоминая при этом не столько своих соотечественников, сколько – вождей и царей, порожденных более древними цивилизациями, в первую очередь – Элладой и Персией. В ходе этого повествования о полных драматизма временах, Публий поразил Масиниссу новой волною откровенности, и тот слушал его, как зачарованный. Перед ним разверзлась гигантская панорама беспрестанной борьбы, чудовищных преступлений, низости, коварства и одновременно – возвышенного благородства и ума. Беря сюжеты у греческих историков, Сципион не просто пересказывал их, довольствуясь приведенными там театральными эффектами вместо объяснения причин войн и других общественных потрясений, вызванных будто бы изменой жен, священной местью, неосторожным словом или торжественной клятвой, данной кем-то в детстве, а с проницательностью государственного мужа вскрывал суть передаваемых событий, обнажал движущие силы общественных процессов. В его изложении жизнь государств предстала клубком противоречий, в котором замысловато переплелись личные интересы и стремления конкретных людей, больших и маленьких, честных и подлых, благородных и корыстных, жаждущих славы для себя и своих народов и рвущихся к власти по трупам поверженных конкурентов только ради возможности повелевать. Здесь этот человеческий муравейник, суммирующий бесчисленное количество, казалось бы, хаотических движений, был явлен мысленному взору в величии своего разноголосого единства.
Однако в этом сумбуре внимательный взор различал колеи магистральных направлений, задаваемых извечной диалектикой индивидуального и общественного, в которой реализуется человек. И на исторических примерах Публий учил нумидийца видеть картину политической жизни как всю в целом, так и в разноликой мозаике фрагментов, угадывать оттенки, выявлять отдельные мазки. Он показывал, каким образом за одинокой фигурой того или иного политического лидера найти группировку людей, представляющих собою как бы тело, каковому этот лидер служит головой или лицом, а чаще всего – маской, как за тем или другим лозунгом, либо законопроектом узреть опять-таки категорию граждан, выгоде которых он призван послужить.
«Увы, мир еще далек от совершенства, – сказал Сципион, подводя итог, – потому люди пребывают в рабстве примитивных алчных интересов. Оковы корысти не пускают людей на простор разумной жизни. Общество, лишь по мере осознания того, что высшая польза в доблести, приближается к истинно человеческому устройству. Ныне же тот, кто ощущает в себе добрые силы, кто способен послужить на благо Родине, должен учитывать существующие реальности. В своей деятельности такому человеку бессмысленно взывать просто к доблести или справедливости, ибо это – всего лишь абстракции; поднимаясь по шаткой лестнице магистратур к вершинам государства, следует искать материальную опору и обращаться не к понятиям, выражающим идеал, а к конкретным группам людей, являющимся носителями общественных сил. При этом, поддерживая одних, неизбежно придется противодействовать другим. Угодить всем, к сожалению, невозможно, ибо понятие «весь народ» – тоже абстракция, нет просто людей, а есть конкретные люди и сообщества людей. В таком положении задача политика – способствовать возвышению и процветанию категорий граждан, по своей социальной природе более склонных к доблести и подавлять, раз уж иначе не бывает, людей подлых».
Прощаясь с Масиниссой, Публий по глазам нумидийца видел, что усилия его не пропали даром, и семена высказанных мыслей угодили на благодатную почву. Он весьма рассчитывал на верность Масиниссы как вследствие сильного характера, угадывавшегося в этом варваре, так и потому, что никто не способен был предложить тому больше, чем сделал это он, Сципион.








