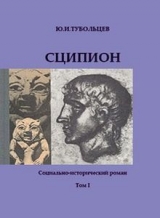
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 1"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 63 страниц)
8
И вот наступил новый административный год. Корнелий Сципион и Лициний Красс в сопровождении ликторов взошли на Капитолий и в храме Юпитера принесли присягу и произвели жертвоприношения. После этого они отправились на морское побережье в древний город Лавиний для совершения обряда почитания предков. Такое действо Сципион уже выполнял однажды, но тогда он не был полноценным магистратом, ныне же все встало на свои места, и в ходе торжественного ритуала Публий еще более поверил в себя, словно напитался духом прародителей Отечества.
Вскоре было назначено первое при новых должностных лицах заседание сената. Сципион готовился в этот день пойти в политическое наступление и добиться расширения своих полномочий как наместника Сицилии, присовокупив к ним право похода в Африку. За предшествующий период многое было сделано для того, чтобы такое постановление сената стало возможным, и потому сегодня он мог рассчитывать на успех. С утра у Сципиона установилось хорошее настроение, а тот факт, что заседание совета старейшин было назначено в храме Юпитера на Капитолии – в священном для Сципиона месте, где божественный дух не раз озарял его вдохновением и высокими помыслами – придавало ему особый оптимизм. Отношение Публия к богам и предзнаменованиям было двойственным. С одной стороны, он с прохладцей и некоторым формализмом относился к традиционным религиозным актам, а с другой – верил в божественное одухотворение, нисходящее с небес к избранным людям, и соответственно – в знамения, ниспосланные богами, чтобы указать правильный путь своим героям.
Сознание законной власти над согражданами наполняло Публия гордостью, а добрые предчувствия – надеждами, когда он в окружении ликторов и свиты друзей и клиентов подходил к Капитолию. Вдоль всего маршрута следования консула стояли толпы плебса, приветствующие его восторженными возгласами. Но вдруг какая-то кучка людей в серых туниках, завидев процессию, принялась скандировать похабные стишки, порочащие Сципиона. Несколько обладателей чистых тог, стоявших поодаль, при этом многозначительно заулыбались, а основная масса народа, возмутившись вначале, через несколько мгновений приумолкла, со злорадным любопытством прислушиваясь к наветам на знатного человека.
Публий не сразу поверил собственным ушам, столь неожиданными, грубыми и беспочвенными были бросаемые ему многоэтажным громоздким стихотворным размером обвинения.
– Что это! – воскликнул он, оборачиваясь к Лелию. – Они кричат о моей якобы разгульной молодости! Упрекать меня в разврате и пьянстве – все равно, что заявить, будто я плохой полководец! Какая чушь! Это, выходит, в воинских лагерях я предавался веселью? Услаждал «порочный зов тела» под декабрьским снегом у Требии и в залитых кровью песках Апулии?
– Успокойся, Публий, не поворачивай головы. Это, верно, проделки Фабиевых клиентов, – тревожно отозвался Лелий.
– Нет, Гай, не так все просто. Видишь вон ту кучку хихикающих сенаторских сынков? Да и стишки, хотя и примитивны, но не совсем дилетантские по форме, нечто подобное я слышал на плебейских комедиях… За всем этим стоит матерый враг.
Тут Сципион скомандовал ликторам изменить путь, и те с розгами наперевес шагнули в сторону крикунов. Все выглядело так, словно консул свернул к храму Весты, дабы еще раз воздать почести богине очага, озаряющего целое государство, но любителям поэзии пришлось поспешно рассеяться, а ухмыляющимся патрициям – выстроиться в ряд, чтобы дать проход шествию.
Этот эпизод ожесточил Сципиона, и когда он вошел в храм, где уже разместилась большая часть сената, и сел в курульное кресло, подбородок его нервно дрожал. В случившемся с очевидностью усматривался злой умысел политических противников, и к этому можно было бы относиться, как к провокационной брани вражеских солдат у вала твоего лагеря, но проявленная тут нечистоплотность до крайности оскорбила Публия. «Лучше бы они вонзили мне нож в спину! Это было бы честнее!» – мысленно восклицал он, еще и еще раз вспоминая пережитую сцену.
Однако настала пора действовать, соблюдая при этом ту самую уравновешенность, которой так стремились лишить его недруги. Сципион усилием воли подавил эмоции, сосредоточился и приступил к своим обязанностям. Он встал, открыл заседание согласно заведенному ритуалу и обратился к сенаторам с небольшой речью.
Вначале Публий все же говорил неровно, путались мысли и сбивалось дыханье. Он даже подумывал о том, чтобы передать право первого слова Лицинию Крассу. Но постепенно самообладание вернулось к нему, и он сумел донести до сенаторов суть своих замыслов.
Сципион предлагал собранию обсудить три вопроса: о состоянии государства; ходе подготовки к новому этапу войны и, в связи с этим, об уточнении своих консульских полномочий в Сицилии; о положении испанских союзников и о проведении игр для народа в честь победы в Испании. Рассказав о первых шагах по проведению воинского набора, он привел свои выкладки по необходимым мерам и требуемым расходам, а потом сообщил сенату собственные планы. Публий говорил о том, что война с Карфагеном вступила в заключительную фазу. На начальной стадии Республика боролась за выживание, потом долгое время – за инициативу, теперь же, по его словам, настал подходящий момент, чтобы перейти в наступление с целью достижения полной, окончательной победы. Самым успешным итогом в любом сражении считается захват вражеского лагеря, подобным образом и войну в целом у пунийцев можно выиграть только под стенами Карфагена. Сципион заявил, что свое назначение в Сицилию он понимает именно как намерение государства перенести боевые действия на территорию противника, ибо в ином случае не было никакого смысла посылать консула в замиренную провинцию, откуда еще славный Марцелл изгнал последнего африканца. На основании этого он попросил официально расширить его полномочия, дав ему право переправиться в Африку, а также предоставить два легиона вдобавок к сицилийским и флот. Согласно его подсчетам расходы на организацию похода против Карфагена Республике сейчас вполне по силам.
Потом Публий вывел перед сенаторами привезенные им из Испании делегации иберийских народов, дабы они высказались перед отцами Города и дополнили картину испанских событий, нарисованную им, Сципионом, ранее в докладе в храме Беллоны.
Первыми выступали послы Сагунта. Их старейшина напомнил о горестной судьбе своего Отечества и поведал о той помощи, которую оказали его согражданам римские наместники Испании, сначала старшие Сципионы, а потом и младший, как они разыскивали в освобожденных ими городах проданных туда в рабство сагунтийцев, выкупали их и возвращали на родину. Особенно красноречив был посланец союзников, рассказывая о благодеяниях нынешнего консула. Он утверждал, что Публий Сципион возродил их город из руин, городу вернул жителей, рассеянных пунийцами по всей стране, а жителям – их имущество. При этом Сципион, как дальновидный политик, проявил заботу не только о настоящем моменте в жизни Сагунта, но и о его дальнейшей судьбе, устроив должным образом взаимоотношения сагунтийцев с соседними народами, подкрепив дружественные им и нейтрализовав враждебные. В заключение посол высказал благодарность Сципиону и всему римскому народу за все то, о чем он только что столь пышно рассказывал.
Следом за сагунтийцами в подобном же духе произнесли речи представители других делегаций. Все они на разные голоса восхваляли Сципиона и государство, посылающее к союзникам таких выдающихся людей. Возблагодарив таким образом римлян, посланцы заявили о своем желании принести дары их верховному богу – Юпитеру Капитолийскому.
Сенаторы слушали пришельцев с удовольствием. Даже откровенные противники Сципиона, отдавая себе отчет в том, насколько эти речи выгодны их сопернику, все же испытывали гордость за своего гражданина, снискавшего такую любовь и уважение у чужеземцев. Сенат одобрил и утвердил все меры, предпринятые Сципионом в отношении союзников, и разрешил посланцам возложить дары в этом самом храме, где проходило заседание.
Публий, видя, сколько благожелательности к нему вплеснули в Курию испанцы, забыл о недавнем досадном эпизоде и наслаждался своим успехом, предвкушая победу на главном участке битвы, которая должна была открыть ему путь в Африку. Введенные им в бой резервы в лице союзников явно расстроили ряды фабианцев. Он собрался использовать подходящий момент и пойти в решительное наступление, но, едва только послы покинули зал, на скамьях началось подозрительное шевеление. Сенаторы склонялись друг к другу, перешептывались и передавали какие-то таблички. Некоторые, взглянув на воск, покрывающий дощечки, кривились и презрительно отворачивались, иные брезгливо усмехались, а третьи, кто помоложе, хихикали, хитро поглядывая на Сципиона. Публий смутился. Он сразу вспомнил об услышанных на форуме похабных стишках и подумал, что здесь тоже распространяется подобная порочащая его имя чушь. Возникло замешательство. Сципион теперь уже опасался выставлять на обсуждение главный для него вопрос и вознамерился предварительно прощупать настроение собравшихся. Он заговорил о проведении игр, обещанных им народу по возвращении из провинции. Начавшиеся прения по этому второстепенному пункту программы заседания походили на разведку боем. Разгорелась дискуссия. Выступающие уподобились греческому рабу Эзопу, и все их фразы имели двойное дно, тая в себе скрытый смысл. Сципион еще раз убедился в могуществе и подготовленности своих врагов и никак не мог поверить, что столько ума, хитрости и сил они тратят лишь с целью помешать ему добыть Отечеству победу.
Внезапно все стихли, словно испугавшись, что выдали себя излишним пылом. Возразить Сципиону по поводу игр было практически нечего. Он внес в эрарий несравненно больше средств, чем кто-либо из присутствующих, и ограничивать его в тратах, тем более, направленных в угоду плебсу, не представлялось возможным. Но все же противники консула ввели в формулировку сенатского постановления корректировку, лишенную смысла по существу, но придающую ему новую эмоциональную окраску. Было подчеркнуто, что для организации игр Сципион должен воспользоваться только теми деньгами, которые он сам принес в казну. Такая поправка создавала впечатление, будто сенат уступил консулу в каком-то чуть ли не частном деле, но при этом ограничил его своею властью во благо государства.
Такая мелочная страсть противоречить ему вызвала у Публия и смех, и слезы. Однако вскоре все его переживания оформились в единое чувство; встречая сопротивление по всякому поводу, он ожесточился и уже без оглядки ринулся в бой.
– Я вижу, отцы-сенаторы, что вы во всеоружии и с весьма бодрым расположением духа встречаете новый год, – заговорил он. – Потому оставим позади вопросы о союзниках, пирах и играх и обсудим насущные проблемы. Давайте решим: переходим мы в наступление против карфагенян или и дальше будем сидеть у своих стен, защищаясь только от имени Ганнибала, ибо ничего, кроме имени, у него уже не осталось, хотим ли мы закончить войну, хотим ли победить! Если – да, то развяжите консулам руки, дабы они могли наконец-то вынуть, меч из ножен!
Такой, довольно резкий призыв не понравился сенаторам старших рангов, а дружно поднявшийся ропот сторонников Фабия усугубил общее дурное отношение к поведению консула.
– Этот юноша, может быть, и опасен для карфагенян, – послышался из зала голос Валерия Флакка, – но для Рима он, бесспорно, опасен.
– Ему надо было родиться в эпоху царей! – раздалось восклицание с дальней скамьи. – То-то он развернулся бы!
– Это был бы достойный соперник Тарквинию! – отозвались с другого места.
– Отцы-сенаторы, – воззвал в отчаянии Сципион, – сегодня отравлен сам воздух собрания, но я верю, что есть здесь крепкие люди, у которых не кружится голова от зловония и сохраняется ясность ума. Давайте же говорить о деле!
Поднялся Квинт Фабий Максим Веррукоз Кунктатор, как принцепс сената, он должен был высказываться первым. Зал сразу стих, что лишний раз показало, кто является режиссером этого спектакля.
Фабий говорил долго, веско, хотя и простым языком, сохраняя при этом гордую осанку, уравновешенность и спокойствие, дабы на фоне этих, истинно сенаторских манер резче оттенить импульсивные порывы Сципиона. Максим начал с того, что как честный человек, превыше всего любящий Отечество, он не может поддержать мероприятие, сулящее один шанс на успех, против десяти, грозящих не просто неудачей, а, вероятно, полным крахом.
– Теперь, когда пожар войны затухает сам собою за недостатком пищи ему, – говорил он, – не стоит разводить новые костры. Карфагенское государство, как и наше собственное, устало от борьбы за дальние страны, но заставьте карфагенян биться за право на существование, поставьте под сомненье саму их жизнь, и вы увидите, как раскроются необозримые резервы могучего врага, и война вспыхнет с новой силой. Однако не скрою, предложение этого молодого человека весьма заманчиво. Вот только куда оно нас заманит? Сколько подобных обещаний одним махом закончить войну мы слышали прежде! Не менее красноречиво, чем теперь, нам предрекали полный и быстрый успех Гай Фламиний, Марк Минуций и Гай Теренций. Мы им поверили и в результате получили «Тразименское озеро» и «Канны», катастрофу же от затеи Минуция, как вы знаете, удалось предотвратить благодаря тому, что нашлись люди, решившиеся противостоять его неразумию. Во всех перечисленных случаях я выступал против таких, основанных на эмоциях, а не на трезвом расчете, намерений. Такова уж моя судьба, что советы других всегда выглядели привлекательнее, но мои оказывались полезнее. Другие срывали восторги толпы, а мне платила признательностью сама Родина. Вот и сейчас наш молодой, но необычайно мужественный и смелый консул, прославившийся среди варваров победами на краю земли, едва вернувшись в Италию, поучает нас, как вести войну с самым могущественным нашим врагом.
Далее Фабий будто невзначай произнес еще несколько уничижительных насмешек над Сципионом и затем обратил взор на самого себя. Он выразил предположение, что в связи с его возражениями ему, как обычно, поставят в вину медлительность и осторожность, а еще, как он уже слышал, его упрекают в зависти к представителю нового поколения. Отводя от себя первую часть обвинения, Максим ненавязчиво поведал о своих делах, оказавшихся столь благотворными для Республики, а вторая часть дала ему повод перечислить впечатляющий набор своих ординарных и экстраординарных должностей и титулов, а заодно – еще раз принизить Публия, продемонстрировав, как велика дистанция между юношей и великим патриархом, увенчанным славой пяти консульств, диктатурой и званием в народе спасителя Отечества.
Показав Курии, кто есть он, Фабий, и кто – его оппонент, и создав таким образом нужный ему эмоциональный климат, Максим перешел непосредственно к рассмотрению Сципионовой затеи. Первым делом он выразил удивление, почему консул стремится в Африку, тогда как сильнейшее войско пунийцев и их лучший полководец находятся в Италии. Некоторое время он превозносил доблести Ганнибала и подчеркивал, что если Сципион добьется победы здесь, в Италии, то заслужит наивысшую славу. При этом он словно бы забыл, что Италия уже вверена Крассу. «Так зачем же стремиться в Ливию, если настоящая слава ждет полководца в Италии!» – выразительно вопрошал Фабий. И тут же, отвечая самому себе, он ловко намекал, что смелость Сципиона походит больше на трусость, когда тот всеми мерами старается оказаться подальше от Ганнибала.
Потом оратор расписал ужасы, ожидающие Рим с уходом одного войска в Африку в случае, если Ганнибал нанесет поражение оставшимся легионам. Он воскресил в воображении слушателей события шестилетней давности, когда Пуниец подступил к самым воротам Города. «Но тогда консул был рядом, и мы срочно вызвали его из-под Капуи, – говорил Фабий, – а когда-то сможет вернуться по нашему зову Корнелий из Ливии?» Для пущего страха он привел несколько исторических примеров, когда государство, отправив лучшие силы покорять дальние земли, терпело поражение у себя дома.
Рассмотрев возможное развитие событий в Италии, Фабий устремил мысленный взор в Африку. Он провел сравнение Ливии с Испанией и показал, что в покоренной Сципионом стране были подготовлены все условия для ведения войны: и база для войск, и союзники, и опыт предшественников – но в Африке ничего подобного нет. Африка, по его словам, сугубо чужая и враждебная страна, а тамошние народы спорят меж собою лишь в отсутствие внешнего противника и с вторжением римлян все сплотятся для отпора иноземцам. «Смотри, Публий Корнелий, как бы тебе, когда ты с открытого моря увидишь Африку, твоя испанская кампания не показалась детскою забавой!» – мрачно предостерег Фабий, перепугав притихших сенаторов. Еще некоторое время Максим стращал Сципиона трудностями войны у стен Карфагена в условиях, когда пунийских воинов в бой будут провожать жены и дети, когда Ганнибал, если, как обещает Сципион, он вернется в Африку, окажется в два раза сильнее, чем в Италии, а римское войско – в два раза слабее, ибо не будет рядом ни второго консула, ни претора. На фоне этих ужасов Фабий изобразил испанские дела Сципиона как легкую прогулку, где ему во всем сопутствовала Фортуна, помогшая овладеть Новым Карфагеном, когда три вражеских войска прозябали в глубине страны, а затем позволившая ему разбить противников поодиночке. Между прочим, приписывая успехи Сципиона промыслу богов, все неудачи он, наоборот, считал исключительно «заслугами» самого полководца. Говоря о погрешностях кампании, Фабий припомнил Сципиону и переход в Италию Газдрубала, и солдатский мятеж, и визит к Сифаксу за пределы провинции без разрешения сената. Сполна высказавшись против Сципиона, он предпринял попытку очиститься от подозрений в предвзятости и заявил, по сути противореча предыдущим словам:
– Впрочем, отцы-сенаторы, я по складу характера предпочитаю выделять в человеческих поступках лучшее и только по крайней необходимости заостряю внимание на недостатках. Так и здесь, я склонен успехи приписать доблести нашего юноши, а неудачи – случаю. Но заметьте, если даже в такой кампании, как испанская, в события несколько раз вторгался случай, обращая победы в поражения, то какова опасность превратностей судьбы в серьезной войне, ведущейся в самом логове врага!
Сципион, слушавший Фабия с досадой и презрением, вздрогнул, когда тот произнес те же слова, которые однажды уже сказал ему зловещий гадатель, и впервые смутился по-настоящему, угадывая в этом напоминании о победах, оборачивающихся поражениями, предостережение богов.
Тем временем Фабий продолжал нагнетать страсти. Он поносил Сципиона на все лады, однако проделывал это так ловко, что у сенаторов складывалось впечатление, будто он, Фабий Максим, не только излишне мягко осуждает его, но один из всех еще и защищает этого самоуверенного юнца. Под конец Фабий, словно поняв, что недопустимо либеральничает по отношения к человеку, стремящемуся столкнуть государство в бездну, натужно, как бы борясь с собственной добротой, воскликнул:
– Нет, уважаемые сенаторы, Публий Корнелий выбран в консулы ради Отечества и всех нас, а не ради его самого, не ради его честолюбия! И войска, набранные из граждан, предназначены для защиты Республики, Италии, а не для того, чтобы гибнуть в дальних странах по произволу царски высокомерного консула!
От последних оскорблений Публий взорвался. Он своею консульской властью прервал очередность выступления сенаторов и заговорил сам. На этот раз трясся не только его подбородок, но и руки, дергалось лицо. Речь была столь же отрывистой и жалкой по форме, сколько убогой по содержанию.
«Вы слышали, отцы-сенаторы, что говорил Фабий? Он не сказал ничего, кроме упреков и оскорблений мне! Меня изобразил юнцом, испанскую войну – детскою игрой, и только Ганнибал есть его истинный герой, за чью славу он боится не меньше, чем за свою собственную. Вполне естественно, что, отваживаясь на эдакую речь, Фабий знал: не избежать ему изобличенья в зависти, потому и попытался в меру своих сил заранее отвести такие подозрения, да только безуспешно, так как каждая его фраза подтверждала высказанное им обвинение самому себе. О чем бы он ни заговорил, сквозь любую тему прорывалось желание принизить мои успехи, качества и даже – возраст. Но, посягая на меня, как на одного из граждан, выдвинувшихся в войне непосредственно после него, ненавидя мою славу: и настоящую, и будущую – Фабий тем самым выступает против самого факта существования людей, способных сравниться с ним. При этом себя он, видимо, считает негласным царем Рима, если чье-либо желание достичь подобного положения называет «царственным высокомерием». Но, великий Веррукоз, запрещая молодым людям стремиться к славе, ты останавливаешь развитие государства, пытаешься затормозить саму жизнь!
Наш максимальный Фабий старательно приложил свое красноречие, следует уточнить, превратив его при этом в дурноречие, истратил немало слов, утопив их в грязи поношений, чтобы принизить мои испанские заслуги. Достойная принцепса сената цель! Но шесть лет назад, когда в Испании стояли три вражеских войска, а четвертое готовилось присоединиться к ним, когда обе наши армии потерпели сокрушительные поражения, когда никто из вас не рискнул отправиться в эту, представлявшуюся заколдованной и зловещей провинцию, война в Испании никому не казалась столь ничтожной. Попробовал бы тогда Квинт Фабий выступить с нынешнею речью! Теперь же Испания – забава, а Африка – царство Орка! Но вот увидите, отцы-сенаторы, что, когда я вернусь из Африки победителем, тот же Фабий назовет игрой и Ливийскую войну. Так какова же цена его словам?
Но, впрочем, я отклонился от дела. Фабий столкнул меня с верного пути и заставил ввязаться в позорную склоку. Но я не Фабий, а Сципион, и, как ни боится этого мой оппонент, я все же превзойду его, для начала хотя бы в скромности, и не стану слово за словом опровергать Фабиеву речь, преуменьшать его заслуги и превозносить свои. Я предпочитаю совершать такие поступки, которые говорили бы сами за себя и не нуждались бы в искусственной раскраске.
Так вот, Фабий, как ни «осторожен» он – выразимся его собственным словом, дабы не говорить резко – а все же обмолвился, что Ганнибала-то пора побеждать. И он, вроде бы, даже позволяет это сделать мне, только здесь, в Италии, чтобы победа моя не была слишком громкой и не затмила его собственные успехи. Но если и люди, не особенно дружественно настроенные по отношению ко мне, все же полагают, что я должен вступить в борьбу с Пунийцем, то по сути наши желания совпадают. Разногласия касаются лишь форм действия. Но тут уж мне решать, как исполнить наказ государства. Чего, в конце концов, вам надо от меня? Соблюдения скромности или победы? Весь народ римский ждет от меня больших дел, все помыслы устремлены в Африку. И я не буду ради того только, чтобы ублажить чью-то «осторожность», осаждать Ганнибала в его лагере и гоняться за ним по разграбленной и выжженной Италии, а заставлю его подчиниться моему плану ведения войны, заставлю его отступить в Африку, принести разруху на свою землю! Я загоню войну обратно туда, откуда она к нам пришла, и там уничтожу ее, наградой же мне будет не пепелище бруттийского лагеря, а богатейший город мира Карфаген! Я добьюсь своего во что бы то ни стало! Фабий – это еще не все государство, а народ со мною!»
Во всей этой сумбурной речи, больше подходящей для Форума, чем для Курии, сенаторы, подготовленные умелым, рассчитанным и взвешенным выступлением Фабия Максима, обратили внимание лишь на возбуждение Сципиона, его выкрики, в которых то и дело резко звучало «я» и «мне», да на непочтительное отношение к принцепсу, проявившееся даже в обращении консула к патриарху.
Публий и сам чувствовал, что такая горячность вредит делу, но оскорбление горело в мозгу ярким пятном, ослепляя взор и будоража гнев, который нес его мысль в карьер, как взбесившийся конь. Остановившись, он уже не помнил, о чем говорил, махнул рукой и предложил высказываться остальным сенаторам.
Вторым по старшинству считался Квинт Фульвий Флакк, четырежды консул, победитель Капуи. Фульвии по отношению к Фабиям занимали то же место, что Эмилии по отношению к Корнелиям. Выступление Фульвия не предвещало ничего хорошего Сципиону. Однако действительность оказалась хуже всяких предположений. Фульвий Флакк вообще не стал произносить речь. Он заявил, что консул, опрашивая сенаторов, издевается над отцами Города, так как их решению подчиняться не намерен.
– Так или нет? – грозно вопросил Публия гигант Фульвий, обратив к нему суровое бородатое лицо.
Публий растерялся, застигнутый врасплох. Фульвий же, не давая ему опомниться, прогремел воинственным голосом:
– Ответь без уверток, Корнелий, если сенат запретит тебе поход в Африку, ты подчинишься его постановлению?
Сципион, выдерживая дуэль взглядов, сказал:
– Я поступлю так, как потребуют интересы Отечества!
– Я знал, отцы-сенаторы, что консул ответит подобным образом! Все можно было прочесть заранее на его самодовольном лице. Он вознамерился разыграть с нами комедию, сделать из сенаторов актеров!
Гул возмущения вторил этим словам.
– Но я не комедиант, – продолжал Фульвий, – и потому отказываюсь высказывать свое мнение на потеху этому юнцу.
После такого заявления он неожиданным образом обратился к народным трибунам и попросил у них поддержки сенату, ибо, как он сказал, кто идет против высшего государственного совета, тот в конечном итоге выступает и против народа.
Тут Публий прозрел. Он понял, где готовили ему главный удар недруги, но, увы, было уже поздно. Итак, группировка Фабия, учитывая сильную позицию Сципиона на выборах, уступила ему и его сторонникам консульство и претуру, но протолкнула своих людей в плебейские трибуны. Фабианцы талантливо разыграли свою партию. Народ издавна симпатизировал Публию и служил его главной опорой, противник учел это и вбил клин между консулом и плебсом, завладев официальными вожаками народа.
Публий, не питая особых надежд, вступил в спор, утверждая, что плебейские трибуны не имеют права вмешиваться во внутренние дела сената. Но народные защитники хорошо знали свои нынешние обязанности, если и не перед народом, то перед отдельными сенаторами, и выдвинули следующую формулу: «Если консул позволит сенату принять решение о провинциях, то мы желаем, чтобы он этому решению подчинился, и не допустим, чтобы он обратился к народу, а если не дозволит, то мы придем на помощь сенату, который откажется высказать свое мнение о рассматриваемом вопросе».
– Тогда я спрошу у народа, – отреагировал возмущенный Сципион, – могут ли быть народными трибунами люди, запрещающие консулу обратиться к народу по вопросу первостепенной важности для всего государства!
Однако после этой фразы Публий осекся. Действовать только что упомянутым образом, значило идти на окончательный разрыв с сенатом и расколоть плебс на две части, одна из которых будет поддерживать его, а другая – трибунов. Такой крупномасштабной конфронтации Сципион, как государственный человек, допустить не мог. Теперь, когда фабианцы через трибунов завладели возможностью влиять на народ, стало крайне необходимым добиться победы здесь, в сенате.
– Отцы-сенаторы, – заговорил Публий спокойным уважительным тоном, – мои недруги всячески искажают смысл моих слов и поступков, но вас ведь, в отличие от неразумной толпы, не проведешь. Когда на вопрос о том, подчинюсь ли я воле сената, я ответил, что поступлю так, как требует благо государства, то Фульвий почему-то – почему, не знаю и не смею высказывать предположения, порочащие моих соперников, – истолковал эти слова как намерение воспротивиться вашему решению, будто бы сенат может принять постановление, противоречащее интересам Отечества. Я же так не думаю. Я считаю, что, сколь ни горячи были бы споры, у сената всегда хватит мудрости найти такой выход из положения, который, несомненно, принесет благо Отчизне. Я сенатор и, естественно, поступлю согласно решению сената, но моя задача как магистрата приложить все силы к тому, чтобы наше постановление было как можно полезнее для государства. Это и только это означает мой ответ. Сейчас день уже клонится к закату, я же еще не успел ни выслушать вас, ни высказаться сам. Потому, отцы-сенаторы, прошу вас перенести заседание на завтра, а остаток нынешнего дня предоставить мне для переговоров с коллегой, Публием Лицинием.
Фабий хотел опротестовать и эту просьбу Сципиона, но у него не хватило физических сил для нового выступления; сказывался возраст, и длинная речь утомила его. За него попытался возражать Фульвий, но сенат, примирившийся с Сципионом благодаря его последнему уравновешенному и благопристойному высказыванию, отклонил требование Фульвия закончить заседание сегодня же и удовлетворил пожелание консула.








