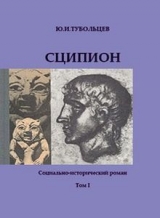
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 1"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 63 страниц)
32
В Испании в этот год Публий и Гней Сципионы развили свой успех. Вождь карфагенян Газдрубал Барка долгое время не мог справиться с иберийскими племенами. Когда же он наконец усмирил местное население и был готов вступить в борьбу с римлянами, карфагенский совет ста четырех велел ему срочно идти в Италию на помощь к Ганнибалу, чтобы вдвоем быстрее закончить войну. На смену ему из Африки прислали Гимилькона. Газдрубал считал, что Испанию ослаблять опасно, но вынужденный подчиниться, собрал побольше денег для подкупа галльских племен, через земли которых пролегал путь, и перешел Ибер. Но братья Сципионы, объединив свои силы, преградили пунийцам дорогу и вынудили их принять сражение.
Силы соперников были примерно равны, но испанцы, составлявшие значительную часть войска Газдрубала, не стремились к победе, повлекшей бы за собою поход в Италию, так как они предпочитали остаться на родной земле. Этот нюанс и оказался решающим в битве. Римляне легко обратили испанцев, занимавших центр построения, в бегство и, ударив затем всей массой на фланги, разгромили сопротивлявшихся ливийцев и пунийцев. Победа была полной, враг потерял двадцать тысяч солдат убитыми и десять тысяч пленными, римляне захватили и разграбили лагерь, сам Газдрубал едва спасся с кучкой всадников.
Весть об этих событиях ободрила Италию, где не столько радовались победе своей армии, сколько – поражению карфагенян, расстроившему их планы по усилению Ганнибала.
33
Римляне, как и прежде, стремились поддерживать добрые отношения с богами. Полагая, что те чем-то разгневаны на их государство, сенаторы после «Канн» отправили видного сенатора Фабия Пиктора в Дельфы к «Аполлону», чьим прорицаниям Рим беспрекословно верил еще со времен войны с Вейями. После его возвращения был добросовестно исполнен весь ритуал, предписанный дельфийским оракулом. Кроме того, по случаю многих мрачных знамений прошли девятидневные молебствия. Скандал вызвало выявленное прелюбодеяние двух весталок. По древнему обычаю для отвода беды одну из них живую закопали в землю на Скверном поле у Коллинских ворот, вторая успела умереть самостоятельно. Мелкого чиновника, писца при понтификах, блудившего с весталками, до смерти засекли розгами. Это создало у граждан впечатление очищения от скверны и пробудило оптимизм.
34
Публий Сципион вошел в Рим через Капенские ворота, затем свернул направо, достиг Священной улицы, следуя по ней и далее по Этрусскому кварталу, обогнул Палатин и оказался в Велабре, где почти на самом верху холма сразу заметил свой дом. Он торопился увидеть родных, но все же обратил внимание, что окружающие двухэтажные здания, подавлявшие ранее своей массивностью, храм Весты и сам форум как будто стали меньше, и расстояния между ними сократились. Но поскольку здесь все оставалось, как и три года назад, когда он покидал этот город с легионами отца, то, следовательно, изменился масштаб его взора. Сам он вырос, дух его возмужал, и мир, ему поддавшись, сделал шаг назад.
Публий взлетел вверх по Палатинскому склону, и у вестибюля родного дома радостным визгом и приветственной речью порхающего хвоста его встретил верный рыжий пес. Публий утопил руку в его буйной шерсти и потрепал уши. На шум тотчас выбежали две рабыни-служанки, а за ними появилась на пороге его мать. Помпония вздрогнула, но, быстро овладев собою, подавила рвавшийся наружу возглас, сдержала порыв ринуться вперед и встретила сына чинно и с достоинством, как и подобает римской матроне. Она уже знала, что он остался жив после каннского побоища, более того, благодаря особому чутью материнского сердца именно сегодня и ожидала его возвращения. В атрии к встречающим присоединился младший брат Луций, который в наступающем году готовился расстаться с претекстой и мечтал сразу записаться в войско, чтобы бить пунийцев. Увидев его, Публий невольно принял гордую осанку, приличествующую матерому воину, познавшему вид вражеской крови и боль ран.
Публий уже обстоятельно излагал повесть своих подвигов, когда, наконец, вошел в дом отставший Фауст с поклажей. Сорокалетний Фауст гордился своим участием в походе не менее хозяина и вскоре, разговорившись в боковой комнате после трех лет молчания, оказался в центре внимания всех слуг в доме. Несколько дней он царил среди рабов, как Публий среди свободных.
Вспоминая потом эту встречу, Публий несколько стыдился своей нарочитой солидности, на деле выказывающей ребячливость. Он больше говорил не о том, что его по-настоящему волновало, а то, что хотели услышать окружающие, поэтому неумеренно фантазировал и был излишне многословен. Причем преувеличения касались самого несущественного, действительные свои заслуги, такие, как например, спасение у Ауфида нескольких тысяч соотечественников, он оставлял в тени. Впрочем, как ему было не возгордиться, если его, настоящего мужчину, окружали только женщины и дети.
После рассказов о том, что наполняло прошедшее в разлуке время, последовал обед с множеством любимых с детства лакомств, плавно перешедший в пир, а затем – неспокойный сон, наполненный видениями, в которых возбуждение перемешало невинность воспоминаний юных лет со злобой сражений, кошмаром позорных отступлений.
Утром Публий несколько часов плескался в бане, а потом с наслаждением надел тонкую мягкую гражданскую тунику. После завтрака он заказал домашним беленую тогу для выборов и, накинув поверх туники плащ, так как до лета было еще далеко, вышел в город. За ним последовал и Луций, очень гордившийся своим взрослым братом.
На улицах лежала тень войны. Прохожие имели озабоченный вид, мужчины на тротуарах попадались редко. Среди бесконечных рядов торговых лавок, занимавших почти все первые этажи зданий в центральных кварталах, многие были закрыты в знак траура по близким, несмотря на запрет властей, требовавших нормального функционирования городского хозяйства, а некоторым просто нечем было торговать в нынешних условиях.
Публий смотрел на знакомые холмы, площади, храмы, и память воспроизводила волнующие картины детства, которые разворачивались перед ним, словно книжный свиток. Ландшафт, окружающий человека в его первые годы, становится своего рода скелетом восприятия мира и, следовательно, фундаментом души, основой, составляющей чувство родины. Стоит возникнуть перед глазами этому пейзажу, как душа приходит в движение, отдельные элементы воспоминаний выстраиваются вокруг его образа и предстают мозаикой законченных узоров, являющих точный слепок с событий прошлого. К ощущениям нынешнего момента прибавляется уже прожитое, отчего жизнь как бы удваивается, ее наполненье возрастает.
Однако недолго он умилялся возвращенными переживаниями беззаботных светлых лет. Внезапно все оборвалось. Воображение, измученное зрелищами войны, представило ему город по-иному: выжженная земля, обгорелые руины вместо зданий, свирепые африканские наемники, потрясающие оружием в дыму горящих улиц… В сознании всплыли бессонные ночи, проведенные в тщетных поисках путей освобождения Отечества от коварного врага. Если тогда он едва выдерживал груз подобных мыслей, то каково ему было теперь, когда непосредственно перед его взором на семи холмах распростерся тот город, которому грозит уничтоженье, населенный мирными согражданами, обреченными на тяжкую смерть или рабство?
Вначале Публий намеревался просто прогуляться по родным местам, так как что-либо предпринимать было рано. Он еще из Нолы отправил письмо отцу в Испанию, где сообщал о своем намерении прекратить впустую размахивать мечом и, вернувшись в столицу, добиваться магистратур, дабы в дальнейших событиях играть более существенную роль. Отец в случае одобрения его решения должен был прислать рекомендательные письма к знатным сенаторам. Только заручившись поддержкой первых людей, следовало начинать предвыборную кампанию. Но теперь под влиянием неприятных дум он почувствовал потребность встретиться с кем-то равным и поговорить о делах. Братья завернули к Клавдию Пульхру.
Аппий блаженствовал, наслаждаясь уютом мирной жизни. Вокруг него порхала в прозрачной тарентинской тунике молодая красивая жена с высокой модной прической, а поодаль ползали двое детей.
Сципион представил ему Луция и после дежурных фраз сразу заговорил о своих переживаниях. Он сказал, что не может смотреть на мирный город иначе, как через мутное стекло войны. На улице ему за короткий промежуток времени встретились трое инвалидов, своею немощью напоминавшие ужасы недавних поражений. В одном из них он узнал центуриона, бившегося рядом с ним у Требии. Но Аппий Клавдий отмахнулся от серьезных разговоров. Он уже побывал эдилом и теперь выставлял свою кандидатуру в преторы. Ему в ближайшее время предстояла суета политических интриг, а затем, в случае удачи, в которой он, впрочем, не сомневался, его, возможно, ожидало и войско. Будущее сулило немалые труды, и потому сейчас он был настроен только на развлечения и, видя перед собою воздушное улыбающееся создание, осеняющее дом сиянием семейного счастья, предложил и Публию жениться, поскольку, по его мнению, нельзя терять время, когда неизвестно, что готовит им война в грядущий день. Сципиону казалось кощунственным в такой период думать о личных делах, и в ответ он пробормотал нечто неопределенное. Аппий пригласил гостей на обед. Публий с трудом некоторое время поддерживал беседу в форме легкой болтовни и при первой же возможности вырвался на улицу, едва избежав угрозы совершенно погрязнуть в пиршестве.
Однако он повеселел, заразившись от товарища некоторой долей благодушия. Если такой, в общем-то серьезный человек, как Аппий Клавдий, будущий претор, сохранил способность быть столь беспечным, то есть еще соки в ветвях древа государства, – думал он.
Публий хотел пойти к Эмилиям, чтобы проведать своего друга Марка, раненного в сражении Фабия с Ганнибалом, но Луций сообщил, что Марк Эмилий поправился, так как его лечил знаменитый врач Архагаф – грек, недавно приехавший из Пелопоннеса и за свое мастерство уже успевший получить от государства римское гражданство. Ему не составило труда поставить Эмилия на ноги, после чего тот без промедления отбыл в армию. Перед отъездом он заходил к Сципионам и поблагодарил их за поступок Публия, вынесшего его из боя.
Братья еще некоторое время бесцельно ходили по городу. Луций рассказывал о местных новостях. Публий ненадолго зашел в школу, где когда-то изучал грамматику. Там, как и прежде, в кругу сидели на деревянных табуретах дети и, уткнувшись в колени, царапали стилем по навощенным дощечкам, запечатлевая слова учителя. И вновь идиллическое созерцание омрачилось наваждением: ему подумалось, что именно эти ученики подрастут к тому сроку, когда он станет консулом, именно их, возможно, предстоит ему повести на карфагенян, и пальчики, ныне неловко выводящие каракули, будут сжимать меч, жизнями этих невинных существ государство должно будет заплатить за свое освобождение. Он поторопился покинуть помещение. Увы, война, как пропасть, разверзлась между прошлым и настоящим, отделив Публия от всего доброго и светлого. Не обрести ему равновесия духа, пока топчут Италию Ганнибаловы наемники.
На главном форуме людей было мало, как и на других площадях. Сципионы некоторое время постояли у ростр, и, наверное, каждый представил себя обращающимся с этой трибуны к народному собранию. Но будет ли шуметь здесь политическая жизнь через год, пять лет? Публий подошел к «Черному камню» и, глядя на темный мрамор плит, подумал о связи этого места с космосом, ибо отсюда, по поверию, дух Ромула вознесся на небеса. Тут Публию почудилось, что душа в нем развернулась, выросла в столб, подобно смерчу, и уперлась в тучи, привлеченная таинственной силой. Это длилось несколько мгновений, затем дух будто снова свернулся в клубок и занял прежнее место в груди. Он очнулся, постоял в задумчивости, потом велел брату возвращаться домой, а сам направился к Капитолию.
У Юпитера в тот момент были гости, и Сципиону пришлось долго ожидать, пока они разойдутся. Оставшись, наконец, в одиночестве, он сел на скамью у деревянной колонны, покрытой терракотовыми плитами, и затих. Особая тишина храма мягко обняла истерзанный дух и глубоким покоем врачевала его раны. Публий закрыл глаза, и вскоре мрак ожил, наполнился могучими образами. Он словно наяву видел, как хитрый Гораций убегает от трех Куриациев, но, когда они растянулись в цепочку, поочередно поражает их всех, чем добывает господство Риму над Альбой-Лонгой; как Муций заживо сжигает свою руку и тем приводит захватчиков в трепет; как Гораций Коклес в одиночку удерживает неприятельское войско на мосту; как Квинкций Цинциннат скромно пашет свою землю, только что в качестве диктатора защитив Отечество. Внутреннему взору предстает нескончаемый ряд народных героев, и превыше всех, конечно, Камилл. Публия завораживало величие этого человека, победившего не только врагов, но и завистливую судьбу. Он избавил Родину от вечного соперника, взяв штурмом Вейи, и спас ее вторично уже от побежденных Веий, пытавшихся предательским соблазном своего богатства заманить к себе победителей. После этого все Зло вселенной, почувствовав в нем смертельную угрозу для себя, восстало на борьбу и поразило людей безумием. Они изгнали своего спасителя. Но Марк Фурий Камилл, сгорев в огне несправедливости, восстал из пепла сам и поднял из руин захваченный врагом в его отсутствие неблагодарный Рим! Неизменно, когда Сципион вспоминал историю этого человека, его глаза краснели от слез, а душа раскалялась от внутреннего жара. Тут возникали аналогии и с Фемистоклом – любимым греческим героем Публия, который спас всю Элладу, борясь одновременно с Ксерксом, согражданами и тупым эгоизмом спартанских вождей. Наградой же ему от афинян стали изгнание и травля, заставившие его искать убежище в стане лютых врагов – персов. Почему те, кому он сохранил свободу, воздали ему злом, а другие приютили главного виновника своего поражения? Вопрос истоков несправедливости всегда волновал Сципиона, но сейчас это было не главным, основной итог его раздумий состоял в том, что римский народ, имеющий такую судьбу и таких предков, не может погибнуть. Мимоходом он отметил превосходство римлянина над греком даже среди наиболее дорогих ему героев: Камилл одолел судьбу и вернул в Рим справедливость, тогда как Фемистокл поник от злобы сограждан и скончался в изгнании, тоскуя по Родине.
В не меньшей степени римский дух проявил и Атилий Регул. В первую войну с пунийцами он после первоначальных успехов в Африке попал в плен, но вскоре снова оказался в Риме, куда карфагеняне направили его ходатаем о выкупе пленных пунийцев. Представ перед сенатом, Регул приложил все усилия, чтобы условия карфагенян не были приняты, и после этого, сдержав слово, вернулся в Африку, зная о предстоящей ему жестокой пытке и смерти, которые не замедлили последовать. Какой-нибудь пуниец по нраву, возможно, усмехнется, узнав о непреклонности и честности римлянина, считая их в такой ситуации примитивным упрямством. Однако люди, способные показать характер, верность принципам и волю даже, казалось бы, в ущерб себе, проявят их и в иной ситуации, когда у другого не останется сил для борьбы. Именно эти люди создали неукротимое римское государство; те же развращенные общества, где каждый преследует личные выгоды, вскоре перестают существовать как целое.
Сципион решил, что, пока он будет жив, вера его в Рим не поколеблется. Если даже он останется единственным римлянином в земном круге, Карфаген еще не будет победителем.
Дома Публий долго сидел в темноте, переживая впечатления дня, потом зажег масляный светильник в форме чаши и стал просматривать свою библиотеку. Здесь были: сборник речей Аппия Клавдия Цека, трагедии Ливия Андроника и его перевод «Одиссеи», который молодые Сципионы использовали как учебник. Однако главную часть библиотеки составляли греческие книги, в большинстве своем привезенные из Тарента. Развернув некоторые из них, Публий углубился в воспоминания об этом посещении побережья Ионийского моря. Он ездил туда с отцом, дядей Гнеем, воюющими ныне в Испании, и братом Луцием. Тогда ему было пятнадцать лет. Это путешествие оказало на него огромное влияние. Он увидел большой порт и полюбил корабли, познакомился с греческой архитектурой, поражавшей количеством колонн и мрамора, скульптурой, несущей в первую очередь эстетическую функцию, а не изобразительную, обычаями эллинов. Несколько раз ему довелось побывать на спорах философов, увлекших его не столько тематикой, сколько умением отстаивать свою позицию, выстраивать доводы, как манипулы на поле боя, и организованно вести их в атаку, применяя всевозможные тактические ходы. Римляне, выступая в курии или на Комиции, старались убедить слушателей случайными доказательствами, подчиняясь наитию, греки же внесли в речь науку, создав красноречие. Из Тарента Публий привез труды Платона и Аристотеля, но особенно ценными приобретениями он считал свитки Демосфена, Фукидида, Геродота и Ксенофонта. Философия его интересовала больше как средство, нежели цель, как наука мыслить, история же захватывала воображенье калейдоскопом поучительных событий и изложеньем тысяч судеб, а риторика подкупала своей могучей силой в воздействии на людей.
Из этого путешествия на греческий юг Италии Публий вернулся другим человеком. Он вдруг узнал, что рядом с Римом параллельно существует великая древняя цивилизация, и понял, как огромен мир. Отец всегда привлекал его внимание к Элладе, рассказывал многие истории из жизни греческих богов и людей, в свое время настоял, чтобы он изучил греческий язык. Но после посещения Тарента Публий настолько был захвачен открывшейся его глазам и уму культурой, что вскоре превзошел в познаниях всех окружающих и, более того, надоел им излишествами своего увлечения. Отец уже не знал, как потушить в нем сверх меры разгоревшийся интерес к чужой стране.
Теперь, разворачивая свитки греков, Сципион думал о необходимости раскрыть эти богатства духа для своего народа, измученного непрерывными войнами. Культура обогащает жизнь, учит жить широко и насыщенно. Представляя себе грубоватые с крупными волевыми чертами лица своих сограждан, он проникался трогательным сочувствием к ним и одновременно верил, что римлянам все по плечу. Зная их умение верно оценивать лучшие достижения других народов, можно не сомневаться, что в свой час они сумеют вобрать в себя подобно губке сокровища греческой цивилизации и на основе этих питательных соков вырастить еще более высокую культуру.
В груде книг Публий нашел и собственные записи, в том числе стихи на греческом языке, написанные под впечатлением гастролей антиохийского импровизатора, который перед выступлением впадал в возбужденное состояние на грани безумия и в этом нездоровом вдохновении, казалось, не задумываясь, сочинял поэтические произведения на любые предложенные ему зрителями темы, будто считывая ритмичные строки с небес. Теперь, просмотрев свои творения, Сципион поразился их примитивности и пришел к выводу, что был всего лишь неумелым подражателем заморским поэтам. Он принялся уничтожать следы своей детской наивности, но вдруг все бросил, схватился за стиль и лихорадочно, как тот импровизатор, стал царапать навощенную доску. Время перестало существовать для него, как и все прочее, кроме страсти и слов. Душа, накопив энергию страданий, переработала впечатления войны в мысли и эмоции и сейчас выплескивала их поэтическим фонтаном. Когда поток иссяк, он почувствовал себя опустошенным и быстро уснул. Днем ночные стихи показались не столь уж хороши, но все же временами сквозь строки прорывалось пламя истинного духа. Тут он загорелся желанием создать нечто подобное и на родном языке. Несколько дней под мирное журчание фонтана в маленьком перистиле Публий трудился над сочинением латинского стиха с неведомым размером, но лишь убедился в бедности исходного материала. Увы, язык римлян всесторонне выражал политику, войну и волю, но только не нюансы чувств. В бесчисленных попытках передать тонкости эллинской речи он склеивал и комбинировал латинские слова и отдельные слоги. Со временем кое-что у него стало получаться, и некоторые новые фразы ему удалось позднее внедрить в речь сограждан. Он поверил в перспективность начатого дела и понял, что язык его народа открыт для совершенствования в той же степени, как и душа.
Таким образом, Публий неожиданно для себя ушел в новую область деятельности и провел отпущенный ему для отдыха период, не тяготясь временем. Он даже ощутил некоторую досаду, когда пришел ответ от отца и настала пора включиться в политическую жизнь.
Проконсул Сципион одобрял намерение сына добиваться государственных должностей, давал ему советы, как держаться в предвыборной борьбе, и предлагал обратиться за поддержкой к знатным сенаторам Марку Эмилию, брату погибшего при Каннах консула, и Марку Корнелию Цетегу, к которым и прислал рекомендательные письма от себя и своего брата Гнея.








