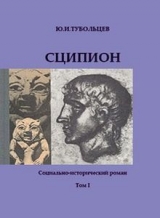
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 1"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 63 страниц)
21
Еще вчера Ганнибал всемерно старался приблизиться к римлянам, а сегодня уже мечтал оказаться от них как можно дальше. Однако положение карфагенян вовсе не было безнадежным. Даже теперь, после воссоединения всех сил Сципиона, пунийцы численно превосходили соперника, а качественно уступали лишь в некоторой степени. Пехота карфагенского войска включала в себя более двадцати тысяч ветеранов, прошедших италийскую войну, около десяти тысяч ополченцев и ливийских наемников, четыре тысячи македонян и тысяч двенадцать наемных галлов, лигурийцев, мавританцев, нумидийцев и балеарцев. Единственным слабым местом в комплектовании этой армии была недостаточная оснащенность конницей. Так, Ганнибал имел всего две тысячи нумидийских всадников и полторы тысячи – пунийских. Зато малочисленность конницы он мог компенсировать самым устрашающим родом войск – слонами, которых было восемьдесят. Сципион же располагал тридцатью тысячами римско-италийской пехоты и шестью тысячами – нумидийской, но, подобно Ганнибалу под Каннами, обладал значительным превосходством над противником в коннице: четыре тысячи нумидийских и две с половиной тысячи италийских всадников. При таком соотношении сил любое из этих войск в бою могло оказаться сильнее соперника в зависимости от того, насколько полно тот или другой полководец сумеет использовать лучшие качества своей армии и недостатки неприятельской. Так что Ганнибал вполне мог попытать счастья в битве, но вот возможности отступить у него уже не было, поскольку на марше Сципион затерзал бы его войско своей конницей и в конце концов навязал бы ему сражение.
Поэтому, погрустив час-другой по поводу упущенного преимущества над врагом, Ганнибал поднял свои разноязыкие полчища и двинул их следом за римлянами. Перед солдатами он интерпретировал маневр противника как бегство и призвал их «побить трусов в открытом бою». Но сам он все же мало думал о сражении и измышлял уловки, посредством которых удалось бы выиграть время. Он хотел действовать наверняка, а для достижения материального перевеса над соперником в новых условиях следовало отсрочить битву на двадцать-тридцать дней, так как в этот период ожидалось прибытие Вермины с солидным подкреплением. Причем большее промедление грозило осложнениями уже самому Ганнибалу, поскольку в Африку стремился Клавдий Нерон. С учетом этих перспектив карфагенянин должен был ухитриться оттянуть час схватки, но не отпустить от себя римлян.
К исходу дня пунийцы приблизились к стану Сципиона и разбили лагерь в нескольких милях от него.
Придавая, как всегда, большое значение информации, Ганнибал, проявив немалую изобретательность, заслал в расположение неприятеля множество разведчиков. Одну такую негласную делегацию римляне выследили, схватили и привели к проконсулу. Допросив пленных, Сципион выяснил, что перед ним весьма квалифицированные в военном деле люди, в основном, офицеры. Тогда он сменил тон и стал беседовать с ними как с равными, а затем поручил трибуну провести этих гостей по всему лагерю, как некогда поступил в подобной ситуации царь Ксеркс, и показать им все, что они пожелают посмотреть.
Пунийцев потрясло такое обхождение, и столь особое настроение дополнительно способствовало их восхищению всем увиденным в римском войске, которое в своем оснащении и подготовке являло высшие достижения современной им военной науки. Поразил их и царящий здесь дух: казалось, будто люди готовились не к битве, а к празднеству. Многое тут было им интересно и непривычно, и, в числе прочего, вызвал удивление мощный духовой оркестр, сопровождающий их по всему лагерю эффектными маршами, то экспрессивно-неистовыми, то грандиозно-величавыми.
Когда они снова предстали перед Сципионом, головы у них кружились от калейдоскопа ярких картин, не вмещавшихся в памяти и изнутри вновь и вновь заполонявших взор. Свое мнение о римском войске пунийцы выразили коротко:
– Если бы у нас не было Ганнибаала, – сказали они, – мы бежали бы от вас прочь без оглядки. Вся наша надежда только на него.
– Да он тоже бежал бы, коль было бы куда, – небрежно, как бы нехотя, заметил на это Сципион и затем поинтересовался у гостей: все ли они как следует рассмотрели и все ли им в надлежащей мере понятно.
Карфагеняне заявили о полном удовлетворении проведенным обзором и только спросили, на какой срок римляне обеспечены продовольствием. Из всех возможных вопросов этот был единственным, неугодным Сципиону. Однако он до конца выдержал принятую роль и честно ответил:
– На три дня. Так что мы должны победить вас завтра-послезавтра, – затем, после небольшой паузы, он добавил: – Впрочем, вы ведь знаете, сколь мы, римляне, неприхотливы в пище, как и в других видах материального обеспечения, а потому, не тешась бесплодными надеждами, считайте, что мы сможем продержаться на трехдневных запасах и десять, и двадцать суток.
Попрощавшись с пунийцами, обращенными из лазутчиков в гостей, Сципион отправил их к Ганнибалу.
22
Пуниец был в бешенстве от выходки соперника. Он привык, что враги страшатся его, осторожничают и таятся перед ним, а этот римлянин утонченно-благородным образом явил ему свое презрение. «Ах, вот как! – восклицал Ганнибал, расхаживая перед удрученными офицерами. – Птенец, которого я научил бегать при Тицине, Требии и Каннах, оперившись, вознесся в небеса и угрожает орлу!»
Но, сводя перед своими офицерами, поступок Сципиона лишь к самоуверенной насмешке, самому себе он отдавал отчет в том, что тот нанес карфагенянам психологический удар и, представляя, как гордятся теперь проявленной вызывающей смелостью римляне, досадовал вдвойне: и за пощечину собственному войску, и за удачу противника. Пуниец страстно желал придумать какой-либо равноценный ответ сопернику, но придумал совсем иное. Он решил использовать нестандартный прием Сципиона в своих целях и послал проконсулу письмо, в котором выражал притворное восхищение великодушием Публия по отношению к его шпионам и показанной им твердостью духа накануне жестокого испытания. Прикидываясь покоренным красивым жестом римлянина, Ганнибал с наивным, а может быть, и с рассчитанным самомнением называл его равным себе оппонентом и в связи с этим высказывал мнение, что им обоим нецелесообразно вверять свои судьбы случаю и превратностям битвы, но следует подчинить оружие разуму и покончить с войной путем мирных переговоров.
Сципион приветливо принял пунийского гонца и сделал вид, будто благосклонно относится к идее Ганнибала. Однако окончательного ответа он не дал, а через посла уведомил карфагенского вождя, что назначит ему встречу несколько позднее.
Утром римляне снялись с лагеря и двинулись в северном направлении. Сципион намеревался перебраться к одному из приграничных городов, чтобы в случае необходимости обеспечить пропитание войску за счет местного населения. Попутно он искал обширную долину или плато, удобные для битвы с применением многочисленной конницы. Карфагенянам не имело смысла оставаться на месте, сбежать же они не могли, так как римские разведчики наблюдали за каждым их маневром, потому им пришлось последовать за неприятелем, уповая на дипломатию.
И вот на краю обитаемого мира, в окрестностях ливийского городка Нараггара, противоборствующие армии остановились у широкой равнины, опоясанной спиральной грядой холмов. Это было то самое, избранное небесами на трагическую роль в исторической драме поле, которое тысячелетия дремало в тяжкой истоме, млея под африканским солнцем, чтобы теперь в один день вдруг оказаться истоптанным солдатскими сапогами, избитым копытами, облитым кровью и потом, и тем самым прославиться во всем человеческом пространстве на все человеческое время. Под пристрастными взорами людей, предчувствующих жестокую участь, эта сухая бесплодная местность словно ожила и, казалось, вожделела своей каменной плотью утолить многовековую жажду пустыни, испив их жизненные соки.
Владеющие инициативой римляне выбрали себе удобный участок для стоянки, изобилующий и материалом для строительства лагерных укреплений и водою, а Ганнибал расположился в трех с половиной милях от них, удовольствовавшись оголенным холмом с труднодоступным мутным ручейком. Таким образом, под предлогом переговоров, коварно затеянных Ганнибалом, Сципион коварно завел врага в выгодную для себя местность.
Закрепившись на удобной позиции, проконсул заявил сопернику о своем согласии на аудиенцию. В короткий срок обменявшись несколькими посланиями, полководцы выработали условия встречи и в тот же день с небольшими конными отрядами выехали к центру почти безупречно круглой равнины. Сблизившись на оговоренное расстояние, они оставили охрану, и в сопровождении своих переводчиков направились друг к другу. И Ганнибал, и Сципион смело шли на это свидание, почти не опасаясь каверз противника, поскольку каждый из них знал, что его соперник слишком дорожит честью своего имени и слишком горд развернувшимся между ними состязанием, а потому не унизится до каких-либо подлых приемов.
Сойдясь в самой середине будущего поля боя, полководцы долго молча смотрели друг на друга.
Прежде Сципион только издали видел Ганнибала и, пожалуй, мог бы опознать его в группе людей, но не более того. Сейчас же он получил шанс разглядеть лютого врага своего Отечества настолько, чтобы суметь одолеть его.
Для пунийца Ганнибал был неплох и ростом, и статью, хотя Публий, как и надлежало римлянину, фигурой выглядел покрепче. Карфагенянин имел живое, подвижное лицо, однако привычка повелевать обуздала природную экспрессивность и как бы заковала его в жесткие доспехи властной величавости. Впрочем, эта привнесенная общественным положением манерность не преступала границ меры и большинству окружающих представлялась внешним свидетельством внутренних достоинств. Противоречие естественного с искусственным отображалось на этом лице в борьбе монументальной статичности и стремительной хваткости, поочередно торжествующих первенство и своей частой сменой слепящих наблюдателя, как мигающий огонь. Двойственный образ порождал ощущение двухполюсного характера, а двухполюсность в свою очередь оказывалась многогранной, оборачиваясь то благоволением либо презрением, то чувством собственного достоинства либо цинизмом низкого коварства, то преклонением перед человеческой силой или пренебрежением к человеческим страданиям. Весь этот лик мерцал искрами противоположных страстей, доброе замысловато сплеталось с порочным и чаще уступало злу, чем властвовало над ним. И поистине ужасен был правый, незрячий глаз Ганнибала, ослепший от болезни во время его перехода с войском через этрусские болота. Неприятный, как все мертвое внутри живого, он еще зловещим образом символизировал двуличие всего облика, ибо при напряженном взгляде на него чудилось, будто сквозь стеклянный блеск слепого взора острым лучом прорывается мысль, и возникало впечатленье, что за своеобразной маской половинчатой смерти прячется дух этого опасного человека и из засады тайно следит за тобою. Характерные штрихи внешности, такие, как посадка головы, цепкость живого глаза и выпяченная нижняя губа, точно соответствовали психологическому портрету и подобно трем, торчащим над морскою гладью камням, предвещающим опасность бесчисленных подводных рифов, выводили на поверхность глубинную сущность своего обладателя, грубо заявляя о твердости целей и моральной зыбкости арсенала средств.
Сципион все еще пребывал в задумчивости, анализируя образ врага, а Ганнибал вдруг усмехнулся и как бы подмигнул ему слепым глазом. Он раньше завершил исследование облика соперника и, судя по всему, не заметил заложенной в нем несокрушимой мощи и не сумел прочесть в простом, располагающем доброй силой лице смертного приговора своей славе. Обнаружив готовность карфагенянина к беседе, Публий смахнул с чела сокровенные мысли и воззрился на противника вопрошающим взором. Как и положено просителю, Ганнибал первым начал речь.
– Дивную картину, Публий Корнелий, являет наша встреча, – заговорил он. – Славный урок преподает нам сегодня судьба. Сурово звучит ее назиданье, ибо, внемля небесному гласу, я, Ганнибаал – острие карфагенской агрессии, ныне пришел сюда ходатаем мира, пришел к сыну того, кто первым из вас познал мое могущество. Вот так-то своенравная богиня низвергает людей, крушит наши замыслы и чаянья.
– Боги одарили нас прекраснейшими странами ойкумены, – продолжал он, – определив нам плодороднейшую землю Африки, а вам – восхитительную Италию. Но чрезмерное честолюбие заставило нас страстно возжелать чужого, и вот я, повергший Иберию, Галлию, сами Альпы и всю Италию, за исключением вашего Лация, бесславно возвратился на родину, чтобы спасать ее от той же беды, каковой некогда грозил другим. И все, чего я достиг, отобрал у Карт-Хадашта ты, Корнелий, ты отвоевал Иберию, захватил большую часть Ливии, и ты же заставил меня уйти из Италии. Ты достиг вершины земного счастья и сравнялся со мною, каким я был у Тразименского озера и при Каннах. Но не повтори моей ошибки, Корнелий, так как, забравшись в вышину, я оторвался от земли и шагнул в небеса, чем смутил богов, жестоко низринувших меня обратно на нашу славную планету. Не возжажди запретного, Корнелий, вспомни, что ныне ты уже не защищаешь свое, даже не захватываешь нейтральное, по расточительству природы принадлежащее дикарям, но покушаешься на страну, исконно чуждую вам, страну, назначенную богами во владение финикиянам.
Публий плохо слушал Пунийца. Он смотрел на врага, и его обуревали мрачные думы и жестокие воспоминания. Вся семнадцатилетняя война чуть ли ни день за днем проносилась в его памяти. Он снова встречался с отцом, бросался к нему на выручку при Тицине, позорно отступал по зимней хляби в Плаценцию, зрел гибель отечественных армий при Требии и Каннах… Его дух скорбно парил над стонущим полем возле Ауфида, ввергнутым в траур Римом и «Долиной Костей». Пережитые бедствия душили его с такой силой, что исторгали слезы из мужских глаз.
«И все эти несчастья обрушил на мою Родину находящийся рядом со мною человек, – думал Публий, – а я уже столько времени стою перед ним и все еще не разорвал это африканское чудовище в клочья».
– Да, я знаю, что такое слава, – между тем продолжал Ганнибал, – я не раз делил с этой ослепительной красавицей ложе после ратных трудов. Для честолюбивой молодости нет ласк приятней, чем ее объятия…
– Ганнибал, – перебил его Сципион, – ты засылаешь ко мне в тыл словесных нумидийцев, готовя западню. Но будет! Остановись, достаточно! Покажи теперь фронт своего войска: переходи к настоящему делу.
– Я как раз и говорю о деле, – резко возразил Пуниец, – и только нетерпеливость юности не способна заметить этого, ибо торопливо шагает по верхушкам явлений, не ведая глубины. Ты молод и познал лишь одну сторону жизни, меня же с лихвой потерла и ее изнанка. Любого другого я без лишних слов образумил бы на поле боя, ибо, встречая на своем пути строптивых болванов, я отправляю их к Баал-Хаммону мудрыми скромниками. Ты – первый и единственный, с кем я повел серьезный разговор, не стыдясь даже сознаться в некотором раскаянии.
– И, по-видимому, я единственный, кто всерьез желает знать твои намерения, и кому не следует длинно повествовать о своих злоключениях, так как, по твоим же собственным словам, все испытанные тобою «превратности судьбы» устроил тебе я.
– Остерегись, римлянин. Ты великолепен, но нас слышат боги, а они сильнее всех людей.
– Гнева богов следует страшиться тому, кто преступает их законы и противопоставляет себя созданному ими миру, но не тому, кто воплощает божественную волю и является земным орудием богов, независимо от того, несет ли он оливковую ветвь или меч.
– Ну что же, отлично! – меняя тон, сказал Ганнибал. – Перейдем к деловому разговору. Такой подход устраивает меня даже больше, чем первоначальный. Замечу только, что дух твой не соответствует годам: в реальности ты либо гораздо старше своих лет, либо еще моложе физического возраста.
При этом Пуниец будто бы снова подмигнул Публию слепым глазом, вызвав в нем шквал страстей.
«Он опять лукавит, – с возмущением подумал Сципион, – и сейчас вновь начнет хитрить и изворачиваться, дабы вернее погубить нас».
Публий пристально вгляделся в лицо врага, в котором словно были закодированы все несчастья римского народа, и мысленно воскликнул: «Нет, Ганнибал, не нам на беду ты родился, а на погибель самому Карфагену! И я не просто одолею тебя, а уничтожу как личность, как явление, порок, болезнь общества и, надеюсь, надолго излечу человечество от Ганнибалов!»
– Итак, – говорил тем временем Пуниец, – я объяснял тебе меру человеческих деяний. Так вот, прилагая эту меру к политической картине мира, следует сделать вывод о том, что вам разумнее всего довольствоваться Италией, а нам – Африкой. Но уж коли вы столь преуспели в завоеваниях, господствуйте еще и над Иберией, Сицилией, Сардинией и прочими островами, за которые у нас шел неправедный спор, мы же ограничимся нашей собственной страной.
– И все? – изумился Публий. – И ты ничего не скажешь о выдаче пленных, перебежчиков, о выплате контрибуции, о сдаче флота? Ты ничего не скажешь о капитуляции? Пуниец, ты забыл, что разговариваем мы в Африке, а не в Италии. Там и только там были бы уместны подобные условия! Отменно ты торгуешься, карфагенянин: когда у тебя отобрали Африку, ты соглашаешься уступить Испанию! Разве тебе не знакомы условия, на которых Карфаген сошелся со мною перед твоим возвращением сюда? Знакомы? Так почему теперь условия иные? Что произошло с тех пор? Ты воспользовался перемирием, чтобы выставить против меня сильное войско, а твои соотечественники разграбили наш караван и покушались на жизнь послов. И за такие «подвиги» мы должны поощрять вас уступками?
– Не кипятись, Публий, ты же понимаешь, что тогда мы неискренне просили мира, и переговоры были лишь нашей политической хитростью.
– А не так ли обстоит дело и сейчас?
– Конечно нет, Корнелий.
– Ага, понимаю, сегодня это не политическая, а военная хитрость: славному Ганнибалу необходимо подобру-поздорову унести ноги из ловушки, в которую он угодил, и потому затеваются переговоры!
– Корнелий, сердись на тех, кто тебя обманул, на Ганнона и его приспешников, а не на меня. Я тебе не лгал и не солгу, ибо я – Ганнибаал, а ты – Сципион. Я уважаю тебя и говорю как с равным. Моя честь, моя слава тебе порукой в том, что я не только сам сдержу принятые на себя обязательства, но заставлю и Карт-Хадашт признать и соблюдать их. Моя власть над этим городом беспредельна, ведь я держу его троякой мощью: силой своего имени, своих наемников и своих денег!
– А как же пресловутые распри с сенаторами, обиды гения, не оцененного по достоинству примитивными согражданами?
– Это, Публий, – сказал Ганнибал по-гречески, дабы оставить в неведении собственного переводчика, – всего лишь сказки для черни и историков. Конечно, не все мои замыслы воплощались в решения совета, но, однако же, Ганнон против меня – букашка. Так что будь уверен, Корнелий, если мы сегодня сговоримся, то война действительно завершится этим днем.
– Хорошо, – также по-гречески подхватил Сципион, – я готов поверить Ганнибалу, некогда обещавшему своим людям мировое господство и приведшему войну к собственным жилищам. Я не смею уличать человека в недобросовестности, когда он гордо смотрит мне в глаза. Но при этом я заявляю следующее: слово Ганнибала – субъективный фактор, а наличие у Карфагена могучего войска – аргумент объективный, и он ратует за войну, более того, он требует войны. Я достаточно знаю Карфаген и могу утверждать, что борьба закончится только с потерей вами всяких иных шансов на спасение, кроме милости победителя. Таким образом, суммируя слова с делами, мы приходим к дилемме: капитуляция или сражение.
Лицо Ганнибала разом отяжелело и покрылось мраком бесчувствия.
– Ну что же, я дам тебе сражение, римлянин, – угрожающе произнес он, и в этот момент оба его глаза показались слепыми от бешенства.
– Я надеюсь на это, – сказал Публий, – поскольку отступление стало бы для тебя катастрофой.
Ганнибал резко развернулся, чтобы уйти, и уже сделал шаг к своему войску, но внезапно возвратился и горячо заговорил на греческом языке:
– Да, Корнелий, мы – враги, любезности в наших устах звучат диссонансом, но мы с тобою величайшие люди на земле и обязаны договориться, чтобы поделить между собою обитаемый мир. Если мы сейчас так вот и разойдемся с тобою, то завтрашний день принесет трагедию одному из нас. Мы оба рискуем потерять больше, чем приобрести. Поразмысли спокойно: уже сейчас ты пребываешь в роли победителя, победа лишь добавит тебе немного блеска, но поражение станет полным крахом, уничтожит достижения всей твоей жизни и саму эту жизнь! Я тоже пока не побежден, в предшествующих несчастьях виновны другие, а потому мирный исход нашего противоборства не грозит мне бесславием. Помни, Корнелий, мира у тебя просит сам Ганнибаал! Что может быть почетней для римлянина! Не торопись, подумай несколько дней, ведь неполная победа – все же победа!
Сципион снова задумался и отвлекся от гремящих экспрессией фраз. Но, не слыша произносимого, он услышал нечто более важное и схватил, зафиксировал в сознании еще одну характерную черту своего противника, залегающую в глубине под нагромождением бесконечных «я» и «ты» в речи о делах десятков тысяч людей. Риторические пары рассеялись, и он наконец-то увидел бездну пропасти, разделяющей его с этим человеком не только в гражданском, но и в личностном плане.
А Ганнибал, заметив задумчивость Сципиона, истолковал ее в благоприятном для себя смысле и еще более пылко бомбардировал римлянина комплиментами, восхваляя его испанские и африканские дела, стараясь размягчить ими волю соперника.
– Ты симпатичен мне, Публий, – вкрадчиво, почти что тепло говорил карфагенянин. – Я люблю людей, возвышающихся над толпой, и потому в равной степени желаю удачи и себе, и тебе!
– Ты ошибся, Пуниец, я не возвышаюсь над толпой. Просто на некоторый, определяемый ходом войны отрезок времени народ выдвинул меня из своей среды, но не за тем, чтобы я возвышался над ним, а для того чтобы я возглавлял его. Однако, командуя согражданами, я при этом подчиняюсь законам. Мы совсем разные люди, Ганнибал, мы принадлежим различным мирам, и предложенным тобою путем нам не придти к общей цели.
Ганнибал смолк и пытливо всматривался в лицо Сципиона, только теперь, кажется, начиная провидеть свою участь.
– Нам следует говорить не как Ганнибалу со Сципионом, а как главнокомандующему карфагенскими войсками и римскому проконсулу, – еще раз пояснил высказанную мысль Публий.
– Я дам тебе сражение, Публий Корнелий Сципион, – уже без прежнего гонора медленно и грустно повторил Ганнибал, и после тягостной паузы добавил:
– Пеняй же на себя!
Публий улыбнулся.
– Ты ничего не понял, Пуниец, – сказал он, – нет здесь меня, а есть государственный человек с конкретными полномочиями и конкретными обязательствами перед своей Республикой.
– Пеняй на себя, – снова произнес Ганнибал и пошел прочь. Сципион поторопился сделать ответный ход и покинул место переговоров одновременно с оппонентом.
Публий ступал легко и уверенно. Сильван же, слишком переволновавшийся в ходе словесного поединка, с трудом передвигал ноги и едва успевал за проконсулом. Заметив это, Сципион захотел взбодрить товарища, с которым побывал во многих переделках, и поинтересовался его впечатлением от вражеского полководца.
– Жуткая образина! – воскликнул переводчик.
– Да неужели? – удивился Сципион и добродушно рассмеялся. – А женщинам нравится. Я слышал, он пользуется бешеным успехом у них.
– Все правильно, – подтвердил Сильван. – «Сейчас схвачу» – говорит его физиономия. Что для женщин может быть приятней!
– Однако и разговорчики же у нас в такой критический час! – перебил Публий. – А между тем, наверняка, в свите Пунийца присутствует Силен, а в нашем отряде – вглядись, уже отсюда можно различить, вон там, справа – высоко подняв голову, стоит громогласный Энний. Эти историки, конечно же, сейчас творят, если не умом, так душой. Представляю, как в настоящий момент они присматриваются к нам с Ганнибалом и в воображении приписывают своим полководцам величественные думы: ведь наступает такой важный день! Но не скажу за Пунийца, а у меня, признаюсь честно, никаких мыслей теперь не осталось – полнейшая пустота; все, что было, растратил. Есть только убеждение, что дело идет как надо.
– Впрочем, – добавил он после некоторого молчания, кое что я все-таки смекнул… Видишь, как гряда холмов, закручиваясь спиралью, вгрызается в нашу долину?
– Не вижу. Я же не орел, и не могу смотреть сверху, – изумился Сильван, но, частично соглашаясь с Публием, сказал:
– Хотя я замечаю, что поле действительно несимметрично.
– Порой и человек может обладать орлиным взором, – задумчиво произнес Публий.
– Да, если он – Сципион.
– Нет, если очень нужно. Но мы отвлеклись. Возвратимся же к делу: в вершине этой спирали Пуниец, несомненно, устроит засаду. Наверное, именно поэтому мне подмигивал его слепой глаз.








