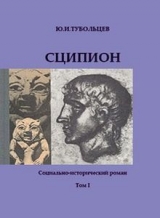
Текст книги "Сципион. Социально-исторический роман. Том 1"
Автор книги: Юрий Тубольцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 63 страниц)
Тем временем Кавдин сотворил формулу:
– Красота в человеке – это все то, что порождает любовь.
– То есть, красота, выражаясь в терминах, применяемых нами ранее, есть способность к любви? – громко перебил его Публий, бессознательно стремясь вернуть столь быстро утраченное внимание красавицы, но она более к нему не обернулась.
– Да, – продолжал Кавдин, все сильнее вдохновляясь своей речью, – и потому она включает черты лица, линии тела, голос, мимику, грацию движений, изящество ума, прелести души и силу духа, другими словами, это совокупность граней всех человеческих свойств, ориентированных в направлении любви, это как бы взгляд на всего человека, но с одной стороны. А поскольку все люди различны, то и красив каждый человек по-своему. Выходит, красота бывает разных типов, и каждый род красоты вызывает свойственный именно ей вид любви. Потому встречается любовь веселая и легкая, как весенний ручеек, нежная и спокойная, как тихая заводь, раздольная, как широкая река, неистовая, клокочущая в теснинах ревности подобно горному потоку, и яростная, низвергающая, как водопад, в пучину страсти!
– Сколько же лет ты, Публий Лентул, теоретизировал на эти темы? – с ехидной усмешкой поинтересовался Фламиний.
– Да вот… только сейчас все это пришло на ум, – смущенно произнес Лентул и, украдкой взглянув на Виолу, со вздохом тихо добавил: – Какое-то озарение…
Физиономия Фламиния изобразила злорадное торжество, он вознамерился продолжить атаку на Кавдина, проявившего еще большую слабость к прекрасной чужестранке, чем он сам, но Сципион пришел на помощь раненому стрелою Купидона легату. Он сказал:
– Вот результат совместных размышлений в дружеской беседе, когда доводы одного будят мысли другого и совместными усилиями удается все глубже черпать из бездонного колодца истины.
– Да, этот достойный молодой человек с большими и грустными глазами правильно сказал, – заговорила Виола, и ее голос, достаточно глубокий, чтобы затронуть душу, и достаточно легкий и мелодичный, чтобы вызвать сияющую радость, проник в грудь Сципиона, ударил по сокровенным струнам его существа, и в нем запел волшебный хор.
– Он объяснил, что красота бывает не только внешняя, – продолжала она, не замечая сраженных сердец, падающих к ее ногам. – Это вас, мужчин привлекают губы, брови и бедра, а женщины любят в мужчинах сильный геройский характер и душу, которая, как вы «скромно» заметили, полна у вас сокровищами чувств. Теперь судите сами, чья любовь богаче: того, кто любит изгибы тела, или того, кого влекут тонкости души.
В губах Виолы спряталась улыбка, в глазах блестками рассыпался лукавый смех. Женщина торжествовала свою победу над этими образованными мужчинами и, глядя на нее, трудно было решить: верит ли она сама в свои слова или только дразнит окруживших ее вниманием мужчин.
«Как бы не так, о том ли ты думала, красотка, прошлой ночью», – пробурчал себе под нос Фламиний.
– Ну если вы любите красоту души, то, значит, любите самих себя, ведь мужская душа цветет только в период любви, то есть, когда отражает ваши собственные прелести, – с улыбкой сказал Публий.
– Конечно, они любят только себя! – воскликнул Фламиний. – Потому столько времени вертятся перед медью зеркал, возятся с румянами и благовониями.
– Но вот скажи, Виола, чем вызвал твою любовь Аллуций? Сам он уже поведал нам, что любит тебя за красоту, – снова стал приставать к красавице Публий.
– За его доброту и силу, – мягко сказала Виола и обернулась к Аллуцию, отчего встрепенулись, ожили, пошли волнами ее пышные волосы.
Жадно глядя на них, Публий на миг почти явственно ощутил, как они кудрявыми ручьями скользят по его руке, и даже содрогнулся, но, увы, его отделяло от этой женщины прежнее расстояние, и, более того, каждое мгновение отдаляло их друг от друга, предвещая расставанье навсегда.
– Причем я знаю, – продолжала Виола, – что он красив, силен и добр благодаря моей любви так же, как и я красива, пока он меня любит.
– В таком случае и другой под действием твоей любви мог бы столь же ярко раскрыть свои достоинства, – сказал Публий, и его голос дрогнул, он запнулся, но после паузы снова заговорил ровным приветливым тоном, – вот перед тобою мой квестор, Гай Фламиний, сын выдающегося человека и сам могучий воин, остроумный собеседник. Согласись, он не менее статен фигурой и красив лицом, чем любой из твоих соплеменников, так разве он не достоин любви?
– Вполне достоин, – подтвердила Виола, лукаво взглянув на широкое бородатое с правильными мужественными чертами лицо Фламиния.
– Теперь представь, что, прежде чем встретить своего жениха, ты познакомилась бы с Гаем. Он мог бы стать твоим возлюбленным, и как бы ты тогда восприняла Аллуция?
– Ты, благородный чужеземец, забыл о воле богов. Боги не наделили бы меня любовью к тому, кому я ими не предназначена.
Она глубоким взором посмотрела на Публия, и вновь он замер, пораженный. Почудилось ему, будто через эти глаза смотрит на него сама Вселенная: таинственно сверкает звездная ночь, чарующе струится лунный свет; возникло впечатленье, словно через них снисходит в мир небесный дух и вечность осуществляет связь времен, перешагивая земные пределы жизни и смерти.
– А верно ли ты, Виола, понимаешь знаки богов? Не приняла ли ты случайный небрежный жест Купидона за тот единственный символ, предназначенный тебе? Согласись, что ты среди женщин слишком яркое явление и должна быть предметом особых забот небожителей, потому тебе они не пошлют первого встречного, но, чтобы найти человека под стать твоим талантам, они перетрясут весь мир, затеют войну, обрушат землю, зажгут вулканы… и твоим долгом было ожидать явного указанья божественной воли, дождаться, когда Венера сама спустится на землю и, обняв тебя как свою любимейшую дочь, укажет тебе того, действительно единственного, кто достоин тебя. И если твоя любовь способна обычного мужчину сделать героем, то сколь благотворным стало бы твое влияние на человека самого по себе великого? Сколько славных дел мог бы совершить этот человек, опираясь на твою любовь, находя в ней награду, черпая в ней силу!
Виола во все глаза смотрела на покрасневшее в пылу вдохновения лицо Публия. Она ничего не поняла в замысловатом словоизвержении, обрушенном на ее дремлющий в первозданной дикости ум, да еще и сбивчиво переданном переводчиком Сильваном, но облик юноши раскрыл все тайны перед ее женской проницательностью. Она была несколько напугана силой бурлящей перед нею страсти, но все же, видя это ясное лицо, верила в честность римлянина и тем больше удивлялась воле его духа, держащего в оковах неистовую плоть. Она чувствовала, чего это стоит Сципиону, и в благодарности желала чем-либо порадовать его.
А Фламиний, склонившись к Публию, сказал ему на ухо:
– Бери ее, Корнелий, иначе всю жизнь будешь жалеть. Бери ее, она готова. Отвезешь эту красотку в Рим под видом своей рабыни, потом освоболишь, выдашь замуж за клиента и будешь держать в любовницах, пока ее прелести не потускнеют. Она сама будет тебе благодарна, если ты вырвешь ее из этих дебрей варварства. А родственников мы убьем, дворец сожжем и спишем жертвы на пожар. Все обойдется. А коли не так, то усмирим их возмущенье в битве. Дикарям всегда полезно пустить кровь.
– Если я это сделаю, то никогда не смогу уважать себя, – так же тихо ответил ему Сципион.
– Брось ты говорить такое, ведь мы же не в Риме. Здесь кругом варвары, ты захватил их город и по праву войны мог вообще всех сжечь или продать в рабство.
– Довольно об этом. Не за тем я прибыл в Испанию, не за тем взывал к иберам с громкими речами, чтобы воровать красоток.
– Я же за тебя беспокоюсь. Сам-то я утешусь в удовольствиях подобного рода с другими. В моих объятиях любая дурнушка засверкает ярче красавицы. А ты молод в этом деле, у тебя такая рана не скоро заживет.
Виола впервые за весь день потупилась, но не от смущения, а от досады, что привлекла к себе излишнее внимание могущественных людей, способных в миг сломать ее судьбу.
Она тихо сказала:
– Вы слишком преувеличиваете мои достоинства. Я обычная женщина, незнакомая с вашими науками, неискушенная в тонкостях светской беседы, и если бы вы увидели меня рядом со своими женами и сестрами, то сами поняли бы это. Потому я вполне довольна собственной судьбою. Мне достаточно любви одного из лучших и знатнейших наших юношей, уважения соплеменников и вашей дружбы, великие римляне. И если я вам кажусь нелишенной достоинств, то только потому, что я нахожусь в своей среде.
– Какая тонкость при такой простоте! – воскликнул Публий. – О если бы ты, Виола, увидела себя однажды моими глазами! Как много нового тебе открылось бы в мире, каким богатым стал бы с того момента твой взор!
Между тем ослепленный счастьем и характерным для недалеких людей самомненьем, Аллуций ничего не понял в развернувшейся перед ним драме, но, недовольный долгим отсутствием внимания к своей особе, решил сам напомнить о себе.
Он громко произнес:
– Вы тут заговорились и забыли о предсказателе. Пусть он мне погадает, как обещал.
Публий вздрогнул при этом голосе с отзвуками нетрезвости и вдруг почувствовал, что пласты его жизни сместились, время как бы скачком прыгнуло вперед, и недавние счастливые мгновения общения с Виолой, когда их души сблизились под напором чувств, теперь, как в пропасть, канули в прошлое. Психологическое напряжение вокруг спало, и ему даже послышался облегченный вздох Виолы.
Он молча обернулся к халдею, который неподвижно сидел на ложе, как на скамье. Несмотря на кажущуюся заторможенность, гадатель понял, чего от него хотят, еще до того, как переводчик произнес фразу Аллуция по-гречески. Оборотившись к Публию и не глядя на испанца, о котором он говорил, старик просто и буднично сказал:
– Он проживет недолгую, но счастливую жизнь в любви и ратной славе. Сципион поморщился. Когда Сильван, повернувшись к испанцам, раскрыл рот, Публий крикнул:
– «Недолгую» – не переводи!
Услышав предсказание, испанские князья бурно выразили свой восторг. Все кинулись поздравлять разрумянившегося Аллуция и пить за его здоровье. Виола гибко прильнула к его мускулистому телу и тихонько лизнула ему щеку.
Тут Фламиний, желая окончательно отвлечь Сципиона от грустных мыслей, предложил вызвать в зал танцовщиц из числа захваченных пунийских рабынь, профессией которых было услаждать карфагенских богачей. Публий в ответ равнодушно пожал плечами. Тогда квестор подозвал распорядителя пира, и вскоре перед ложами предстали затисканные смуглые красотки в скудных лоскутах прозрачной мелитской ткани, не столько скрывающих, сколько оттеняющих наготу.
Несколько дней назад Публия, возможно, и заинтересовало бы предложенное зрелище, но сейчас вид этих девиц вызвал у него лишь отвращение.
Во время танца испанцы, к удивлению римлян, также проявили полную холодность. Дождавшись паузы, они загалдели, горячо доказывая что-то друг другу, потом самые знатные подошли к Сципиону и, указывая на финикиянок, сказали ему, что движения этих рабынь лишены жизни, искусство убило в них чувство, потому римлянам лучше было бы насладиться танцем в исполнении испанских девушек. Публий нехотя принял благосклонный вид, и испанцы взялись готовиться к представлению.
К пунийскому оркестру, расположенному за ковровой стеной, присоединились местные музыканты со своими специфическими инструментами. Вслед за ними направились за ковер испанские женщины, среди которых были и дочери знатных князей.
Публий бессознательно сопровождал их взглядом. Ночь стала томить его, потому как более не предвещала ничего интересного. Ему страстно захотелось вновь наброситься с бесчисленными вопросами на Виолу, чтобы развернуть перед собою ее душу во всей красе, любоваться переливами оттенков эмоций, мерцающих в глазах согласно внутренним движениям мыслей и чувств, но возобновление такой беседы теперь преступило бы пределы приличий, да и публика, перегруженная пищей и вином, уже не в состоянии была бы ее выдержать.
Однако он живо встрепенулся, когда среди поднявшейся сутолоки встала и Виола, легким грациозным движением оправила тунику, и присоединилась к танцовщицам. Он никак не мог поверить в возможность продолжения созерцания этого чуда, тем более, в ином, особенно красноречивом виде самовыражения, ибо танец для женщины – то же, что для государственного мужа – речь перед народным собранием.
Наконец приготовления закончились. Спрятанные за портьерой флейтисты и кифаристы огласили зал грустным и загадочным звучаньем. Ковровая завеса приподнялась, и на сцену впорхнули десять девушек в коротких белых туниках, перехваченных выше талии широкими пурпурными поясами.
Публий лихорадочно перебирал взглядом их лица, но не находил того, чего искал.
Девицы нервно прохаживались по сцене, сосредоточенно опустив головы. Музыка стала громче и в некий миг разом овладела ими, будто наделив всех единой душой. Мягкие, волнующие звуки закружили танцовщиц и повлекли за собою. Тонкое плетенье ткани музыки предстало в пространстве изящным узором движений. Мелодия проникла в женские фигуры и рисовалась перед взором манящими изгибами их тел. С каждым мгновением ритм все глубже проникал в души танцовщиц, лица зажигались румянцем, движения становились более размашистым, туники согласованно взлетали в воздух, и тогда казалось, что на сцене распускаются роскошные цветы. Большая часть светильников у сцены была установлена в нижней части стен, потому волос и плеч танцующих едва касался слабый нежный свет и робко крался далее по их одеждам, а на пути его встречал самоуверенный собрат, который, атакуя соблазнительных танцовщиц снизу, смело хватал их за ноги и по ним стремился вверх, проникая под туники. А ноги, вдохновенно сочиняя замысловатые фигуры, азартно скакали, словно желая вырваться из пламенных объятий света, тогда как этим кокетливо себя все больше открывали. В музыке нарастало напряжение, послышалось ритмичное позвякивание каких-то костяшек, и вслед за тем угрожающе раздался сочный топот огромных барабанов.
Вдруг все в момент остановилось, зияющей тишиною оборвалась мелодия. Снова открыла пасть ковровая стена и впустила еще одну танцовщицу. Та прошла вперед и расположилась у самых лож. В зале послышались восторженные возгласы, испанцы стали поспешно пить вино, запасая его в чреве впрок, чтобы затем не отвлекаться.
Столь прекрасною Виолу Публий еще не видел. Может быть, избавившись от несвойственной ей роли собеседницы представителей иной, более изощренной культуры, она именно теперь обрела свои естественные краски, а возможно, что и Сципион смотрел на нее по-новому после паузы в их общении, в течение которой его предварительные впечатления оформились и сложились в единую яркую картину. В первый же миг, когда она, еще окутанная мраком, выступила из-за занавесей, он узнал ее прежде внутренним чувством, чем глазами, волны холода и жара, сменяя друг друга, пронеслись по его телу, кровь яростно застучала в голове, и только после голоса страсти заговорило зрение. Пока она проходила мимо застывших в ожидании подруг, он плохо различал ее лицо, но взамен его воспаленная душа получила новую пищу в созерцании походки. Ее движения были чисты, как голубое небо, их не замутняли вкрапления кокетства, колебания стана гармонично соразмерялись с длиною шага, это была грация самой природы, ее высшего проявления – законченной во всех деталях, гордой красоты, сознающей свое достоинство, свою власть над всем живым и потому не нуждающейся в мишуре искусственных манер. Белое одеяние, напоминающее греческий хитон, множеством складок струилось до пола, а при каждом шаге распахивалось справа, как пеплос. Любые, самые длинные и свободные одежды бессильны скрыть от мужского взора женские красоты, как и недостатки, тем более, в динамике походки. Глядя на эту фигуру, Публий мучительно искал малейшее несовершенство, будучи охвачен стремлением ослабить цепи любовного плена, но безуспешно. Он в бессилии откинулся на ложе. Возможно ли одолеть войско, в котором в своей роли одинаково сильны и конница, и легкая пехота, и тяжеловооруженная фаланга! Есть ли смысл штурмовать крепость, где все стены равно беспредельно высоки и им под стать могучие ворота!
Заняв облюбованное ею место в нескольких шагах от Публия, она обвела восхищенных зрителей лукавым взглядом и ослепительно всем улыбнулась. Ее фигура расправилась, будто налившись соками любви. Сейчас она предстала во всеоружии женской силы, глубинная суть ее явилась миру. Именно теперь она по-настоящему живет, свое предназначенье выполняет. Всем существом источая волшебство могучих чар, она прекрасна, как воин в сражении, стоящий на холме поверженных неприятельских тел, сладострастие струится вокруг, как жаркая кровь врагов по мускулистому торсу героя.
Музыканты заиграли еще громче, и эта музыка была уже иного рода. Здесь вожделение, изнывавшее прежде взаперти, вырвалось на волю и затопило зал своим удушливым и трепетным дыханьем.
Виола резко повернулась, сделав полный оборот, от чего густые волосы взлетели и ярким облаком окутали лицо, длинный хитон встал дыбом и обнажил для горящих взоров упругие бедра.
Она была ближе всех и красивее всех, потому об остальных танцовщицах присутствующие тут же забыли, и те, размеренно кружась, развлекали лишь самих себя. Едва она сделала первые движения, по линиям ее тела высшей музыкой заструилась сама красота, словно отделяющаяся от обворожительных женских форм и волнами нисходящая в зал, где, сливаясь со звуками оркестра, образовывала бурлящий океан эмоций, в котором тонул рассудок и торжествовала страсть. Любуясь ею, зрители не заметили, как угодили в вихрь, занесший их на небеса, или может быть, наоборот, подобно морской воронке, погрузивший в пучину. Как бы то ни было, они оказались в иной стране, в которой события развивались по законам волшебства. Здесь властвовали гармония и ритм, тут все плясало и размашисто качалось на волнах мелодии, взлетало вверх с брызгами импровизаций и обрушивалось в ущелье меж пенистых хребтов.
Следуя за танцем, весь мир выстроился в гармонические ряды и пустился в хоровод. В этот час самый черствый человек превратился в поэта, и озаренная музыкой красота порождала в его душе летящий высоко над пыльною землею стих.
С первого мгновения завладев вниманьем окружающих, Виола никого от себя уже не отпускала. Кружась между колонн, замысловато извиваясь, гибкими руками она чертила в воздухе магические знаки, как колдунья завораживая взоры, чтобы через них у жертв исторгнуть души и увлечь их за собой. Сладостной истоме этой власти никто противиться не мог, и зачарованные, ей все с восторгом подчинились.
То, что творила на сцене Виола, совсем не походило на танец других девиц. В сравнении с нею остальные безнадежно поблекли, они всего лишь рабски следовали внешним контурам мелодии, и только. Она же с музыкой играла, то, следуя за нею, то, ей противореча, будоражила ее глубинные структуры, внося разлад, и в дисгармонии гармонию высшего порядка находила. Она совершала виражи, опережая звуки, подчиняя их себе, прокладывая им путь, но вдруг коварно ускользала, пропуская их вперед, и, делая зигзаг, как бы сама новый ритм им задавала. Временами она легко и свободно порхала, как будто в облаках летала, и флейты, стеная и плача, взвивались за нею в небеса, но напрасно: она уже таинственною тенью кралась у земли, и здесь сочными тонами изловить ее пытались самые длинные струны финикийской арфы. В безнадежной погоне за красотою звуки то возгорались гневом и яростно метались, как пламя на ветру, то, смиряясь, нежно умоляли и ласковым морем перед нею сверкали. Тогда она, дразня, их подпускала ближе, но стоило мелодии овеять ее стан, как вновь Виола, стряхнув объятия, стремительным вихрем в заоблачные страны уносилась, и музыка бессильно карабкалась за нею.
В конце концов состязание двух стихий привлекло внимание жестокой и прекрасной богини – Страсти, которая не располагает храмом на семи холмах, но в недрах каждого живого существа имеет свой алтарь. Властная богиня преобразила лужайку счастливой любовной игры в поле яростного боя. Она собрала звуки воедино, вдохновила их посулами роскошной добычи и беспощадно бросила в атаку. Вперед пустилась легкая пехота кастаньет, следом двинулись легионы звенящих кифар, трели флейт, как турмы всадников, понеслись врассыпную, заполнив все этажи пространства. Казалось, сами стены пели, все предметы ожили и в воинственном экстазе ринулись в наступление под флагом всесильной Страсти. Такая мощь обрушилась на хрупкую фигурку в распахнутом хитоне! Устоит ли женщина против этого штурма?
Виола, приостановившись, сощурила глаза, оценивающе, будто полководец, поглядела на полчища врага и, отчаянно кружась, ринулась навстречу буре.
Она, как смерч, по сцене пронеслась и разметала гармоничные ряды вражьих построений. И вот вокруг разбросанные звуки стонут и вопят от боли, желания и страха. Виола торжествует, вперед победным маршем величаво выступает, словно в триумфальном шествии восходя на Капитолий. Поверженной Страсти угрожает наказанье, но она смиряет буйный нрав и, предательски ласкаясь, песнь покорности поет. Победительница великодушно проигравшую щадит, а та, меняя тактику, доверчивою женщиной коварно, исподволь овладевает. Смиренно шепчет восхваленья и в тот же миг колдовским дыханьем ей душу распаляет. Обманчиво нежные щупальца Страсти, будто в мольбе, скользят по ее стану, но, изощренные в любовном искусстве, за собою шлейф мурашек вожделенья оставляют. Интриги чувственной богини находят отклик в низменной природе тела, введенное в соблазн, оно хозяйке изменяет и рабски служит сладострастью, многоцветно изгибаясь, возносит гимн любви, каждой линией упругих мышц давая россыпи чудных голосов. Тут Страсть срывает лживую маску угодливости и открыто заявляет о своей победе. Железной хваткой на жертве смыкаются ее объятия. И бьется Виола в конвульсиях страсти, в условной форме являя возбужденным зрителям свои глубинные возможности в любви во всем разнообразии нюансов от возвышенной мечты до пьянящего бесстыдства. Она головокружительные позы принимает, одежда клочьями над ней летает, волосы, развеваясь, бурными волнами воздух бьют.
Вдруг в миг все изменилось. Виола снова обрела себя и тело подчинила воле. Теперь она холодна и беспристрастна, недоступна и горда, пред ней умиротворенные струятся мягкие звуки.
Однако Страсть не ведает покоя и при виде красоты беспощадным пламенем пылает, потому, как и прежде, с неумолимым упорством за нею охоту ведет. Опять могучая стихия грозовые тучи сгущает над нею. Та стремится ей противиться, но в который раз в самой себе врага находит. Все природные силы восстают против гнета рассудка и спешат навстречу Страсти. Виола видит разверзнутый провал, на дне которого бурлит поток животных удовольствий. У нее кружится голова, она качается у края, отчаянье и ужас выражают судорожные взмахи рук. Еще мгновенье – и ждет ее паденье… В теснинах пропасти по остриям камней ползают чудовища неукротимых чувств и клацают зубами, предвкушая жертву. Мрачной тучей на миг повисла в зале тишина, лишь угрюмо барабаны стучали…
Но гром не грянул. Виола вдруг засверкала озорной улыбкой, и растворились в радостном сиянии предвестники грозы. Красавица вновь лихо пляшет и, над Страстью насмехаясь, длинными ногами ловко паутину вожделения плетет, в которую давно запутала всех в зале.
Однако торжество ее недолго, ей опять погоня угрожает. Слишком велики ее таланты, она вызывающе прекрасна, не желают стихии отступиться от нее. Бесконечная борьба лишь сменяет свои лики, представая в новых образах и проявленьях, но не наступит мир, пока красота себя не исчерпает.
Временами Виола держит верх и ведет на поводу усмиренную богиню, но со следующим витком событий соперницы меняются ролями, торжествует Страсть и в жестоких объятиях женщину терзает.
Зачарованные зрители не имеют силы оторвать от сцены взгляд, ибо там реют их души, в любовной пляске упиваясь красотой. Борьба природы и искусства всех втянула в свой круговорот, каждый здесь – участник битвы и недоступную красавицу жаждет одолеть. А она, лукаво усмехаясь, манит их к себе, всем откровенно обещает наслажденье. Но лишь на мгновение блеснет надежда и исчезнет: Виола вновь недосягаема, как солнце. За ней никто не успевает, неудержимая фантазия делает непредсказуемым всякий шаг ее и жест. В любой момент она иная, текучая изменчивость, воплощая саму жизнь, не позволяет уснуть вниманию, будоражит воображенье, порождая в нем галлюцинации все новых чувств.
Она внезапно меняла темп и медленно плыла в океане звуков, и за внешней размеренностью танца темнела глубина эмоций, затем неистово взвивалась вся, движения опережали взгляд, она кидала вверх, рвала одежды, они ее томили, она стремилась освободить от них требующую признания красу, белые ноги, как молнии, глаза слепили, сверкая меж бурных туч хитона.
Это была оргия. Прежде никто из зрителей, ныне напряженно скорченных на ложах, не ведал подобного накала чувств, тысячи прожитых в удовольствиях ночей доставили им меньше наслаждения, чем последний час, ибо это была оргия духа, когда пыл тела питал жар души и в огне страсти из нее выгорало все ничтожное, весь хлам и оставалось только незыблемо-вечное – то, что не горит.
Но вот, с величавой грацией проделав полукруг, прекрасная испанка остановилась, своих поклонников обвела счастливым взором и замерла во властной позе. В почтении пред ней затихли звуки.
Всем было ясно: сегодня Виола – победитель, победитель над всеми: людьми и богами, мрачным Аидом и голубыми небесами. Впрочем, иначе и быть не могло, борьба – всего лишь лукавый обман, потому как уступать страсти и властвовать над ней – две грани единого женского счастья.
Испанцы вскочили с мест и с галльской дикостью выражали свой восторг. Многие римляне последовали их примеру и, забыв о собственной исключительности, в проявлении темперамента не уступали варварам. Но Сципион остался в прежней позе, как смертельно раненный воин, пригвожденный к земле вражеским копьем. Наконец, сделав заметное усилие, он тоже встал и неторопливо захлопал в ладоши. Ему показалось, что в этот момент Виола просияла особенно искренней радостью. Она некоторое время лучезарно улыбалась и приветливо махала ручкою всем бушующим в экзальтации мужчинам, потом, мягко и легко ступая, скрылась за ковром. Гул в зале не унимался. Аллуций с ребяческой откровенностью упивался своим счастьем, но на лице его бродил далеко не детский румянец. Вдруг он сорвался с места и побежал туда, куда удалились танцовщицы. За портьерой послышалась борьба, затем в зал вернулась Виола. Она еще не успела полностью переодеться, и ее соблазнительные формы едва прикрывались короткой и низко спадающей с правого плеча туникой. За нею, как привязанный, следовал Аллуций, по пути хватая ее за руки. Они возбужденно, хотя и вполголоса, переговаривались. Виола норовила ускользнуть от приставаний. Вдруг она метнула быстрый взгляд на Публия и в следующий миг царственным движением отстранила от себя жениха.
А Сципион, ужаленный ее коварными глазами, проклинал свое положение проконсула этой страны и мечтал быть простым центурионом, чтобы нести ответственность только за себя и, не будучи скованным высшею целью, иметь возможность ринуться в бой за личное счастье.
Влюбленные прилегли на обеденное ложе, но постоянно ворочались, не находя покоя. В этой возне туника Виолы скомкалась, оголив пылающее в любовном трепете тело до такой степени, что вид красавицы представлял жестокую опасность для сидящего напротив Сципиона. Наконец Аллуций победил, они поднялись, и он, торжествуя, увлек ее, теперь смиренную, из зала. Уходя, она на миг освободилась из объятий и, обернувшись, поглядела Публию в глаза. В ее последнем взоре он прочел призыв. Но что теперь возможно было сделать? Да и она, наверняка, сама себя в тот миг не понимала, этот взгляд был лишь мимолетным откликом на сокровенный внутренний голос. Ее сомнение проскользило тенью и растворилось в радости взаимных чувств, она снова с трогательной нежностью прильнула к массивному мужскому телу.
Вслед за ними удалились и некоторые другие парочки влюбленных, предварительно раскланявшись перед Сципионом.
Публий, кипя от злости к красавице и счастливцу-жениху, к самому себе и ко всему живому на земле, к тому, что подчиняется законам страсти, грубовато сказал, обращаясь к седовласым патриархам:
– И часто дочери ваших князей столь блистательно и откровенно пляшут?
Варвары восприняли фразу как комплимент и принялись напыщенно рассказывать, насколько почетно у них все, что способствует любви, и как популярны в их среде подобные развлечения, в ходе которых проводятся даже своего рода турниры по умению танцем разжечь желанья.
Однако Сципион их уже не слушал. Он не находил себе места. Ничто вокруг не могло удержать его внимание, а углубляться в себя было мучительно больно. Вдруг его отчаянно блуждающий по залу взгляд наткнулся на старика-гадателя. Публий и обозлился, и обрадовался тому, что нечто отвлекло его от любовных терзаний.
– О мудрейший халдей, ты созрел? – спросил он по-латински, а уж потом, спохватившись, по-гречески.
– Я готов, господин, – медленно, но уверенно ответил мудрец. Услышав слово «господин», Сципион раздраженно воскликнул:
– Ты не раб, а между свободными людьми такое обращение – позор, оно уместно разве только в дикой Азии! Впрочем, не буду более тебя перебивать, изрекай свои загадочные фразы.
Старец вперил в него ядовитые глаза, лицо и плечи его передернула нервная судорога.
Сципион неожиданно для себя несколько смутился и, чтобы вернуть внутреннее равновесие, сказал, нарушив обещание не мешать гадателю:
– Откуда у тебя, дитя Востока, такие светлые глаза? Не иначе как с богами много общаешься, подолгу на синее небо взираешь?
Халдей, сосредоточившись в созерцании, казалось, ничего не слышал и продолжал напряженно всматриваться в Публия. Постепенно его взгляд будто растворялся, уходил из глаз, которые вскоре стали совсем прозрачными, и сквозь их пустоту он теперь смотрел чем-то еще, каким-то неведомым чувством. Сципион ощущал этот новый взгляд, но не видел его в глазах старца. Все это создавало впечатление крадущейся во тьме неведомой опасности.
Неприятная пауза слишком затянулась и совсем не гармонировала с разгульным настроением опьяневшей публики. Сципион вознамерился обратить этот фарс в шутку, поднял руку, привлекая внимание окружающих, приоткрыл рот и… замер в этом положении, ибо заговорил сириец.








