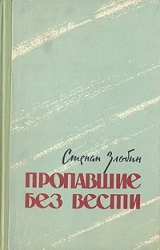
Текст книги "Пропавшие без вести"
Автор книги: Степан Злобин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 84 страниц)
От холода, голода и сознания непоправимой беды мало кто из пленных мог спать. Мечтали о кострах. Утром старались согреться на солнце, но оно уже плохо грело. Лежали без сна, в молчании…
Баграмов тоже не спал, укрывшись плащ-палаткой, лежа на мерзлой земле, он слушал говор окружавшей толпы.
Эти вчерашние воины, потерявшие воинскую честь и оружие, не понимали, как это они, такая громадная масса боеспособных мужчин, оказались бессильным стадом. И они пытались найти этому объяснение и оправдание.
Пленник не хочет взять на себя вину за то, что он не сумел защищать родину. Ему необходимо как воздух найти объяснение вне себя. И как ответ на мучительные поиски этого объяснения, кем-то недобрым снова посеяны были слова «измена», «продажа».
Выпущенные фашистами из тюрем уголовные подонки, которые успели получить от гитлеровцев бумажки об «освобождении из советской неволи», сновали с шипением в гуще пленных, предсказывая неминуемую гибель советского строя, говоря, что иначе и быть не могло: продали Гитлеру всю Россию… евреи за два миллиарда рублей…
Так при помощи уголовных пособников внедрялся в среду пленных во все времена чуждый русскому народу и дикий для советского человека фашистский средневековый бред антисемитизма. Эта смрадная, ползучая плесень пускала свои корешки в расслабленные бедой мозги отчаявшихся, растерянных людей.
Выделяясь из толпы новенькой коричневой кожанкой, в серой каракулевой кубанке с малиновым донцем, изукрашенным позументом, в хромовых сапогах, нахальный высокий малый с бегающим взглядом, дымя сигареткой, сплевывая по сторонам сквозь золотые зубы, изрыгал самую грязную ругань по адресу каждого, кто возражал на бесстыдную и позорную мерзость его речей. Он пространно рассказывал, что уже побывал у немцев в плену, а теперь отпущен домой, в один из оккупированных районов Гомельской области.
– Колхозы делить! – пояснил он с поганой усмешкой. – Хватит, попановали господа коммунисты! Теперь землю народу!..
– Фашистским помещикам землю отдать хотите, а не народу! – не выдержав, отозвался Баграмов. Малый с угрозой шагнул к нему.
– Чего-о-о?! – протянул он, злобно прищурясь.
– Я говорю – гитлеровским помещикам землю. А таких, как ты, гадов, бандитов, хотят поставить при нашей земле фашистскими холуями…
– Ты раненый, что ли? – спросил агитатор.
– А что?
– А то! Кабы ты был здоров, так я бы тебе, твою душу…
– Жора, оставь! А ну его, Жорка, пойдем! – позвал второй, плюгавый человечек в кепке и с желтеньким галстуком. Малый в кожанке погрозил Емельяну пальцем.
– Смотри, отец, я добром говорю! Сам был в плену, навидался! Немцы такого не любят. Станешь трепаться – и шпокнут…
– Лучше пусть шпокнут, чем за перчатки да кожанку продаться фашисту! – отозвался за спиной фашистского агитатора рассудительный голос.
Жорка выплюнул сигаретку и вызывающе обернулся.
Емельян увидел сзади него немолодого колхозника в обычной крестьянской одежде, но в красноармейской пилотке.
– Ты откуда такой сорвался? – спросил Жорка, гнусно прищурясь.
– С другой стороны, обратно: ты – с немецкой, а я – с русской. Мы все оттуда! – не сдался колхозник в пилотке.
– Небось председатель колхоза? – вызывающе просил Жорка.
– «Небось» землю всю жизнь пахал! А ты всю жизнь по чужим карманам в вагонах шарил да сундучки воровал. Я тебя сразу признал, как в прошлом году тебя на платформе в Рославле от народа милиция отымала…
Жорка прыгнул к колхознику и сграбастал его за горло, но тот с неожиданной силой отшвырнул фашистского прихвостня кулаком в подбородок. Жорка выхватил финку…
– Halt! [21]21
Стой!
[Закрыть]– пронзительно по-немецки скомандовал Жоркин спутник, до этой минуты казавшийся тихим и скромным. Зрачки его злобно и повелительно сузились.
Жорка, как механизм, послушный сигналу, вытянулся руки по швам.
– Пойдем, Жора… Ну их… тут с ними!.. Пойдем, – опомнившись, вдруг просительно, но настойчиво забормотал невзрачный белесый спутник неуемного фашистского агитатора, и оба исчезли в толпе.
Их гнали, измученных, шатающихся, спотыкающихся от голода и усталости. Изнемогших, упавших конвоиры прикалывали штыками, присевших для минутного отдыха пристреливали из автоматов полупьяные и тупые девятнадцатилетние гитлеровские «арийцы».
Путь колонны усеян был трупами, которые остались от ранее тут проведенных пленных. Сотни мертвых лежали по всей, казавшейся бесконечной, дороге – трупы со штыковыми ударами в грудь и живот, с разбитыми черепами…
На привалах растянувшаяся на километр колонна пленных сбивалась в бесформенные серые кучи. Над громадиной безобразной толпы взлетали тоскливые, ставшие в эти дни привычными вопли.
– Тамбо-овские! Тамбо-овские! – кричала надсаженная, хриплая глотка.
– Калу-уцкие! – призывали другие.
– Могиле-о-вские! – раздавались вопли, разносимые на километр.
– Рязанские! Рязанские! Ягор Дяргунков! Дяр-гун-ко-ов!
Так они, разрозненные в этом гигантском скопище, криками искали друг друга, искали земляков, как частицы потерянной родины…
– Явту-ше-енко! Па-влю-у-ук! Явтушенко! Павлю-у-ук! – долго стонал один тоскливый, тоненький, пронзительный голос.
Опускается ночь, снова раскинулся табор к ночлегу, но все еще несутся эти сиплые и отчаянные призывы людей, которые среди многотысячной толпы очутились в пустыне и бесплодно взывают к «ближнему».
– Ми-инские! Бря-анские! – ревут глотки между дымящимися кострами, сложенными из выломанных по пути крестьянских заборов, из плетней, из украденных по дороге слег, а кому не удалось, у того – из сырых, не горящих сучьев…
Автоматные очереди, брызнув внезапно, пронизывают эти толпы. Падают раненые и убитые. Это означает «отбой» – пора прекратить крики и всем опуститься на землю, спать. Люди валятся на людей, и тот, на которого кто-то упал сверху, не протестует, – может быть, от утомления он не чувствует тяжести навалившегося тела, а может быть, просто доволен тем, что сверху ему тепло…
Серую, промозглую ночь кропит мелкий дождь. Люди лежат на мокрой земле, в лужах.
По сторонам, окружив этот страшный стан, оставив между собой и пленными сотню метров, у ярких оранжевых, стреляющих искрами костров стоят часовые. Всю ночь вокруг табора они пускают осветительные ракеты.
К рассвету сгустился туман. Над мертвенным лагерем опять раздается внезапный треск автоматов – это фашисты «играют» подъем… По лежащему человеческому скопищу хлещут между потухших костров визгливые прутья автоматных очередей. Новый десяток убитых остается на месте кошмарного сна у потухающих головешек, на кучах золы. Остальные вскакивают с земли.
– Темпо! Шнеллер, шнеллер! Вег-вег! Швайне! – кричат конвоиры.
Кто не понял, того подымают пинком, ударом приклада, резиновой палкой и выстрелом…
Раненых везут на повозках изнемогающие раненые лошади. Крепких, нераненых лошадей немцы взяли в свои обозы. Санитарный обоз пленных выходит с утра в голове колонны, чтобы постепенно, в течение дня отставая, к вечеру оказаться в ее хвосте…
Когда проходят через деревни, пленные видят расстрелянных и повешенных «гражданских», одетых по-крестьянски и «по-городскому», иногда на дорогах рядом с трупами расстрелянных военнопленных, к которым уже привык глаз, у дороги в канавах лежат убитые женщины и дети…
– Бандитен! – пренебрежительно и даже с чувством удовлетворения пояснил конвоир пленным, заметив удивленные взгляды.
Кто же такие эти «бандиты»? Партизаны, которые не хотят отдать врагу свою землю? Может быть, так. Но зачем же убиты дети? Ведь это же именно дети! Ведь девочке не более двенадцати лет, мальчику – не более десяти… Зачем это немцам?! – таково было общее недоумение.
О гитлеровских зверствах писали в газетах. Но, может быть, это были отдельные патологические случаи? Нет!
«Так что же такое фашисты? – думал Баграмов. – В чьи же руки попал я вместе с тысячами бойцов?
Гитлеровцы умышленно и расчетливо взрастили целое поколение палачей. Коричневые блузы, выдуманные в мюнхенской пивнушке как форма «нацистов», были напялены на немецких парней в возрасте перехода от отрочества к юности, и эти форменки сыграли для их сознания роль деревянных колодок, которыми в течение столетий калечили ноги своих девочек китайские аристократы: человеческое сознание немецкого юношества остановилось в развитии, втиснутое в колодки нацизма – новой формы осатанелого от воинственности, нищего духом пруссачества.
Когда осатанелый от мании величия прусский лавочник ринулся покорять планету, катастрофически унизительная вивисекторская операция фашистов над молодыми немцами обнаружилась во всем ее обезьяньем безобразии: чувства человечности, понятия правды, справедливости, красоты – все это оказалось вытравлено из опустошенных душ нового поколения той самой нации, которая первой когда-то восстала против сумрака католицизма, которая когда-то родила великую философию и полную мысли поэзию, создала могучую музыку.
Все было растоптано и унижено в самой их стране. Сапогами фашистского низколобого орангутанга в погонах была попрана прежде всего сама Германия, сам немецкий народ, употребленный круппами, герингами и гиммлерами для унижения прочих народов.
Лишенные права черпать даже из книг своих, немецких писателей понятия о человечности, обязанные считать героем, достойным подражания, уже не Вильгельма Телля, а фашистского погромщика, уголовника Хорста Весселя, они потешались на занятых землях меткими выстрелами в кошек или в детей, не делая между ними различия и не будучи даже способными постигнуть умом это различие.
Поколение тупых недоучек фашисты приспособили для того, чтобы убивать или стоять с бичом над толпою рабов. Они даже не в состоянии понять, что вместе с этой растерзанной русской женщиной, с этими убитыми детьми лежит в дорожной грязи униженная Германия, пьяная от нацизма, превращенная в насильника и палача.
Придя домой, возвратясь к семье, этот Ганс или Руди не скажет ни матери, ни сестре, как он был унижен на службе у фюрера. Он скажет им, что воевал, и они поверят… А он просто палач, тупой, ничтожный мертвец, автомат с автоматом. И, может быть, кто-то дома о нем волнуется, плачет, не зная его позора… – думал Баграмов, глядя на этих конвойных солдат. – И вот эти полчища гнусных нигилистических карликов захватили нас в рабство! Да, эти будут стремиться нас всех уничтожить, особенно в тот момент, когда на них самих надвинется гибель…»
Однажды фашисты оказали пленникам «милость», разместив раненых на ночлег не так, как здоровых, под дождем и осенним ветром, а в громадном колхозном сарае, набитом сеном почти до крыши. Валившийся с ног после дневного марша Баграмов был счастлив, что на правах раненого его впустили в сухое и защищенное от леденящего ветра место.
Он забрался в дальний угол, под самую крышу, и начал рыть себе в сене яму. Он рыл ее половину ночи. Уже откопав «гнездо» в метр глубиною, Емельян сполз в него и продолжал, как крот, рыться глубже, добиваясь, чтобы, засыпанный сверху сеном, он мог вытерпеть, если по нему будут ходить ногами… Но тепло и усталость свалили его прежде, чем он завершил работу. Он позволил себе «чуть-чуть» отдохнуть и… уснул. Во сне все надежды его сбылись. Немцы ушли. Какая-то старушка пришла в сарай, принесла молока и хлеба, и Баграмов с жадностью ел и пил до тех пор, пока над ним не послышалась немецкая брань и тяжелый удар приклада пришелся ему меж лопаток… Баграмов открыл глаза. Солдат стоял рядом с его ямой и что-то кричал. Емельян не мог разобрать слов, кроме «зухен». [22]22
Искать.
[Закрыть]
– Цу кальт, постен! [23]23
Холодно, постовой.
[Закрыть]– пробормотал он, стараясь произнести спокойно и желая внушить солдату, что от холода он и спрятался в яму.
– Ja, es ist zu kalt, – мирно согласился солдат, – aber es ist Zeit zu marschieren. Los! Tempo! [24]24
Да, холодно, однако время идти. Пошел! Живо!
[Закрыть]– вдруг закричал он, ткнув Емельяна прикладом в бок.
Это наблюдали два пленных санитара, носивших тяжелораненых из сарая в повозку.
– Чудак ты! – сказал один. – Яму выкопал, а не зарылся! На том конце сарая двое раненых уже неделю живут. Как немцы уйдут, так женщины из деревни приходят, их кормят. Дня через два их взять обещают в деревню…
От этих слов Емельяна защемила тоска, словно он уже вырвался и вторично попал в плен. Как же он мог так заснуть и проспать возможность освобождения! Как можно это простить себе!
День начался как обычно: колонну построили по шесть человек в ряд, скомандовали «марш», и гигантское шествие потекло по дороге…
Над полями и лесом висел осенний густой туман. Емельян двигался, стремясь на ходу обрести машинальность, единый ритм на весь день. Его неотступно мучила все одна и та же картина – картина того, что могло бы произойти, если бы он не заснул, а достаточно глубоко и удачно зарылся в сено… Ёмельян уже нашел постоянный ритм в этом смертельном марше и, несмотря на хромоту, начал ощущать чувство инерции в движении рук и ног.
– Пора! – вдруг негромко скомандовал кто-то.
Сосед резко толкнул Емельяна локтем, чуть не сбив его с ног, вырвался из рядов, шагнул в сторону, оглянулся направо, налево, прыгнул через дорожный кювет и стремглав помчался во мглу… В ту же секунду он словно размножился: таким же движением метнулся второй, третий перескочил канаву… Вот их уже пять или шесть, уже десять бросилось веером, врассыпную. Первые двое исчезли, растворясь в тумане, когда спохватился ближайший конвойный открыть огонь им вдогонку. Двое последних беглецов в мутной мгле у молочной кромки тумана упали шагах в тридцати от дороги. Были ли они ранены, или убиты, или упали нарочно – кто знает!..
Опасаясь в такой туман отойти от колонны, солдаты не побежали осматривать их тела, и колонна прежним размеренно-медленным шагом ползла дальше, только все загудело в ней приглушенным, тревожным жужжанием…
Эта картина бегства из-под носа у фашистов стояла весь день перед глазами Баграмова. В однообразном движении по размокшей дороге перед ним, как видение, расстилался густой рассветный туман и уходящие в осеннюю седину отважные беглецы, через полсотни шагов тонущие во мгле…
Каждый такой мучительно медленный день тянулся как месяц. Одни и те же и снова такие же голые, нудные холмы Смоленщины – верблюжьи горбы земли – казались бесконечными среди одинаковых кустарников, мелколесья и неубранных полей льна. По сторонам дороги лежали мертвые, сгоревшие деревни, а впереди вставали снова те же холмы, те же горбы, по которым далеко-далеко на запад змеилась дорога рабства и смерти.
Глава семнадцатая
Ксению Владимировну разбудил, как всегда, звук позывных радиостанции имени Коминтерна. Десять знакомых, привычных нот.
Хотя в московских школах занятия в этом году так и не начинались, Ксения Владимировна не изменила многолетней размеренности своей учительской жизни. Она по-прежнему рано вставала и почти каждое утро шла в школу. Так легче было переносить одиночество, которое стало для нее особенно тяжким после внезапного визита Бурнина и последовавшего на другой день отъезда дочери.
Зина писала часто, подробно описывала свое устройство в общежитии в маленьком городке, который волей военной судьбы вынужден был вместить два крупных завода, отчего все постоянные жители почувствовали себя в тесноте…
В телеграмме, полученной только вчера, Зина молила мать не ждать больше, оставить Москву и немедленно выехать к ней. Значит, до них успели дойти слухи о том, какое тяжелое испытание, смятение душ и растерянность пережила дня три назад советская столица…
Надо будет сегодня же написать Зине трезвое, спокойное письмо о том, что Москва ей, москвичке, привычнее и ближе других городов, что после того, как заводы и часть учреждений и жителей эвакуировались, жизнь снова вошла в колею. Надо также сказать, что все-таки вскоре ожидается начало учебных занятий в школах и она будет нужна здесь ребятам, тем более что некоторые предприятия их района остались на месте, работают, и надо же детям не терять учебного года…
«Пора вставать», – сказала себе Ксения Владимировна, прослушав в постели утренние известия, в которых не было ничего нового и утешительного. Опасность, нависшая над Москвой, не рассеялась. Бои шли на прежних направлениях – Калинин, Можайск, Тула, Наро-Фоминск, и уже упоминались какие-то населенные пункты, обозначенные таинственными начальными буквами: «3», «С», «Г», «М»; весь алфавит был пущен в ход, но не давал никакого представления о действительности.
В комнате было холодно, неприютно. На улице пасмурно, и оттого рассвет наступал особенно медленно. За окнами лепился мокрый, тающий снег, несколько крепких, не сорванных ни холодами, ни ветром кленовых листков трепетали над самым окном.
Ксения Владимировна, привычно занимаясь уборкой комнаты, подумала, что у нее никак не доходят руки законопатить окна. Когда настанут морозы, то поздно будет. По счастью, ни одно стекло не лопнуло от бомбежки в их стареньком домике. Видимо, от взрывной волны защищали его соседние высокие дома – ишь там сколько стекол заменено фанерой, а то и вовсе покинутые жильцами квартиры стоят без стекол.
Когда вскипел чайник, встряхнула примус. Не много в нем керосина. Подозрительно тронула жестяной жбан; тоже на донце. Значит, надо еще наведаться и в нефтелавку. Живешь одна, а какие-то мелочи все-таки остаются…
Чай был слабостью Ксении Владимировны. Стакан крепкого чая всегда давал утреннюю зарядку. Это была привычка Балашова – пить с утра крепкий чай, и Ксения Владимировна давно освоила и сохранила эту привычку. В течение последних недель, ожидая приезда мужа, она припасла чай разных сортов, берегла его, расходуя скупо и бережно на себя. Но сегодня, по поводу скверной и неприятной погоды, решила с утра подбодриться и разогреться крепким…
По крылечку протопотали привычные поутру шаги почтальонши, стукнула жестяная крышка дверного ящика.
Ксения Владимировна нетерпеливо открыла его. Только газета. Последние известия были уже прослушаны по радио.
На остальное могло быть уделено не более десяти минут. Пробежать глазами по заголовкам… Да, видимо, положение остается пока все то же…
Она разложила бумагу. Именно то, что положение оставалось прежним, нелегким, понуждало не откладывая написать Зине спокойное, убедительное письмо. Опережая себя на день, можно сказать, что заклеила на зиму окна, натопила печку и блаженствует на диванчике с книжкой, слушая, как поскрипывает будильник, или что-нибудь в этом роде…
Но она не успела начать письма, как раздался телефонный звонок.
– Ксения Владимировна, родная! – послышался знакомый ласковый голос учительницы географии. – Я должна сегодня дежурить в школе, но приехал зять с фронта в командировку на сутки и только сию минуту вошел. Вам ведь там рядом. Уж вы отдежурьте сегодня, пожалуйста, за меня. А я – в другой раз.
Это был уже не первый случай. Все в коллективе помнили, что она живет ближе других к школе, и все просили ее подежурить, с обещанием заменить ее в другой раз.
Ксения Владимировна не роптала, хотя никто потом за нее не дежурил «в другой раз», да она и не напоминала об этом. Ей и самой было лучше в школе, чем дома одной.
Так и теперь она сразу согласилась. «Ну как же, раз с фронта приехал, конечно!» – сказала она и собралась в школу, оставив на видном месте бумагу, приготовленную для письма Зине, чтобы уже не откладывать по возвращении.
Поеживаясь под мокрым снегом в демисезонном пальто, на улице она увидала несколько групп, в различных направлениях марширующих по мостовой, людей разного возраста, проходивших военное обучение. Каждый в своем гражданском одеянии, в ватниках и разношерстных пальто, в шапках, шляпах и кепках, они напоминали семнадцатый год, красногвардейцев… Среди них, как каланча, возвышался одетый в капитанскую форму сослуживец Ксении Владимировны, школьный преподаватель физкультуры Капитон Селифаныч, которого ребята издавна переименовали в капитана Василь Иваныча. Вот и в самом деле стал Капитон капитаном… На голову ниже его ростом окружали его младшие командиры, а вокруг них, задрав кверху головы, толпились любопытные ребятишки.
Картинка была комичной, и Ксения Владимировна про себя улыбнулась, хотя опять засосала ее сердце тревога о том, что мало, мало все они, педагоги, делают для ребят. Им в это сырое осеннее утро сидеть бы за партами, а они, как какие-то беспризорные воробышки, стайкой прыгают тут по мостовой, развлекаясь шагистикой, которой заняты взрослые.
Ноги моментально оказались промокшими. Надо ботинки отдать в ремонт, хоть резиновые подметки подбить, но сегодня с этим сверхурочным дежурством, конечно, не успеть в мастерскую…
Сокращая путь к школе, Ксения Владимировна нырнула в ребячий лаз, давным-давно проделанный в школьном заборе. Раньше здесь не хватало одной доски. Теперь уже не было четырех, а в стороне еще оказалось оторвано штуки три.
«Начали уж растаскивать на дрова! Так до весны не останется никакой ограды, а когда-то потом еще поставят этот забор!» – сокрушенно подумала она.
– Не снимайте пальта. Отряхните от сырости, пусть обсохнет на вас, а так-то замерзнете там, – посоветовала уборщица-«нянечка». Так было всегда смешно, когда усатые дылдушки с нарождающимся баском продолжали по многолетней привычке произносить это нежное слово «нянечка»…
И вот уже их нет почти никого… Только один «очкарик-бондарик» – Сеня Бондарин, близорукий длинноногий парень, остался от прошлого выпуска, числился старшим вожатым и приходил на дежурства с утра до вечера ежедневно. Его не взяли в армию из-за близорукости, а почти все остальные отправлены либо в военные училища, либо на фронт. О некоторых из них Ксения Владимировна помогала их матерям наводить справки. Многие как-то с первых же дней оказались в «пропавших». Где? Как? Почему?
Сеня Бондарин уже был в учительской и усердно читал газету. Навстречу Ксении Владимировне он поднялся с места.
– Сегодня должна дежурить Софья Петровна, – сказал он.
– У Софьи Петровны дела, Сеня. Она меня попросила.
Сеня что-то невнятно пробормотал.
– Ты что, недоволен? Что ворчишь? – спросила Ксения Владимировна.
– А вы знаете, Ксения Владимировна, как вас ребята зовут? «Безотказная душа». Вот вы и есть безотказная. Это самое я себе и проворчал. Уж вы извините…
– Ладно, Сенечка, извиняю. А ты вот скажи – беспризорность школьных ребят пионерского возраста как-то должна касаться вожатого? – спросила она.
– А… а как же! – даже запнувшись, воскликнул Бондарин. – Да кто же у нас беспризорный?
– Пролезь через ту дыру, – сказала Ксения Владимировна, в окно учительской указав на худой забор, – пройди в переулок и посмотри…
– Они там на обучение смотрят. Я видел.
– И находишь нормальным?
– Я, Ксения Владимировна, вообще не нахожу, что война – нормально. Людям нужна жизнь без войны, работа, ребятам – учеба. А что я сделаю? Созову ребят в школу играть в «испорченный телефон», во «флажок»?.. Они не п… пойдут. Им там интереснее. В футбол – сезон не тот… – Сеня угрюмо помолчал, просматривая газету, но, видно, не мог читать и снова заговорил с досадой и болью: – Во… вообще я совсем не хочу быть фиктивной личностью… фиктивный-дефективный какой-то! В армию меня не берут, вожатому нечего делать. Околачиваюсь тут в придурках, а райком комсомола ничего придумать не может с ребятами… Лучше я на завод куда-нибудь, что ли! Девятиклассники вон, девчонки, разряды уж получают, по третьему, по четвертому получили… А я?
– Выходит, что ты меня отчитал! – сказала Ксения Владимировна. – Райком не придумал, так, может быть, мы с тобой и должны райкому помочь. Я помню, что в восемнадцатом, в девятнадцатом школы работали…
– Да ведь теперь и ребят не так много осталось! – сказал Сеня. – Работать пошли человек пятнадцать из старших. Рабочие карточки получают и носы уж задрали, в школу совсем перестали ходить. А мелюзга – это верно, как беспризорники бегают.
– А все-таки жмутся ведь к школе! Что ни день, забегают…
Да, они забегали. Бывшие девятиклассники, не успевшие посидеть в десятых классах, уже работали на заводе и на окопных работах и заходили реже. Они почти все подали в районный военкомат заявления, что хотят идти на фронт добровольцами, но им указали объект ПВО – их школу, и они несли охрану ее; по воздушной тревоге сбегались сюда, неся дежурства на чердаке и на крыше.
Эти недавние озорники и завзятые тайные курильщики повзрослели, и учились, орудуя щипцами, топить фашистские «зажигалки» в бочках с водой, завидуя тем, кто во время первых бомбардировок Москвы удачно открыл боевой счет погашенных бомб. Они мечтали установить на крыше школы зенитный пулемет, но вражеских самолетов, прорывавшихся до самой Москвы, становилось все меньше.
Однажды, дней десять назад, со школьной крыши пост ПВО заметил предательскую ракету, пущенную из Нескучного сада в направлении завода. Ребята смело кинулись на поиски вражеского агента и отважно помогали ловить его, прочесывая кусты. Они знали свой парк – место игр, прогулок и первых романтических вздохов. Враг был схвачен…
Школа получила через два дня благодарность от командования воинской части за воспитание отважных патриотов. Ксения Владимировна, замещавшая с этих дней только что мобилизованного директора, с гордой радостью, растроганная, прочла им вслух эту официальную бумагу, а затем вывесила ее под стеклом на видное место. И родители, в большинстве рабочие соседнего большого завода, с такой же гордостью читали эту бумагу, приходя специально для этого в школу…
Иногда райком комсомола вызывал троих-четверых комсомольцев. В последние напряженные дни, когда газеты выходили с призывом: «Все на защиту Москвы!», комсомольцы ожидали, что получат боевое задание, все были готовы на подвиг… Но дело кончалось тем, что нужно было поработать несколько дней в заводских яслях, разнести повестки на срочный пленум райкома или распространить санитарно-просветительные листовки.
– Какую же я могу затеять работу, Ксения Владимировна! – продолжал Сеня. – Либо учебные занятия надо начать, либо серьезное дело ребятам в руки… Взрослые вон и то в Москве без работы многие ходят. В райкоме сказали, что старших на заготовки дров с шестнадцати лет могут послать. Я тоже просил, чтобы меня хоть на заготовки.
– Схожу-ка сама я, Сеня, в РОНО. Старших могут послать, а у нас с тобой на руках останутся малыши. Подумаем. Нечего им по улицам бегать, – сказала Ксения Владимировна.
Сеня неопределенно и скептически фыркнул, чего не позволил бы себе с другим педагогом. Но ведь Ксения Владимировна была своя, совершенно своя!..
Ребята привыкли видеть в школе чаще других педагогов именно Ксению Владимировну. К ней бежали с последней радиосводкой, ей рассказывали о письмах с фронта, о радостном и печальном: о полученных старшими братьями и отцами медалях и орденах, о похоронных извещениях. А из этих старших иные помнились Ксении Владимировне еще в облике вихрастых юнцов, стоявших, казалось, еще так недавно у классной доски…
Были и другие письма. После длительного молчания, после настоятельных справок и поисков вдруг приходило неопределенное сообщение: «Пропал без вести»…
Может, и жив, в партизанском отряде, или, отрезанный от своих, израненный, обессиленный, умирает в темной, промозглой землянке, боясь даже выползти и позвать на помощь, чтобы не попасть в руки фашистов. Никто не будет свидетелем его смерти, но никто не видел его и в живых. Он исчез! Может быть, его разорвало прямым попаданием снаряда, может быть, он засыпан землею, сгорел, утонул…
Жены и матери этих пропавших без вести встретились – и не раз – у окошка, где подавали заявления о розысках, они уже знают друг друга и с радостью вдруг узнают, что кто-то «пропавший» оказался в тыловом госпитале, нашелся!
И снова отчаяние сменяется зыбкой надеждой…
В течение долгих лет Балашов был для Ксении Владимировны тоже «пропавшим без вести», казалось – пропавшим навек… И вдруг война его вырвала из безвестности, но неужели же он появился лишь для того, чтобы снова исчезнуть?..
За этот последний месяц все тревоги ее удесятерились, теперь уже за двоих – за Петра и Ивана…
По многу раз в день она заглядывала в почтовый ящик. Иногда, оставляя школу, спешила на несколько минут к себе на квартиру, лишь для того, чтобы проверить, не принесла ли чего-нибудь почта, и снова шла в школу. Среди детей ей все-таки было легче…
– Ксения Владимировна, пакет! Ксения Владимировна, пакет! Ксения Владимировна, пакет! – кричал на ходу мелкорослый, курносый мальчишка, вбежав в учительскую. Он без спросу распахнул половинку окна и, высунув голову, закричал во двор: – Сюда давайте, сюда! Тут она, тут!
Ксения Владимировна побелела, поднялась с места, но не могла сделать шага навстречу решительной девушке в военной шинели и пилотке, с петлицами сержанта, которая подала пакет и указала пальцем, где расписаться.
Ксения Владимировна не видала, как она вышла, не заметила и того, как исчезли из учительской Бондарин и маленький мальчуган, вбежавший с таким криком.
Глядя на крупный, официального вида пакет, на котором были четко написаны ее домашний адрес, фамилия, имя и отчество, она заметила, словно глазом постороннего наблюдателя, что пакет дрожит в ее пальцах. Взяла ножницы и, выигрывая секунды на этой операции, чтобы собрался с духом, аккуратно разрезала край пакета. Бумага извещала, что муж ее, генерал-майор Петр Николаевич Балашов, ранен и находится на излечении в госпитале. Для получения прочих сведений ей предлагалось прибыть по указанному адресу и в указанные часы, имея на руках свои личные документы.
На несколько мгновений она была ошарашена и замерла, глядя прямо перед собою в окно и ничего не видя, потом вскочила, стала бесцельно перебирать какие-то лежавшие на столе бумаги, взяла телефонную трубку и не могла вспомнить нужный номер, по которому ежедневно звонила… Пришлось его разыскать по списку. Наконец она позвонила завучу школы, прося его приехать, сменить ее на дежурстве.
– Получила вызов из военного комиссариата, – сказала она, в волнении и поспешности не в силах ему объяснить, в чем дело.
Она выбежала на улицу без шляпы, в распахнутом демисезонном пальто, не чувствуя резкого ветра и влажного тумана, оседавшего над городом, не замечая сама, как расталкивала людей, чтобы вскочить в трамвай…
Она едва успела попасть в назначенные часы. Трамвай, вагоны метро, мокрый асфальт под ногами… Окошко… Она подала пакет, паспорт. Окошко захлопнулось.
В первый раз в жизни в официальной бумаге он был назван ее мужем. «Только бы не в последний!» – с каким-то суеверным опасением подумала она, ожидая перед окошком.
Вот и пропуск. Адрес. Все предусмотрено. Но часы…
– Справки – по телефону. Звонить туда можно с семи утра. Сегодня вы уже опоздали…
Ждать в бездействии до семи утра?! Этого она не могла!







