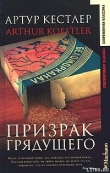Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 53 страниц)
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ЧУВСТВО отчужденности, охватившее Жаботинского летом 1913 года в Вене, не было для него новым. Уже несколько лет на него волнами накатывали беспокойство и ощущение безнадежности. Сознательно уйдя с вершины достижений и успехов в русской литературе и посвятив себя и свой талант служению еврейскому народу, он обнаружил засушливость и бесплодность окружения. Российскую сионистскую организацию пронизывал дух отвлеченного теоретизирования. Характерным примером может быть отношение к движению за ивритские школы. Когда Жаботинский, не попавший на киевскую конференцию, прислал обращение с призывом принять единственное решение – организовать ивритские школы, – оно так и не было оглашено: Менахем Усышкин, бывший его адресатом, при чтении опустил это ключевое предложение. Усышкин, по собственному признанию, счел «предложение непрактичным». В самой Палестине сионизм был активным, созидательным насколько возможно, в России же казалось, «будто и не существовало других задач, кроме выработки формулировок и отношений по каждому важному вопросу и ничего более».
В статье о еврейском национальном движении, написанной им по предложению издателя газеты "Русская мысль" Петра Струве он упоминает "эту странную болезнь: много размышлений и парализованные руки". "В то время, – писал Жаботинский, – была опубликована важная работа по национальным движениям среди народов России под редакцией Кастелянского, и я отметил характерный факт: в главе об эстонском движении было указано, сколько открыто этнических школ; в главе же о евреях, написанной Дубновым, обсуждались восемь еврейских политических партий. Программа для меня ничего не значит, если нет действия. Действие независимо от успеха – неудача – тоже шаг вперед".
Этим глубоким чувством неудовлетворенности объясняется его неучастие в Десятом сионистском конгрессе в 1911 году и отчуждение даже от "Рассвета". К этому времени он, по-видимому, начал понимать, какая судьба ему уготована. После смерти Жаботинского один из самых его ярых оппонентов в Штатах, Абрам Гольдберг, назвал его "орлом в клетке". Осенью 1912 года, в самый пик его кампании за иврит, в Санкт-Петербург приехал Шехтман. Описывая свою стычку с сионистским движением, Жаботинский "с вызовом настаивал, что его единственное "преступление" заключается в том, что он выдвигает свои "сумасшедшие идеи" всего лишь за пять минут до того, как все прозревают".
Впрочем, Венский же конгресс и вывел его из состояния отчаяние. Конгресс принял решение об основании в Иерусалиме Еврейского университета. Это решение предоставило ему новое, наиболее близкое его натуре поле деятельности. По прошествии времени оно же привело его к конфликту с Хаимом Вейцманом.
Хотя сама суть конфликта с началом Первой мировой войны отошла на второй план, в нем содержались элементы и признаки, предопределившие взаимоотношения, впоследствии сложившиеся между ними, доминировавшие на сионистской арене много лет и длившиеся до конца жизни Жаботинского и после его кончины.
Мысль о создании Еврейского университета в Иерусалиме витала в сионистских кругах много лет. Вейцман был ее главным защитником с 1901 года. Он убеждал конгресс в том, что такой университет остро необходим и как учебное заведение для евреев, которым недоступны университеты из-за антисемитских правил, и как мера по предотвращению ассимиляции. Предложение было утверждено (без особого энтузиазма), но развития не получило. С приближением Одиннадцатого конгресса Вейцман решил, что созрели условия для возобновления усилий. Время не облегчило, а скорее усугубило тяжелое положение еврейской молодежи в России. Еврею было практически невозможно поступить в университет, что вызвало эпидемию крещения среди еврейской молодежи. Жаботинский писал об этом в своей уничижительной статье "Я не верю" в 1910 году[155]155
Шехтман, том I, стр. 189.
[Закрыть].
Культурные, общественные и даже политические последствия такого положения вырисовывались все отчетливей.
Вопрос, как стало ясно большинству, мог разрешиться только путем создания еврейского университета. Даже некоторые ведущие ассимиляторы России Максим Винавер, Генри Слиозберг и другие начали в тот период обсуждать учреждение еврейского университета в Европе.
Вейцман предпринял подготовку своего предложения с энергией и тщательностью. Он обратился ко многим источникам за данными о положении еврейских студентов в разных странах, о предполагаемой стоимости здания и содержания этого, поначалу скромного университета. В основу расчетов легли данные ректоров Университета Св. Джозефа и Сирийского протестантского колледжа в Бейруте, снабдивших Вейцмана и другими сведениями, относящимися к этой проблеме, например, правилами приема, расчетами расходов на строительство и проектами бюджета.
Он давно решил, какое отделение будет открыто первым. В его письме к Усышкину в Одессу 25 марта 1913 года говорится:
"Было бы хорошо начать с медицинского факультета с полагающимися для него естественными науками, требуемыми для врачей: физикой, химией, зоологией, ботаникой, физиологией, анатомией и т. п… Другой важный факультет – философский, с отделением востоковедения и иудаики, факультет права и политических наук…"
Вейцман подчеркивал важность прощупывания почвы для "такого грандиозного проекта" прежде всего среди русского еврейства. Он говорил, что "западноевропейские состоятельные люди скорее всего заявят: "Если это заведение так уж необходимо российским евреям, что они готовы для этого предпринять?"
Кроме того, в течение всего времени ему постоянно приходилось выслушивать альтернативные предложения относительно того, какие факультеты должны быть открыты первыми. В характерном для того периода письме Дж. Л. Магнесу в Нью-Йорк 3 декабря 1914 года Вейцман защищает идею медицинского факультета "с естественными науками, требующимися медицине".
Он писал, что это имеет "огромное практическое значение для страны: это частично удовлетворит нужды российского еврейства и укрепит наше влияние в Палестине". Что касается стоимости проекта, то при существующей поддержке ее вполне можно будет покрыть.
"За 200.000 фунтов, – писал он, – мы получим хорошую школу по медицине и естественным наукам и заложим фундамент для еврейского отделения".
Так же оптимистично к финансовым перспективам отнесся Жаботинский. Он присоединился к кампании только после решения, принятого в сентябре Одиннадцатым конгрессом. Участники конгресса горячо приветствовали доклад Вейцмана, утвердив единогласной резолюцией необходимость основания в Иерусалиме Еврейского университета с факультетами медицины, права и политических наук[156]156
Письма Вейцмана, том 6, стр. 24, Комитету по текущим делам, 15 апреля 1913 года.
[Закрыть].
Конгресс уполномочил Исполнительный комитет создать комиссию по подготовке плана, а в ноябре 1913 года была сформирована рабочая группа, состоявшая из пяти членов Комитета по внутренним делам и Вейцмана, Жаботинского, Усышкина и Вольфсона.
Исполнительный Комитет также утвердил специальную группу по работе в России, со штабом в Санкт-Петербурге и под руководством Шехтмана. Жаботинский окунулся в работу с неутомимой преданностью делу. В поездках из города в город он проверял реакцию еврейских общин, и, как писал Вейцману 24 февраля 1914 года, эта реакция подтвердила то, "что мы знали наперед". Даже наиболее ассимилированные евреи "приветствовали идею университета в Иерусалиме, поскольку это не представляло проблему
теоретическую и затрагивало само будущее еврейской молодежи [157]157
Рабочей группе по вопросу об университете, 11 мая 1914 года.
[Закрыть]. Жаботинский не ограничился пропагандированием этой идеи в России, а последовал примеру Вейцмана. Он собрал информацию о студентах-евреях в разных странах: их численность, место рождения, изучаемые предметы, средний бюджет в их распоряжении, существующие ограничения на иностранных студентов.
Он повсеместно направил запросы об этом представителям сионистской организации, проехал по большинству западноевропейских стран: Бельгии, Голландии, Германии, Швейцарии и Италии – и проанализировал бюджеты одиннадцати университетов. Необходимая сумма, установленная им, почти полностью совпала с расчетами Вейцмана. Для строительства требовалось 5 миллионов французских франков (около 200.000 фунтов), а годовой бюджет исчислялся миллионом франков.
Поскольку Вейцман в своих обращениях к Исполнительному комитету настаивал на необходимости представить конгрессу "зрелый и экономный проект"[158]158
Рабочей группе, 25 февраля 1914 года.
[Закрыть], Жаботинский утверждал, что было бы абсурдно поверить в возможность открытия с самого начала «первосортного университета по европейским стандартам». «Первое поколение преподавателей, – писал он, – составляли бы деятельные, но скромные педагоги (за некоторыми блестящими исключениями), – в большинстве своем молодые люди, впоследствии могущие раскрыться как талантливые педагоги и исследователи, но пришедшие к нам без великих репутаций»[159]159
Еврейская община в Палестине.
[Закрыть].
Он и Вейцман единогласно определили последовательность открытия различных отделений. Оба мечтали прежде всего о медицинском факультете. Медицина интересовала по меньшей мере 80 % еврейской молодежи Восточной Европы, и многие в России поддержали бы фонд уже по этой причине. Затем он так же планировал, что за медицинским последует философский факультет. Его выбор на третье место был иным, чем выбор Вейцмана: он предпочитал коммерческий факультет. Немаловажно, что, помимо неоспоримого значения такого отделения для экономического развития, он был заинтересован в привлечении евреев Востока, "где бизнес попрежнему остается основным занятием"[160]160
Письма Вейцмана, том 6, стр. 192, Магнусу, 12 января 1914 года.
[Закрыть].
Жаботинский решил, что университет может открыться осенью 1917 года, через три с половиной года. Вейцман рассчитывал на 4–5 лет до открытия.
Но уже на протяжении всей весны 1914 года Жаботинский занимался разработкой проектов и их защитой от жестоких нападок Вейцмана. Что же стало причиной внезапного конфликта?
Вейцман изменил свою позицию почти в одночасье. Он решил, что планы по образовательному университету следует отложить, а создать научно-исследовательский институт. Его убедил в этом барон Эдмон Ротшильд – обожаемый, легендарный "отец поселенцев"[161]161
К Магнусу, стр. 213, 23 января 1914 года.
[Закрыть], который хотя и сторонился политического сионистского движения, основывал и уже тридцать лет поддерживал сеть еврейских аграрных общин посредством своей организации PICA (Palestine Jewish Colonisation Association, в период обсуждений планов открытия еврейского университета – ICА, Jewish Colonisation Association. – Прим. переводчика). Осенью и зимой 1913 года Вейцман упорно добивался аудиенции у барона. Когда при содействии секретаря барона Гастона Уомзера аудиенция состоялась, барон представил собственный план.
"Его мысль, – писал Вейцман, – что-то вроде Института Рокфеллера или Луи Пастера, где 30–40 талантливых исследователей вели бы исследования, публиковали работы из Иерусалима и постепенно привлекали студентов, формируя затем университет". Относительно затрат барон согласился – предприятие дорогое, – но посчитал, что при этом возможен соответствующий годовой доход в 300 – 400 тысяч франков (12.000 – 16.000 фунтов).
"Хотя это и не моя идея, – продолжал Вейцман, – и господин Уомзер с ней тоже не вполне согласен, мы все же считаем, что участие барона представляет ценность и в целях его обеспечения лучше всего следовать этому совету"[162]162
Письма Вейцмана, т. 6, стр. 284 – 289, 28 марта – 3 апреля 1914 года.
[Закрыть]. За первым сообщением Магнесу через одиннадцать дней последовало частное письмо. В нем Вейцман восторженно отзывается о плане барона: "Я считаю проект Ротшильда попросту великолепным. Подумайте только: нам удастся организовать эдакий институт Пастера или Рокфеллера в миниатюре, с 20–25 способными учеными, разрабатывающими различные отрасли: биологию, химию, физику, бактериологию, иммунологию и т. п. Они издают свой журнал, постепенно подбирают библиотеку, завоевывают для себя имя, их достижения становятся очень важны в практических вопросах общественного здравоохранения… После того, как подобное учреждение просуществует первые пять лет, нам надо будет лишь отогнуть занавеску, внести некоторые дополнения и объявить, что мы принимаем студентов, – возникает университет”[163]163
П.В., стр. 300, к Комитету по текущим делам, 13 апреля 1914 года.
[Закрыть].
Ко времени заседания Исполнительного комитета в Берлине Вейцман обеспечил его согласие на создание исследовательского института, но с условием, что институт послужит основой для университета.
Этот компромисс был представлен барону и вызвал решительный отказ. Ротшильд заявил, что не просто возражает против университета в принципе, но "не хочет и слышать о нем и не желает считать институт эмбрионом университета". Более того, прежде чем взяться за финансирование, он потребовал подробный бюджет для строительства и содержания отделений и лабораторий исследовательского центра.
Таким образом, Вейцман был вынужден лихорадочно взывать к разным источникам для выяснения необходимых данных – как годом ранее при разработке плана университета[164]164
Цитата из письма Вейцману, 20 апреля 1914 года.
[Закрыть].
В конечном счете в результате красноречивых доводов Вейцмана барон пошел на попятный и, по-прежнему не желая говорить ни о каком здании, согласился, что в официальное оглашение проекта сионистской организации будет внесена поправка: "…в интересах Палестины мы начинаем с организации исследовательского института, но надеемся на полное завершение проекта"[165]165
Вейцману, 20 апреля 1914 года.
[Закрыть].
дущего университета, причем это должно было выразиться в устройстве и в имени. Вейцман сформулировал как в Парижском университете – факультет медицины. Вместо того нас заставят совершенно спрятать идею университета под ничего не говорящей фразой… За бароном остается право дезавуировать нас, а при его настроениях, как изобразил их Вейцман, он это и сделает при первой возмущенной статье в антисемитской газете Палестины или Парижа. Понятно, что раз есть опасность дезавуирования, то мы вообще уже не можем пользоваться именем барона для пропаганды университета. Тогда вся эта история теряет ценность. Барон не даст и не обещает миллионов – все дело было в его имени; раз нет имени, зачем весь шиддух? ("шиддух" – сватовство, организованное супружество. – Прим. переводчика).
С другой стороны, вред огромный. Ведь скажут, что мы деньги, собираемые на университет, тратим на вещь, которая ничего общего не имеет с университетом. Это недопустимо. Учебное заведение есть одно, научное учреждение – другое; евреям нужно первое, на второе они не дадут ни копейки, по крайней мере в России. Если сказать им, что из второго "естественно разовьется" первое, то они расхохочутся. Выжидать "естественного развития" может Ротшильд, но не мы; это значит отодвинуть дело в глубину десятилетий, лишить его актуальности в глазах тех широких и богатых несионистских кругов, для которых вся ценность идеи в ее актуальности. Отодвиньте ее ad calendas graecas – вы и деньги получите тогда же. Институты – прекрасная вещь, но при условиях:
1. Формы университета.
2. Главной задачи – разработать терминологию и подготовить еврейских доцентов.
Отступить от этих условий – значит забросить идею университета.
В одном отношении барон прав: проект Вейцмана слишком дорог.
2.200.000 франков на устройство и 100.000 ежегодно – это почти стоимость скромного, но настоящего университета. Что же за смысл в этой исходной уступке, если она не дешевле?.. Притом барон даст не 350 тысяч, а 150 тысяч в год. Неужели остальные 450 тысяч мы дадим из пожертвований, собираемых на университет? Это чудовищно. Вообще не вполне понимаю, почему барон необходим. Конечно, его участие было бы ценно, но необходимость?.."[166]166
Письма Вейцмана, том 6, стр. 315, к Шмариягу Левину, 29 апреля 1914 года.
[Закрыть].
Жаботинский отправил копию Вейцману и уведомил его, что у него есть встречный план, который он представит Рабочему комитету. Его сутью было следующее:
"1…постановить и объявить, что в сентябре 1917 года, после XIII Конгресса, в Иерусалиме открывается обучение на медицинском, философском и коммерческом факультетах.
2…поручить Вейцману заняться организацией научных сил, но не типа Эрлиха, а типа будущих наших доцентов: людей скромных, но толковых в науках и маракующих по-еврейски… Если мы на их субсидии наскребем 100.000 франков в год, это будут не выброшенные деньги, и все на это охотно согласятся.
3. Далее, Вейцману [предложить]: приготовить такие-то книги по химии, по гистологии, по товароведению, истории, философии… На XIII Конгрессе будет фигурировать весь книжный шкаф, pour épater les bourgeois, и 36 профессоров будут демонстрироваться в первой ложе налево и направо от сцены.
4. Барону мы предложим следующее: если он согласен дать нам часть денег на постройку лабораторий и вносить ежегодно столько же, то мы согласны, чтобы эти лаборатории были пока использованы в качестве "Instituts de recherches". В заключение Жаботинский извиняется, что "принял юмористический тон. Я настроен совершенно серьезно". Он завершает письмо: "нежный привет тебе и твоей жене" и "обнимаю тебя"[167]167
Там же, стр. 311, Ахад-ха-'Аму, 26 апреля 1914 года.
[Закрыть].
Это письмо, с его конкретной и точно направленной критикой, хоть и завуалированной к концу более легким тоном, вызвало резкую и поистине презрительную реакцию Вейцмана, отразившуюся и в частных письмах, и в письме Комитету по текущим делам.
В частных письмах он характеризует письмо Жаботинского как "безответственное"[168]168
Там же, стр. 316, Исаку Страуссу, 29 апреля 1914 года.
[Закрыть], «легкомысленное»[169]169
Там же, стр. 310, 26 апреля 1914 года.
[Закрыть] и даже как «дикую журналистскую утку». Он добавляет: «Русские настроения и существующее бедственное положение там слишком на всех влияют»[170]170
Жаботинский Комитету, 18 мая 1914 года.
[Закрыть].
В письме Комитету по текущим делам он пишет: "Жаботинский и другие русские друзья… хотят университет немедленно. Университет Жаботинского есть проект по реализации этого… Господа обосновывают свою оппозицию существующему проекту, представленному мной, русскими настроениями. Они хотят учебное заведение немедленно, поскольку в России существует срочная в нем нужда. Я решительно подчеркиваю, что это опасная, смертоносная позиция"[171]171
Письма Вейцмана, т. 6, стр. 26, Ахад-ха-'Аму, 16 апреля 1913 года.
[Закрыть].
Он методично обливает презрением и сарказмом отдельно каждый довод в письме Жаботинского и все составляющие "проекта Жаботинского".
Отвечая Комитету по текущим делам на это письмо, Жаботинский хладнокровно продолжает обсуждать суть вопроса. Он доказывает, что отнюдь не отметает идею об исследовательском институте огульно. "Я настаиваю на том, чтобы институты (исследовательские. – Прим. переводчика) недвумысленно находились под эгидой университета. Если же это окажется невозможным, нам следует установить четкое разделение в сборе фондов; сбор на университет и сбор на исследовательские институты"[172]172
Письма Вейцмана, том VI, стр. 291, к Комитету по текущим делам.
[Закрыть]. Полностью игнорируя воинствующий и презрительный тон вейцмановского письма, Жаботинский демонстративно не вспоминает, что отвергаемые Вейцманом соображения ничем не отличаются от тех, которые сам же Вейцман энергично распространял до встречи с бароном.
Проект Жаботинского был по сути идентичен кампании Вейцмана, проведенной в сотнях писем и митингов в течение 1913 года; Вейцман тогда был апологетом замысла о "скромном" университете как практическом проекте, осуществимом в течение 4–5 лет; опять и опять ссылался он на "русскую необходимость", подчеркивая, что вопрос с университетом должен рассматриваться с "наших позиций, и с позиций еврейских страданий"[173]173
Письма Вейцмана, том VI, стр. 323, 8 мая 1914 года.
[Закрыть].
Действительно, во время второй встречи с бароном Вейцман привел аргументы, очень похожие на использованные Жаботинским. "Я сказал барону, что мы не приемлем эту формулировку (относившуюся только к исследовательскому институту, без упоминания университета. – Прим. переводчика), что мы не получим ни гроша для исследовательского института. Ничего не помогало… Наконец я сказал барону, что у нас нет права лишать тысячи наших молодых людей, надеявшихся на университет, этой надежды, что сотни пошли на крещение, не видя никакого просвета, и будут в отчаянии, что несмотря на опасность быть непонятыми в Турции, мы все же обязаны сохранить идею об университете, и т. д. и т. п."[174]174
Хайм Вейцман: «Trial and Error» (Лондон, 1949), стр. 179.
[Закрыть].
Когда Комитет по текущим делам информировал Вейцмана, что копия его грубого письма отправлена Жаботинскому, он пришел в ужас. Он в письменном виде "умолял" его не обращать внимания на форму письма. Оно было написано "под бременем волнений, переживаемых мной…"[175]175
Повесть моих дней. Проект университета был отложен во время войны, но в 1925 году исследовательская лаборатория была организована на горе Скопус. Реакция Жаботинского будет описана ниже.
[Закрыть].
Любопытным комментарием к этому поучительному эпизоду служит описание, приведенное Вейцманом в автобиографии. Воспроизводя в ней свои переговоры с бароном Эдмоном Ротшильдом, он даже не упоминает кардинального пункта его требований об исследовательском институте. Вейцман пишет: "Он проявил себя диктатором, обладая, как все богатые люди, очень определенными взглядами на тему абсолютно вне его компетенции. Он придерживался мнения, что Еврейский университет должен быть посвящен целиком гуманитарным предметам, поскольку никогда не сможет быть конкурентом научным школам Англии, Франции и Германии… Я посчитал его мнение довольно абсурдным, для меня университет остается университетом. И все же я получил его поддержку для замысла в целом"[176]176
Автобиография, стр. 89.
[Закрыть].
Жаботинский, как и обещал, представил свой проект в следующем месяце Рабочему комитету, и Комитету по общим делам (7 июня 1914 года). Большинство голосов получил Вейцман. Тридцать лет спустя Жаботинский писал с застарелой горечью: "Опять старая история: вместо решительного революционного шага – игрушки"[177]177
В «Одесских новостях».
[Закрыть].
* * *
В то лето он вновь оказался на распутье, ощутил неуверенность и отсутствие почвы под ногами: "Нить оказалась оборвана, завершилась эра, у которой не оказалось продолжения. Если мне хотелось жизни, следовало родиться вновь. Мне было тридцать четыре года; прожив половину зрелых лет и оставив молодость позади, я растратил и то, и другое". Такова была утрированная самооценка деятельности, сделавшей Жаботинского кумиром всего сионистского движения России и самым устрашающим врагом ассимиляторов. Его успехи на литературном поприще оставались несравненными по своему блеску и разнообразию и повсеместно признанными как евреями, так и неевреями. Его пессимистическое высказывание можно понять лишь как выражение мимолетного сожаления об уходе с литературного Олимпа в тяжелую реальность сионистской деятельности, где он поистине испытывал трудности пророка, опередившего свое время.
Недели неуверенности истекли быстро.
"Не знаю, что бы я предпринял, – писал он почти тридцать лет спустя, – если бы мир не перевернулся с ног на голову и не забросил меня на непредвиденные пути. Может быть, я поселился бы в земле Израиля, или бежал в Рим, или создал политическую партию. Но тем летом разразилась Мировая война"[178]178
Сипур Ямай. Здесь Жаботинский начинает вторую часть, написанную в 1937 году.
[Закрыть].
* * *
Первая мировая война началась внезапно. 28 июня 1914 года сербский националист застрелил в Сараево кронпринца Франца-Фердинанда, наследника австро-венгерского престола. Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии и объявила ее реакцию неприемлемой. Объяснения протянулись месяц. Затем, с 28 июля последовала серия быстро сменяющих друг друга событий, походивших на известную игру в домино: Австро-Венгрия, Германия – против России, а затем и против союзника России – Франции.
Вслед за тем Германия нарушила нейтралитет Бельгии – первый шаг в ее долго зревшем плане обойти Францию. Англия, будучи гарантом этого нейтралитета, объявила Германии войну. В течение недели все ведущие государства Европы оказались втянутыми в военный конфликт.
Как ни странно, Жаботинский предсказывал войну: "Разрушительную войну, между двумя или больше крупными державами, со всем мощным безумием современной техники… с невероятным числом жертв и с тысячными затратами – прямыми, косвенными и побочными, – что для отчета не хватит номерных знаков"[179]179
Сипур Ямай.
[Закрыть].
Этот удивительно точный прогноз, оказавшийся выдающейся характеристикой начавшейся войны, был опубликован почти за три года до того, в статье "Гороскоп" 1 января 1912 года.
Тем не менее реально разразившаяся война оказалась для него сюрпризом. "Несмотря на убийство, – пишет он в автобиографии, – я не уверен, что предвидел в то лето, что пробил час"[180]180
Сипур Ямай.
[Закрыть].
Он был не одинок. Война застигла врасплох большую часть граждан; некоторые вплоть до последнего момента планировали летние отпуска.
В Санкт-Петербурге Жаботинский проанализировал свои ощущения и решил, что по отношению к Антанте он был нейтрален. Но не по отношению к России.
"С первой же минуты я надеялся и молился всей душой о поражении России. Если бы в те дни исход войны зависел от меня, я порешил бы на скором мире на Западе, без победителей и побежденных, но сначала – на поражении России"[181]181
Интересно, что ведущие военные авторитеты трех стран предсказали, что война продлится годами: Китченер в Англии, Жофре во Франции, фон Мотке в Германии. Барбара Такман «Оружье Августа», N.Y., 1963, стр. 143.
[Закрыть].
Он защищал свою отважную позицию в оживленных дискуссиях с друзьями, включая молодых сионистов, в пылу военного угара присоединившихся к коленопреклоненным толпам перед царским дворцом. В доме одного из друзей он встретился с журналистом, оспорившим его мнение и провокационно предложившим Жаботинскому написать статью на эту тему. Предложение было чревато, даже если бы Россия являлась страной демократической; в царской же России автор такой статьи мог и в Сибири оказаться. Жаботинский статью написал. Он сформулировал свое мнение осторожно; но сущность его оставалась ясна.
"Я писал, – вспоминает он, – что все надежды на реформы режима будут полностью разбиты, если бы "мы" выиграли войну; и тем, кто желал победы, следовало понимать, что это означало бы крушение всех прогрессивных надежд"[182]182
В промежутке между январем и августом 14, 1913 гг. он опубликовал всего 7 статей в «Одесских новостях».
[Закрыть]. Статья была опубликована, и, вспоминает он презрительно, «цензор, ответственный за прессу, даже не попрекнул» газету.
Ему казалось ясным и другое: война не могла продлиться дольше 6 месяцев. Таким было господствующее мнение высших кругов во всех воюющих странах. "Домой к Рождеству," – полагали британские солдаты. В Германии офицеры штаба считали, что войдут в Париж за несколько недель; то же самое, но относительно Берлина, говорили во Франции. В России также ожидался скорый поход на Берлин[183]183
Сипур Ямай, стр. 96
[Закрыть].
Единственное, что Жаботинскому предсказать было несложно, так это собственное будущее. В тридцать четыре года и при его близорукости, в армию его, разумеется, не могли призвать. Неясным было, как он будет зарабатывать на жизнь в предполагаемое полугодие войны. Два года назад он отказался регулярно писать для газет: "поскольку я потерял интерес ко всем почти темам, представляющим интерес для издателя и читателей"[184]184
Сипур Ямай, стр. 97.
[Закрыть].
"Два года я зарабатывал на жизнь лекциями – серьезная база с широким размахом в стране с шестью миллионами евреев… Но эта база была сметена в неразберихе мировой катастрофы – так, по крайней мере, казалось".
Мысль о поездке на Запад не приходила ему в голову, пока старинный друг Ицхак Гольдберг, проездом из Одессы в Санкт-Петербурге, не заскочил его проведать и не упомянул по ходу разговора, что ищет кого-нибудь для поездки в Голландию по его делам. "Ты послал бы меня?" – спросил Жаботинский. Гольдберг согласился. И только тогда, по-видимому, Жаботинский вспомнил, что у него есть профессия и национальная репутация. На следующий день он отправился в Москву и пришел в редакцию "Русских ведомостей" – одной из самых элитарных среди российских газет.
"Храм прогрессивных традиций, верховный суд по определению добра и зла. Нет теперь нигде в мире таких газет; хотя до войны, может быть, "Манчестер Гардиан" в Англии удостоился похожего медального отличия.
Почему я отправился именно туда, не знаю. Я не был практически ни с кем в редакции знаком… Но они встретили меня очень сердечно и согласились на мое предложение – стать их специальным корреспондентом на Западном фронте и в его окрестностях.
"На какой срок?" – спросил я.
"Пока вы не вернетесь…"
Такой стиль ведения дел обычно называли русской широтой, стиль, часто более доходный в практическом смысле, чем любые точные расчеты. Мое жалованье было определено в таком же широком духе"[185]185
Сипур Ямай.
[Закрыть].
Ни Жаботинский, ни "Русские ведомости" не пожалели о сделке. "Можно без преувеличения сказать, что борьбу за Еврейский легион целиком, или почти что целиком, я вел "за счет" этой московской газеты". Что касается миссии для г-на Гольдберга – "Не помню, в чем она состояла, и не уверен, что выполнил ее хорошо, но убежден, что и он, теперь на вечном покое, не жалеет, что вдохновил меня на это путешествие".
Он отправился тотчас, даже не заехал Одессу для прощания с мамой, сестрой и ее сыном. Аня, остававшаяся в Санкт-Петербурге с трехлетним сыном Эри, "сказала мне, как говорила всегда и сказала бы теперь: все будет в порядке – о нас не волнуйся. Следи за собой…"[186]186
3 сентября 1914 года.
[Закрыть]. Его первой остановкой была Швеция, и увиденное его сразило. Повсюду на этом островке мира и нейтралитета он обнаруживал военный угар.
Это омрачило его представление о Скандинавии, характерное для всего его поколения. "С начала века доминирующая в литературе и драме мода пичкала нас продуктом Скандинавии… Христиания (теперь переименованная в Осло), Стокгольм и Копенгаген – их обязанностью было снабжать нас книгами и пьесами для сцены, и не более".
Теперь же в Стокгольме, еще до каких-либо бесед, он увидел в витрине книжного магазина и купил книжку, которую прочел тут же, и которая описывала войну на море между Россией и Швецией, со Швецией в роли победителя.
Он тут же нанес визит редактору наиболее популярной газеты, чтобы понять, что происходит.
"Он раскрыл мне тайны… злостных русских планов, о коих нам не было ничего известно в Петербурге – ни мне, ни моим коллегам в крупных газетах. Здесь же, в Скандинавии, заверил он меня, каждый до последнего младенца, знал, что России нужен незамерзающий зимний порт, и поскольку Англия никогда не допустит завоевания Константинополя на юге, в России давно зарятся на западное побережье Скандинавии. Их цель – норвежский порт Берген… Россия выжидает подходящего момента, чтобы напасть на своих северных соседей. Здесь, в Швеции, об этом известно, вот они и готовятся, и строят планы…
Я пытался убедить его, что все это сказки, что ни один чиновник в Петербурге, ни один посыльный в министерстве иностранных дел или щенок-репортер в подметном газетном листке не предается таким мечтаниям… Напрасны были мои старания. В конце концов, это было так ясно: Берген был близок, Швеция и Норвегия слабы и… короче, его доводы напомнили мне знаменитое идишистское упражнение в логике: "И разве это не серебряные ложки? И разве нет у тебя двух рук? И разве не вор ты от рождения?"[187]187
Цитируется в «Иерусалиме», Брюссель, 17 июля 1953 г.; цитата в: Шехтман, том I, стр. 201.
[Закрыть]
Столь же убежденным в видах России на Скандинавию оказался известный путешественник Свен Хейдин, и Жаботинский потерпел такое же поражение, пытаясь его разубедить. Более того, все придерживались мнения, что Швеция не спасует. Она будет воевать с Россией.
В Норвегии царил тот же дух. Первое сообщение Жаботинского в "Русские ведомости", несомненно, произвело впечатление юмористического фельетона[188]188
Письма Вейцмана, том VII, стр. 23.
[Закрыть].
Но это было не все. В Португалии, которая из года в год была ареной революций и контрреволюций, тоже царили навязчивые мечты о войне и об участии в ней хоть каким-то образом. Здесь, правда, пораженного Жаботинского успокоил лиссабонский газетчик, к которому он обратился за разъяснениями. "Правительство не пойдет на поводу этих мечтаний, – сказал тот. – Тоска по героическим свершениям естественна для потомков Васко да Гамы".