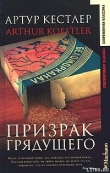Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 53 страниц)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В ГОДЫ странствий имело место взаимовлияние: воздействие Жаботинского на еврейскую общину и судьбы русского сионистского движения было вполне соразмерно обратному воздействию. В автобиографии он пишет, что не помнит «географических деталей скитаний» между 1904 и 1908 годом. В то же время он описывает эффект, произведенный на него Вильно, культурной столицей поколений, справедливо называемой Литовским Иерусалимом: «В Вильно раскрылся мне новый еврейский мир, мир, о существовании которого я знал только из встреч с „экстернами“, когда вернулся из Италии в Одессу для сдачи экзаменов, да еще из кратковременного соприкосновения с обитателями тюрьмы. Литва – особый университет для такого человека, как я, который прежде не дышал воздухом традиционной еврейской культуры и даже не думал, что есть такой воздух где-либо на свете. Уже минул век Литовского Иерусалима в прежнем понимании, но и то, что осталось от него, слепило своим светом и пьянило меня. Я увидел суверенную еврейскую вселенную, которая движется в согласии со своим собственным внутренним законом, словно связи ее с Россией только государственные, но никак не нравственные. „Биржа“ дюжины ее собственных партий находилась на углу каждой улицы; идиш оказался громадной силой, приводящей в движение мысль и культуру, а не „жаргоном“, как в Одессе и Петербурге; древнееврейский язык становился живым языком в присутствии дочери Исаака Гольденберга; стихи Бялика, Черниховского, Кагана и Шнеура одушевляли еврейскую молодежь»[84]84
«Абрам Идельсон». Зихронот Бен-Дори, стр. 239.
[Закрыть].
Во время "скитаний" Жаботинский близко познакомился и завязал дружеские отношения с некоторыми из ведущих сионистов. В их кругу в ходе многомесячной напряженной дискуссии сформировалась идея, отцом которой был Абрам Идельсон: помимо борьбы за гражданские права каждого еврея, должна вестись кампания за национальные права еврейской общины – как и всех остальных меньшинств России. Эта формулировка содержала очевидный парадокс.
В конце концов, как поспешили отметить антисионисты, если конечная цель – восстановление национального очага в Палестине, кому нужно обоснование национальных прав в диаспоре? Достаточно бороться и обеспечить гражданские права каждого индивидуума! Более того, если диаспора не представляет ценности в национальной жизни, чем можно оправдать ее укрепление?
Сионисты же утверждали, что предлагаемая ими признанная национальная единица в России должна будет служить подготовительной ступенью для воплощения сионизма. Она обеспечит должную организацию на момент, когда переезд в Палестину станет возможным. Таким образом, борьба за права национальной еврейской общины России была всего лишь временным и условным отклонением от принципа полного отторжения от диаспоры, общего для всех сионистов. Действительно, как впоследствии подчеркивал Жаботинский, в диаспоре хватало ценностей, которые евреи могли с пользой заимствовать, – и которые были бы особенно полезны в собственном государстве[85]85
Повесть моих дней, стр. 75–76.
[Закрыть].
Исторические условия для этой идеи можно теперь оценить в более верной перспективе, поскольку мы в состоянии видеть дальше, чем ее защитники. Сионистской организации было тогда от роду десять лет. Она с трудом оправилась от жестокого опыта, поставившего под угрозу ее существование как серьезного политического движения. Поражение дипломатических усилий Герцля, его смерть привели не только к тяжелым психологическим последствиям, но и к образованию настоящего вакуума в сионистской программе. Политического решения вопроса не предвиделось. Отсутствовала даже ближайшая цель, которую могло бы избрать движение.
Необходимость такой цели прекрасно чувствовали и Идельсон, и другие еврейские мыслители. В противном случае вся работа организации свелась бы исключительно к пропаганде практической деятельности в Палестине.
Предложение строить еврейскую национальную структуру на русской почве было, по существу, психологической параллелью интерпретации Нордау вопроса об Уганде как временном "пристанище на ночь": поскольку политический путь в Палестину на данный момент закрыт, российские сионисты решили создать временное политическое формирование, превратив его в еврейскую национальную структуру.
Конференция в Гельсингфорсе (сегодняшний Хельсинки) при общем энтузиазме провела резолюцию, призывающую к национальным правам не только для евреев, но и для всех остальных меньшинств России. Окончательная форма резолюции была выработана Жаботинским.
Жаботинский защищал Гельсингфорсскую программу до конца своей жизни и даже описывал ее как кульминационный момент его "сионистской юности". И все же в 1934 году он признавался, что остался одним из немногих, кто по-прежнему в нее верит.
Идея, легшая в основу Гельсингфорсской конференции, была безусловно блистательной – в исторической перспективе. Но в условиях царской России говорить о ее реализации вряд ли стоило. Оптимизм осенних дней 1906 года, по воспоминаниям Жаботинского и других, следует отнести к охватившему страну революционному пылу. И хотя Жаботинского и его единомышленников не обманули уверения либералов и социалистов, будто революция положит конец антисемитизму, они позволили себя убедить в том, что новый режим освободит еврейскую общину.
Жаботинский пишет: "Не часто повторяются эпохи в истории человечества, эпохи, в которые дрожь нетерпения пронзает народы, словно юношу, ищущего прихода возлюбленной. Такой была Европа до 1848 года, такой предстала она перед нами в начале XX столетия, лживого столетия, обманувшего столь много наших надежд. Тот, кто скажет, что мы тогда были наивны, неопытны, верили в то, что прогресса можно достигнуть легкой и дешевой ценой, одним молниеносным прыжком из тьмы в свет – тот заблуждается. Разве не были мы на другой день после праздника свидетелями очередного убийства, и, в частности, тогда, именно в ту зиму? Разве не знали, что все силы реакции уже строятся снова в несметное и грозное войско? Но вопреки всему еще жила в наших сердцах глубокая и тайная вера, основа и чудо девятнадцатого века, – вера в принципы закона, в священные пароли – свобода, братство и справедливость. И вопреки всему мы были уверены, что настал день их восхождения…"[86]86
Из брошюры 'Что нам следует делать", цитируемой Шехтманом, том I, стр. 138.
[Закрыть].
Главный доклад в Гельсингфорсе делал Жаботинский. Тема была простой: "В России нет правящей нации, все ее народности – в меньшинстве: русские, поляки, татары и евреи; все они нуждаются в справедливости, и все – в самоуправлении". Участники конференции верили, что это практичная политика. Поступь реальности высмеяла их оптимизм.
Другое решение Гельсингфорсской конференции оказалось ближе к действительности: пропаганда практической деятельности, возрождение Палестины. К тому времени началось то, что стало известно под именем "Вторая алия", – эмиграционная волна, порожденная погромами 1904 – 1905 годов. Без сомнения, Гельсингфорсская резолюция дала толчок движению за алию. Но пристальное внимание к национальному вопросу в их программе затмило это второе заключение.
Сам Жаботинский отстаивал жизненную важность алии с 1905 года: и для сионистской самореализации, и для того, чтобы "привести политический сионизм к завоеванию земли Израиля для евреев, евреи должны подготовить страну трудом своих рук… чтобы подготовиться к массовому заселению"[87]87
Повесть моих дней, стр. 80.
[Закрыть].
В октябре 1906 года Жаботинский предложил Идельсону и старым членам редколлегии "Рассвета" увеличить количество публикаций, посвященных информации и пропаганду о переселении в Палестину. Редколлегия категорически отказалась. Тогда Жаботинский инициировал создание для этой цели отдельного одесского еженедельника "Еврейская мысль". Через полгода он понял, что это разделение нежелательно, и добился компромисса с Идельсоном. Впоследствии "Рассвет" ввел регулярный раздел о Палестине. Жаботинский с самого начала настаивал, чтобы будущие пионеры были организованы как часть сионистского движения. Весьма вероятно, что, как указывает Шехтман, Жаботинский был первым русским сионистским лидером, проводившим идею организованного заселения (халуциют).
В перечислении деталей прогресса нужды нет: "шаг вперед, два шага назад" в русском правительстве, когда сначала была объявлена конституция и разрешены выборы в Думу в 1906 году, затем ее распустили и впоследствии дали разрешение на созыв 2-й Думы.
Эта Дума тоже просуществовала недолго, с января по июнь 1907 года. Затем, после проведения закона о выборах, выгодного режиму, была избрана 3-я Дума. Поскольку большинство ее членов являлись реакционерами, она просуществовала все пять лет. Четвертую (и последнюю) Думу избрали в 1912 году.
Сионисты в духе Гельсингфорсской резолюции решили принять участие отдельным списком в выборах во вторую Думу, по примеру других организаций. Жаботинский был кандидатом во 2, 3 и 4-ю Думы. Уверовав вместе с прочими в важность выражения гордой и достойной еврейской позиции, он предложил серьезную аргументацию в ходе предвыборной кампании. Евреи как меньшинство могли надеяться получить голоса только в коалиции с другими партиями. Но именно из-за разногласия по вопросу о национальных правах в их рядах не было единения; ассимиляторы и социалисты вели особенно ядовитую пропаганду против сионистов. Их излюбленной мишенью был Жаботинский. Он провалился на выборах во 2 и 3-ю Думы. На выборах в 4-ю Думу его соратники-сионисты, желая предотвратить раскол в еврейских голосах и надеясь предотвратить выборы реакционера, архиепископа Анатолия, убедили Жаботинского отвести свою кандидатуру. Это не помогло: Анатолий был избран.
Интересной чертой выборов во 2-ю Думу была поддержка еврейской общиной кандидата-христианина. Им оказался украинец Михаил Славинский, друг еврейского народа, последовательно и откровенно проводивший свою позицию. 14 лет спустя, вдали от России, ему довелось сыграть роль в бурном эпизоде в жизни Жаботинского.
* * *
Двенадцать лет прошло с момента завоевания им в пятнадцатилетием возрасте десятилетней Ани до того, как она стала его женой.
Отрывочные сведения о его итальянском периоде предполагают ряд свободных связей, и в его поэзии тех лет содержится намек по меньшей мере на один опыт неразделенной любви. Однако рассказывая о своей женитьбе в автобиографии, он вспоминает, что семью годами раньше (когда Ане было 15, а он вернулся в отпуск из Италии), на вечеринке в ее доме, где обычно собирались их друзья, он в шутку вынул из кармана золотую монету, подал ей и произнес ритуальную формулу, скрепляющую, по еврейской традиции, женитьбу. Строго ортодоксальный отец его друга Миши Гинсберга был очень огорчен этим жестом и торжественно предупредил Аню, что если она обретет когда-либо более надежную кандидатуру для брака, ей придется получить от Жаботинского формальный развод[88]88
Воспоминание Гринбаума, интервью с Шехтманом, том I, стр. 129.
[Закрыть].
Друзья, по всей видимости, не отнеслись к этому инциденту серьезно. В период его служения "коммивояжером" сионизма, в период восходящей популярности он воспринимался как кандидат в женихи многими еврейскими мамами. Он был известен как весьма общительный молодой человек, любивший женское общество и отнюдь не посвящавший свой досуг во время путешествий занятиям философией. Его имя постоянно склонялось в связи с той или иной молодой женщиной, появлявшейся с ним в театре, на концерте или в парке.
До "Рассвета" то и дело докатывались слухи об очередной победе его над дочерью очередной еврейской общины. Спустя многие годы Жаботинский вспоминал, как однажды во время его путешествий в 1904 году, его коллеги действительно поверили слухам. Тем не менее, вскоре они отметили, что в его частной жизни Аня занимает значительное место. В 1905 году он организовал для нее визит в Санкт-Петербург для работы в "Рассвете", в офисе правления. Она сопровождала его во время поездки в Варшаву, где его друг Ицхак Грюнбаум и его жена, обратив внимание на Анино "собственническое отношение", заметили: "Прощай, Володина свобода!". С другими друзьями он и Аня провели вместе неделю отдыха в путешествии по Швейцарии. Их роман длился всю жизнь. Через пять лет после свадьбы, весною 1912 года, госпожа Жаботинская сказала с "обезоруживающей откровенностью" Шехтману, что у нее не было никаких иллюзий относительно того, как восприняли друзья и поклонники Жаботинского его выбор подруги жизни. "Я знала, – сказала она, – что все вы были сильно разочарованы. Вы ожидали, что он женится если не на принцессе, то по крайней мере на необыкновенной красавице или выдающемся интеллектуальном светиле; вместо этого он женился на Анечке Гальпериной, обычной девочке из Одессы!.. Винить вас я не могла, но, конечно, такое отношение меня не радовало. Я решила сделать все возможное, чтобы исправить положение и заставить его друзей принять меня такой, какая я есть. Надеюсь, что это в значительной степени мне удалось"[89]89
Он не осуществил этого, но – при всем уважении к его памяти – 50 лет истекли.
[Закрыть].
Много лет спустя, в период напряженной работы, связанной с созданием в Палестине Еврейского легиона, Жаботинский написал ей озорное, скорее всего правдивое напоминание о периоде ухаживания, проливающее свет на многое. "Ты помнишь Аню Гальперин, что жила в Лермонтовском переулке? Я воевал за нее 12 лет, с ноября 1895 г., когда я назвал ее mademoiselle, до июля 1907 года, когда это имя потеряло свой смысл, если можно так выразиться. В промежутках она несколько раз ненавидела меня, несколько раз презирала и несколько раз просто смотрела в другую сторону. За все это время я вел себя как башибузук, т. е. разбойничая на стороне, поскольку сил хватало… но был предан моему падишаху. Я помню каждый мой шаг во время этого трудного завоевания и когда-нибудь напишу эту историю, которую прикажу напечатать через 50 лет после нашей смерти[90]90
Письмо Жаботинского к жене от 3 января 1919 года.
[Закрыть] в назидание эпигонам…"[91]91
Рассказано автору Герлией (Розов-Левиной) в 1940 году в Лондоне.
[Закрыть].
Его друзья быстро обнаружили свою ошибку и перестали сожалеть, что он не женился на принцессе.
"Мы очень скоро увидели в Анне Марковне, – пишет Шехтман, – личность в своем праве, с желанием и большой способностью нести с честью и достоинством великую ответственность быть спутницей жизни Жаботинского"
Объективно говоря, ее замужество следует характеризовать как нелегкое. Большую часть жизни супруги были в разлуке, длившейся днями, неделями, месяцами, иногда и годами.
За исключением относительно коротких периодов Жаботинский разъезжал. Сначала по России, затем по Европе и более отдаленным местам, как в войну, так и в мирное время. Только изредка ей удавалось его сопровождать.
В 1922 году, когда Владимир был в Палестине, Аня навещала Шехтманов в Берлине. Она подсчитала, что за пятнадцать лет супружеской жизни они провели вместе в общей сложности не более трех с половиной лет. При всем том она отнюдь не было сионисткой: она, по всей видимости, стала отождествлять свои взгляды с сионизмом только около 1930 года. Спустя много лет она призналась Герлии Розов, дочери Израиля Розова, известного русского сиониста и близкого друга Жаботинского: "Если я когда-нибудь выйду замуж еще раз, то не за сионистского вождя"[92]92
Повесть моих дней, стр. 80–81.
[Закрыть]. Тем не менее она с глубокой преданностью переносила тяготы их жизни, в том числе и материальные, связанные с тем, что Жаботинский погрузился в свой мир сионизма.
Он, со своей стороны, чувствовал и признавал собственную вину за вынужденное пренебрежение и за то, что, принеся добровольно в жертву идее свою личную жизнь и литературную карьеру, он вынудил жену к такой же жертве. Более того, он необычайно остро осознавал свое везение в том, что судьба подарила ему ее любовь и любовь и преданность еще двух женщин в его жизни: его матери и сестры. Его благодарность часто находила выражение в нехарактерных для него самораскрытиях близким соратникам и мечтах в его записях.
Итак, они расстались, едва поженившись. Аня уехала в Нанси продолжать занятия агрономией, а Владимир – в Вену, чтобы окунуться в возобновленные занятия. Он наезжал в Нанси время от времени и провел там несколько недель каникул, но почти год прожил в Вене.
Можно было полагать, что Аня по крайней мере отложит завершение ее курса, но так уж сложилось, что женитьба совпала для Жаботинского с периодом напряженного несчастливого самоанализа. Его охватило нетерпеливое беспокойство. Он описывает его в автобиографии: "Около года прожил я в Вене. Не встречался ни с одной живой душой, не ходил на сионистские собрания, за исключением одного или двух раз"[93]93
Гепштейн, стр. 47.
[Закрыть].
Парадоксально, что чувство неудовлетворенности обострилось при его невероятном успехе как оратора. Он часто отмечал, что не любит публичные выступления и не любит в себе оратора – ценя эффект письменного слова неизмеримо выше, чем эффект высказанного.
По истечении двух-трех лет восхищенного обожания слушателей по всей России он стал рассматривать его критически. Он ощущал, что популярность и громкая слава были основаны на восхищении ораторским стилем, а не содержанием или силой убеждения его доводов. Его немедленной реакцией стала заметная перемена в стиле выступлений. Он стал преподносить свои идеи в более заземленной, сухой манере.
Гепштейн вспоминает, как Жаботинский однажды сказал ему: "Вчера я выступал на собрании, где в первых рядах было четыре сотни обожающих девиц в красивых прическах. Баста! С сегодняшнего дня я буду выступать в такой манере, что на мои лекции придут не более четырех десятков евреев с 40 волосинками на всех"[94]94
Повесть моих дней, стр. 81.
[Закрыть].
Это не помогло. До конца его дней у его ног сидели не только обожающие девицы с прическами или без, но и вполне зрелые женщины и мужчины.
Спустя десять лет русский государственный деятель К. Д. Набоков заявил, что Жаботинский был самым великим русским оратором (и это в то время, когда Троцкий был в расцвете своего ораторского дара), а позднее один из великих писателей нашего века Артур Кестлер писал, что Жаботинский был самым захватывающим оратором, когда-либо им слышанным, и процитировал, соглашаясь, мнение, что он был "величайшим оратором нашего времени".
Но его сомнение было подлинным и неотступным. Оно уже подтолкнуло его к практическим шагам: заново вернуться к занятиям, но не просто ради занятий. Он давно чувствовал, что при рассмотрении еврейского вопроса нужно изучить вопрос о национальностях в целом. Он многому научился и позаимствовал из истории национального возрождения в Италии; но в этой среде оставалось много нерассмотренных областей. Таким образом, он решил ехать в Вену. "В те времена, – пишет он, – Вена была живой школой по изучению вопроса о национальностях"[95]95
К этому времени, по его собственному признанию, Жаботинский владел по меньшей мере 9 языками: русским, французским, испанским, немецким, польским, итальянским, английским, ивритом и идиш. Он уже вел частную переписку на иврите, а в 1906 году опубликовал первую статью на идише.
1 Сеть еврейских школ, финансируемых из Франции, с большим уклоном во французскую культуру.
[Закрыть].
Здесь Жаботинский как бы вернулся к беспечным дням своего студенчества, хотя он сконцентрировался на занятиях, отрываясь только по долгу журналистских обязательств. Он "никого не видел" и только один или два раза в течение года посетил сионистский митинг. Все дни он проводил в университетской библиотеке и в библиотеке Государственного Совета, поглощая и усваивая обширную литературу на разных языках по различным отобранным им предметам. Он изучал историю русинов и словаков, вплоть до хроники 4000 ретороманов в кантоне Гризон в Швейцарии, обычаи армянской церкви, жизнь цыган Венгрии и Румынии. Для этой работы он изучил дополнительные языки: чешский и хорватский[96]96
Повесть моих дней, стр. 83.
[Закрыть].
Он копировал выдержки, интересующие его, из каждой книги, а затем переводил их в своей тетради на иврит – чтобы совершенствовать свои познания в иврите. Тогда-то он и привык записывать иврит латинским шрифтом, "что по сей день я нахожу более легким и удобным, чем квадратные ассирийские письмена".
Прибежище и душевный покой, которые эти занятия принесли ему, были не менее важны, чем приобретенные им знания.
Через шесть месяцев в Вене он заявил (в письме к Усышкину), что полон "по-настоящему великих и серьезных планов".
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
КАКИМИ бы ни были эти планы, воплотить их в жизнь тогда ему возможности не представилось. Почти тотчас он снова «был брошен взад-вперед» внешними событиями, в конечном итоге приобретшими историческое значение.
Как раз в момент, когда Жаботинский готовился покинуть Вену, в Турции был свергнут султан (июль 1908 года) и правление перешло в руки "Комитета Союза и Прогресса". По возвращении в Россию Жаботинского немедленно отправили от санкт-петербургской газеты "Русь" репортером в Турцию.
То, что он обнаружил, его потрясло. Совсем недавно в Вене он приобрел исчерпывающие познания о разнообразии народностей турецкой империи. И вот теперь, интервьюируя вождей и глашатаев революции, он слушал их заверения в том, что теперь все будут не только равны, но и похожи друг на друга. Все – турки, армяне, греки и прочие – составят один народ – оттоманский. Изменилось даже название национального языка. Он стал "оттоманским".
Разрешит ли новый режим въезд евреям? Ответ был: конечно, если они расселятся повсюду, особенно в Македонии (дикой области, служившей вечным яблоком раздора между греками, болгарами и сербами). И конечно, если заговорят на оттоманском языке.
Жаботинский провел в Турции три месяца и посвятил много времени еврейской общине. Некоторые из его столкновений были столь же забавны, сколь и назидательны. При встрече со студентами в Alliance Israelite Universelle[97]97
Шолом Шварц: «Жаботинский – борец за нацию». Иерусалим, 1943, стр. 164.
[Закрыть] он обнаружил «крепость ассимиляторов, которые еще вчера считали себя французами и теперь не знают, с кем им слиться». Он советовал им не спешить. Турция была страной этнических меньшинств. Сами турки составляли меньшинство, уступая в культуре и экономике грекам, армянам и арабам. Он ссылался на опыт немцев в Австро-Венгерской империи, где, несмотря на их сильнейшее интеллектуальное влияние, им не удалось ассимилировать другие народности[98]98
Рассвет, 19 января 1909 г., цитируемый Шехтманом, том I, стр. 158.
[Закрыть]. В цикле статей о еврейском аспекте своих наблюдений Жаботинский высказывал мнение, что стремление младотурок насадить единообразную «оттоманскую» культуру в многонациональной империи (стремление, которым объясняется и их враждебность к политическому сионизму) осуществится не может. В конечном счете им придется смириться с многонациональным государством. Тем не менее на него произвела сильное впечатление свобода самовыражения и действий, разрешенная режимом младотурок.
Вместе с другими сионистами он пришел к заключению, что труд, начатый Герцлем, – заручиться поддержкой турок для фундаментальных потребностей сионизма, – может быть возобновлен в атмосфере свободы, либерализма и конституционной демократии. Он утверждал, что существуют условия для распространения сионистской идеи, и подчеркивал необходимость мобилизации сефардской общины для этой кампании. Сефардские евреи активно участвовали в революции, пользовались уважением и были в дружбе с вождями младотурок.
Он сам нашел активистов-сионистов в Константинополе и в Салониках; одним их его блестящих завоеваний было "обращение" двух еврейских членов парламента и Комитета Союза и Прогресса, Нисима Мацлиаха и Нисима Руссо. Равнодушные поначалу, на митинге с лидерами сионизма в Константинополе они объявили о своем "согласии с сионистской идеей"[99]99
Повесть моих дней, стр. 85.
[Закрыть]. Еще один еврей – член Комитета, Кароссо, заявил в интервью с L'Ероса в Салониках, что после дискуссии с Жаботинским и Якобсоном «согласился с ними совершенно в отношении сионизма»[100]100
Там же.
[Закрыть]. Виктор Якобсон был постоянным представителем организации сионистов в Турции.
Словом, Жаботинский подготовил в Турции плацдарм для сионистской деятельности. Опираясь на плоды его работы и вооружившись его блестящими аргументами, русские сионистские лидеры решили убедить международных вождей в том, что в Турции следует развернуть политическую и пропагандистскую кампанию. Более того, они обязались собрать для этого предприятия необходимый капитал. Возглавить кампанию должен был Жаботинский.
* * *
В то время как это предложение обсуждалось между Санкт-Петербургом и Колоном (здесь находился Комитет по внутренним делам, возглавляемый преемником Герцля Давидом Вольфсоном[101]101
Там же, стр. 87.
[Закрыть]), Жаботинский вернулся в Россию. Здесь он признался своему коллеге по «Рассвету» Арнольду Зайденману, что по-прежнему желает продолжить учебу. Зайденман посоветовал ему сдать на аттестат зрелости. Жаботинский, теперь уже двадцати восьми лет, принялся за это с азартом, получая истинное удовольствие. Он сдал все блестяще, за исключением одного предмета. Признанный всей Россией как столп ее литературы, он «чуть не провалил» сочинение по русскому языку[102]102
А. Хермони в «Ха-доар», Нью-Йорк, 4 мая 1945 года и Шварц стр. 174–175.
[Закрыть]. В Константинополь он вернулся, имея формальное образование. Там он участвовал в Международном съезде сионистов, принявшем решение начать кампанию в Турции. Давид Вольфсон и Нахум Соколов (в то время секретарь организации) приехали из Колона, а Усышкин и Израиль Розов представляли российских евреев. Принятое решение осуществлялось с размахом. Было постановлено создать или приобрести сеть газет на нескольких языках. После ряда неудачных попыток она сложилась из ежедневной газеты на французском языке Le Jeune Turc под редакцией молодого турка из влиятельной семьи Джелала Нури Бея; сионистского еженедельника, тоже на французском, L'Aurore, редактируемого Люсьеном Сциутто; Il Judeo, испанского еженедельника, редактируемого Давидом Эльканава, и ивритского еженедельника а-Мевассер, в котором регулярно печатался живший тогда в Турции А. Хермони.
Был сформирован Комитет по вопросам публикаций для планирования всей этой кампании. В него вошли Жаботинский, Якобсон и Шмуэль Хохберг, русский сионист-ветеран, за двадцать лет жизни в Турции изучивший привычки и обычаи местного населения. Хохберг взялся за финансы и администрирование.
Решение сделать ответственным за редактирование Жаботинского, выдвинутое с энтузиазмом Усышкиным, Розовым и Соколовым, президентом было утверждено с неохотой. Сам Вольфсон с трудом выиграл президентство у Усышкина. Его обескураживал феномен молодо выглядевшего двадцативосьмилетнего вождя, не имевшего ни западной, ни даже русской университетской степени, и притом исполненного не столько почтения к величию президента Всемирной организации сионистов, сколько самоуверенности.
Вряд ли Вольфсон знал, какую материальную жертву принесет Жаботинский, заняв этот пост. 7200 франков в год (1450 долларов), предложенных ему, составляли малую часть того, что он получал, работая в России.
* * *
В автобиографии Жаботинский пишет лаконично: "Наша работа с евреями была успешной"[103]103
Шварц, стр. 174.
[Закрыть]. Много лет спустя Хермони описал, чего добился Жаботинский, более детально. Его основной трибуной стала Le Jeune Turc, где он вел колонку редактора.
Поначалу это было для него нелегкой задачей. Он впервые писал на французском и не владел им в совершенстве. Сциутто, редактор L'Aurore, также отвечавший за язык и стиль Le Jeune Turc, правил статьи Жаботинского. Его статьи стали безупречными уже через три месяца. Сциутто сказал Хермони: «Жаботинский пишет на французском лучше меня». Жаботинский вскоре был признан «одним из самых знаменитых журналистов в Константинополе. Каждая его статья становилась событием в кругу газетчиков в Константинополе, его читали и перечитывали, цитировали, заражались энтузиазмом от его остроты, меткости и простоты», а престиж и влияние Le Jeune Turc выросли в глазах публики, прессы, парламента и правительства[104]104
Там же, стр. 177.
[Закрыть].
Задачами Le Jeune Turc были: поддержка правительства младотурок, политики объединения Оттомании; охрана языка, культуры и религии
каждой общины; поощрение иммиграции полезных элементов – мусульман, евреев, – которые укрепят государство политически и экономически. Особо выделялась поддержка сионистского движения, способного принести Турции большую пользу: формирование Центра мирового еврейства на земле Израиля привлекло бы симпатии, финансовую и духовную поддержку евреев всего мира[105]105
Ха’ доар, 4 мая 1945 г.
[Закрыть].
Две другие газеты также оказались необычайно успешными; Жаботинский был неутомим в похвалах и Сциутто, и Эльканаве. Они вскоре начали оказывать влияние на еврейские общины по всей Оттоманской империи. а-Мевассер, для которого ивритский шрифт импортировался из Варшавы, охватывал, естественно, маленькую категорию читателей, но был высокого качества, так как его сотрудниками стали самые ведущие ивритоязычные писатели. Было напечатано несколько статей Жаботинского, вероятно, первые из написанных им на иврите.
Он признавал важность языка и агитировал за введение его как учебного предмета в школах. В одной из статей он развил поэтический аспект своей философии об отношениях с окружающим миром:
"Мы не были созданы для преподавания морали и манер нашим врагам. Пусть они приобретают эти навыки сами, до того, как завязывать с нами отношения. Мы намереваемся ответить ударом тому, кто принесет нам зло. Тот, кто не платит ударом за удар, не в состоянии ответить и добром на добро. Только тот, кто умеет ненавидеть своих врагов, может быть верным другом тех, кто его любит"[106]106
Ха' Йарден, стр. 173. Через 40 лет Альмалия, член I Кнессета Израиля, развлекал автора этой книги, вспоминая эффект, от которого перехватывало дыхание.
[Закрыть].
* * *
Деятельность Жаботинского отнюдь не ограничивалась редактированием и работой над публикациями. Он приложил много времени и усилий и в Салониках, и в Константинополе, выступая перед существующими сионистскими группами и на митингах еврейской общины в целом, там, где почва по-прежнему оставалась идейно нетронутой. Описывая Салоники, Хермони утверждает, что за недели, которые Жаботинский здесь провел, он "завоевал восхищение и любовь населения, особенно молодежи и интеллигенции". Местная еврейская пресса писала, что "блестящий стиль этого оратора и его личное обаяние вызвали мощную революцию в этой застойной еврейской общине – как если бы сказочный принц прикоснулся к ней волшебным мечом и нарушил длительный сон".
В подобном же восторженном тоне Хермони описывает эффект, произведенный Жаботинским на евреев Константинополя. Его лекции о еврейском национальном возрождении, о Бялике и тому подобном "привели сотни в сионистское движение, новое в этих кругах. Вся золотая молодежь столицы стала стекаться на митинги в организации Маккаби. В течение нескольких месяцев, пока Жаботинский действовал в Константинополе, небольшое ядро сионистов разрослось в несколько сотен преданных, активных и верных членов"[107]107
Повесть моих дней.
[Закрыть].
Молниеносный эффект, производимый Жаботинским, запомнился и Абрахаму Альмалии, видному сефардскому писателю и педагогу из Иерусалима, жившему в Турции во время пребывания там Жаботинского. Много лет спустя он писал: "Поднялось новое поколение, преодолевшее тяжкий духовный кризис, царивший в еврейских гетто Востока. Национальная идея стала укореняться среди молодежи и принесла мощную духовную революцию. Пламя энтузиазма начало разжигать сердца сефардской общины, и начало этому положил плодотворный труд Жаботинского"[108]108
Гепштейн, стр. 60.
[Закрыть]. Эти чувства были разделенными. «Если есть на свете переселение душ, – пишет Жаботинский, – и если до моего второго рождения мне будет дано выбрать народ и расу, – я скажу: „Конечно, племя Израилево, но сефардское“. Я влюбился в сефардов»[109]109
Повесть моих дней, стр. 87-88
[Закрыть].