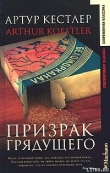Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 53 страниц)
Шмуэль КАЦ
ОДИНОКИЙ ВОЛК
Жизнь Жаботинского
том I
Эта книга посвящается памяти Михаэля Хаскеля – филантропа, гуманиста, преданнейшего сиониста, наставника моей юности в Южной Африке.
Шмуэль КАЦ
Shmuel Katz
Lone Wolf
A Biography of Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky
Издательство “ИВРУС” 2000
Перевод Татьяны Файт
Редактор Д. Клугер
Издание осуществлено при содействии Фонда Рувена и Эдит Гехт
ספר זה יוצא לאור בסיועה הנדיב של קרן ראובן וארית הבט
Copyright © by Shmuel Katz, 1996
© Издательство “Иврус”: оформление и дизайн, 2000 Обложка, форзац – Л. Дорфман
ISBN 965-7180-00-7 (Т I) Отпечатано в Израиле
Нынешнее издание выходит в год 120-летия со дня рождения и 60-летия со дня смерти Владимира-Зеэва Жаботинского. Мы посвящаем его светлой памяти выдающегося борца за национальное возрождение еврейского народа.
Лев БАЛЦАН, издатель
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВЛАДИМИР-ЗЕЕВ ЖАБОТИНСКИЙ начал работать над автобиографией в конце тридцатых годов. Смерть в 1940 году помешала ему завершить этот труд, сохранив для нас лишь фрагменты. После кончины Жаботинского вышло в свет его обширное жизнеописание, принадлежащее перу доктора Йозефа Шехтмана. Издание было осуществлено параллельно на иврите и английском языке, соответственно в трех и двух томах. Фундаментальное исследование д-ра Шехтмана охватывало всю жизнь З.Жаботинского и, без сомнения, являлось результатом кропотливого и добросовестного труда. Несмотря на это, оно оказалось неполным по объективным причинам: целый ряд документальных источников был в то время недоступен исследователям. Так, например, представить себе биографию Жаботинского без тщательного анализа его неровных отношений с Хаимом Вейцманом – все равно что рассматривать биографию Гарибальди без Кавура или Сталина без Троцкого. Но переписка двух лидеров сионизма, охватывающая годы с 1913 по 1940 и увидевшая свет через много лет после издания книги д-ра Шехтмана, составила целых тринадцать томов!
Не менее важны документы правительства Великобритании того же периода, проливающие свет на весьма неоднозначные отношения между властями этой страны и выдающимся сионистским вождем. Эти свидетельства стали доступны широкой публике лишь в 1970 году.
Собственно говоря, именно после раскрытия британских документов я и принял решение опубликовать полную биографию Жаботинского.
Искушение сделать это преследовало меня много лет. И всякий раз я преодолевал его. Не только из-за того, что теплые чувства к Жаботинскому, учеником которого я был всю мою сознательную жизнь, сделали бы меня необъективным. Я никогда не считал себя слепцом, послушно бредущим за поводырем. При жизни моего учителя я не раз и не два высказывал критические замечания – благодаря чему узнал о спокойном и даже слегка ироничном отношении Жаботинского к критике, умении внимательно выслушивать чужое мнение и признавать ошибки. Меня удерживало от соблазна совсем другое обстоятельство – огромная широта интересов Жаботинского, его талантов и свершений. Даже если не касаться его политического и социального учения, ясно изложенного в книгах и тысячах статей, как можно охватить такую личность, как Жаботинский? Он блестяще владел ораторским искусством, русские сравнивали его с Троцким и Маклаковым, французы – с Аристидом Брианом, англичане – с Д. Ллойд Джорджем. Жаботинский мог часами держать в напряжении аудиторию, обращаясь к ней не только на языках этих ораторов, но еще и на иврите, идише, итальянском и немецком. Он владел доброй дюжиной других языков, переводил великих поэтов как минимум с итальянского, английского, иврита, французского и немецкого. И все это лишь малая часть его талантов. Именно многообразие, широта и мощь личности Жаботинского мешали мне начать работу над его жизнеописанием.
Поэтому только в 1984 году, оглядевшись вокруг и не увидев никого, способного и готового взяться за это дело, я "препоясал чресла" и сел за письменный стол. Семь месяцев заняла подготовка; в семидесятый день моего рождения я начал писать. Не считая длительного перерыва, связанного с серьезным заболеванием, у меня ушло шесть с половиной лет.
Наследие Жаботинского огромно. Большая часть его ранних произведений, печатавшихся в русских газетах и журналах с 1898 по 1917 год., с тех пор не переиздавалась. Возможно, они уже просто не существуют. Правда, в 1989 году покойный профессор Михаил Агурский обнаружил в московском Институте мировой литературы им. Максима Горького (ИМЛИ) интереснейшую переписку Жаботинского. Находка внушает надежду на возможность новых открытий.
Оказавшись перед выбором – пересказывать ли Жаботинского или цитировать его, – я предпочел последнее. Мне хотелось дать английскому читателю представление о его блестящем стиле. Собрание писем Жаботинского далеко, далеко не полно. И то сказать, учитывая превратности судьбы, следует считать настоящим чудом то, что сохранилась хотя бы часть наследия. Большей частью письма написаны по-русски и сейчас переводятся на иврит. Они хранятся в Институте Жаботинского и систематизированы по датам, что избавило меня от необходимости в постоянных ссылках.
От автора биографии требуется беспристрастность. И это создавало дополнительные трудности в жизнеописании самого любимого – после Герцля – и самого оклеветанного еврейского лидера. Проблемы возникали и потому, что жизнь Жаботинского в штормовых условиях нашей эпохи была переполнена значительными событиями на всем ее протяжении. А современный исследователь вынужден считаться с современными издательскими требованиями. Я с нескрываемой завистью смотрел на биографов прошлого, которым разрешалось издавать биографии в пяти и шести томах.
Я старался соблюсти справедливость по отношению к критикам и оппонентам Жаботинского, цитируя их аргументы там, где это оказывалось возможным. Полагаю, обе стороны объективно представлены в их полемике. Надеюсь также, что и конфликт между Жаботинским и Вейцманом и их школами, находившийся в центре истории сионизма в двадцатые годы и позже, – отражен мною с соблюдением истинных пропорций.
После смерти Жаботинского конфликт между ревизионистским и социалистическим (лейбористским) течениями в сионизме не прекратился. До известной степени он продолжается и сегодня. Тем не менее в оценке самого Жаботинского и его наследия произошли глубокие перемены – даже среди самых решительных его ниспровергателей. Затвердевшая кора враждебности, даже ненависти к нему со стороны современников-лейбористов сменилась той или иной степенью понимания и признания его высочайших качеств и пророческого видения.
Здесь будет уместно процитировать заявление Ицхака Табенкина, одного из выдающихся лидеров лейбористов и острого оппонента Жаботинского в двадцатые и тридцатые годы. Незадолго до своей смерти он указал на то, что Жаботинский очень рано различил в социалистском движении перевес материальных интересов над исконными принципами.
"Были времена, когда Жаботинский предостерегал нас от опасной сытости. Ныне нам угрожают и эта опасность, и опасность самодовольства", – сказал он.
Произошедшие перемены в отношении к Жаботинскому вызвали и настоящий взлет интереса к нему. В научном исследовании "Каждый человек – король" Рафаэлы Бен-Гур из Еврейского университета в Иерусалиме по произведениям Жаботинского анализируется его социальное и гуманистическое мышление. И в Израиле, и за границей появились многочисленные работы и упоминания о его мировоззрении. Несколько лет назад "Уолл-стрит джорнэл" (европейское издание) внезапно перепечатал статью Жаботинского, написанную шестьдесят лет назад, а "Лондонский экономист", никогда прежде не интересовавшийся взглядами Жаботинского, хвалебно высказался по поводу понимания Жаботинским арабской проблемы.
Временными рамками своего рассказа я определил границы жизни Зэева Жаботинского. Три исключения из этого правила включены в послесловие.
В английском издании 1996 года, с которого сделан русский перевод, и в более раннем издании на иврите (1993 года) я поблагодарил многих людей за советы и оказанную помощь. Осталось выразить благодарность тем, кто сделал возможным издание на русском языке. Я не мог бы даже подумать об этом, если бы не финансовая помощь Фонда Реувена и Эдит Гехт. Помимо прочего, их поддержка позволяет издателю назначить за два тома весьма умеренную цену. Может быть, русским читателям неизвестно, что Реувен Гехт был выдающимся и любимым учеником Жаботинского, активно помогавшим последнему во время кампании по спасению евреев из покоренной нацистами Европы.
Я особо благодарен м-ру Гарри Сесслеру – первому предложившему этот проект своим коллегам по издательству.
Наконец, глубочайшая моя признательность д-ру Татьяне Груз из института Жаботинского в Тель-Авиве, предоставившей переводчиков для всех цитировавшихся русских текстов. Благодаря ей я получил возможность познакомить русских читателей нынешнего поколения с его неподражаемым стилем.
1880–1914. СВОЕНРАВНЫЙ РЕБЕНОК РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ ОРАТОР-СИОНИСТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОДЕССА, в которой 17 октября 1880 года родился Жаботинский, была наименее русским из всех городов Российской империи. Основанная в конце XVIII века по указу императрицы Екатерины, Одесса превратилась в порт международного значения – благодаря предприимчивости представителей многочисленных народностей, ее населявших. Сам Жаботинский так описывал этот процесс:
"Изо всех ста городов Италии, от Генуи до Бриндизи, потянулся в Одессу легион черноглазых выходцев – купцы, корабельщики, архитекторы, и притом (да зачтется им это в куще райской) на подбор высокоодаренные контрабандисты; они заселили молодую столицу и дали ей свой язык, свою легкую музыкальность, свой стиль построек и первые основы богатства. Около того же времени нахлынули греки – лавочники, лодочники и, конечно, тоже мастера товарообмена – и связали юную гавань со всеми закоулками анатолийского побережья, с Эгейскими островами, со Смирной и Солунью. Итальянцы и греки строили свои дома на самом гребне высокого берега; евреи разбили свои шатры на окраине, подальше от моря – еще Лесков подметил, что евреи не любят глубокой воды, – но зато ближе к степям, и степь они изрезали паутиной невидимых каналов, по которым потекли в Одессу урожаи сочной Украины. Так строили город потомки всех трех племен, некогда создавших человечество, Эллады, Рима, Иудеи, а правил ими сверху и таскал их вьюки снизу юнейший из народов, славянин. В канцеляриях расположились великороссы, и даже я, ревнивый инородец, чту из их списка несколько имен – Воронцова, Пирогова, Новосельского; а Украина дала нам матросов на дубки и каменщиков, и – главное – ту соль земную, тех столпов отчизны, тех истинных зодчих Одессы и всего юга, чьих эпигонов, даже в наши дни, волжанин Горький пришел искать – и нашел настоящего полновесного человека… очень длинная вышла фраза, но я имею в виду босяков…"[1]1
Моя столица, стр. 77-78
[Закрыть]
За итальянцами и греками последовали турки, французы и армяне, так что к 1892 году 58 % населения Одессы были нерусскими. Национальное разнообразие и тесное переплетение культур создавали особую духовную атмосферу родины Жаботинского. Именно она, вне всякого сомнения, вскормила и сохранила раскрепощенность изначально независимого ума и врожденный дух искателя.
Особая атмосфера Одессы глубоко сказалась уже на формировании детских впечатлений Жаботинского и давала себя знать до конца жизни. В редкие минуты отдыха он предавался поэтизированным воспоминаниям о родном городе. Израиль Тривус, один из его близких друзей, описывает в своих мемуарах пронизанные ностальгией рассказы двадцатилетнего Жаботинского о радостях детства и юности в жизнерадостной Одессе, столь непохожие на опыт большинства еврейских детей в России того времени[2]2
Hamashkif, Tel-Aviv, 1941
[Закрыть].
Раннее детство Жаботинского оказалось омраченным рядом трагических событий в семье. Когда ему было год и три месяца, умер старший брат – шестилетний Митя (Меир). В декабре 1886 года умер отец, Евгений (Иона), – удачливый управляющий агентством по торговле зерном (Одесса была в тот период ее центром). Причиной смерти стало, по-видимому, онкологическое заболевание. За годы болезни и разъездов в поисках лечения все нажитое им состояние было растрачено, и семья вместо привычного благополучия оказалась в нищете.
Хаве, молодой матери, предстояло одной вырастить Владимира и его сестру Тамар, серьезную и умную десятилетнюю девочку. Правда, у Хавы был советчик в лице ее брата Абрама Сака, процветающего купца. Один из его сыновей Мирон (Меир), известный юрист, дал ей практический совет: "Нам хватает образованных людей, – заявил он. – Отдай девочку в обучение портнихе, а мальчика – плотнику".
Много позже Жаботинский отметил, что, по всей вероятности, совет был разумным, но мать сочла иначе. Для буржуазной семьи того времени было немыслимым само предположение, будто ребенка можно сознательно отдать в ремесленники или мастеровые. Она очень резко отреагировала на слова племянника и впоследствии никогда не бывала в его доме. Двадцать лет спустя, когда имя Жаботинского приобрело известность и среди русской интеллигенции, и в еврейской общине, Мирон случайно столкнулся с Хавой во дворе синагоги. Он начал просить прощения: она-де истолковала его совет неверно, он имел в виду нечто другое. "Я не сержусь. Прощай", – отрезала Хава и скрылась внутри[3]3
Тамар Жаботинская – Корр: «Мой брат Зеев и его семья»
[Закрыть].
Правда, спустя еще 5 лет, узнав о тяжелом материальном положении Мирона, она попросила сына найти ему работу. Владимиру удалось его пристроить. Более того, он выслал ему безвозмездную сумму с благословения Хавы.
Мать Жаботинского открыла небольшой писчебумажный магазин, доход от которого пополнялся скудными дотациями от ее брата Абрама. Семья поселилась в комнатах за магазином, но даже это оказалось им не по карману, пришлось перебраться в мансарду. С беспросветной бедностью удалось покончить лишь после того, как шестнадцатилетняя Тамар начала давать частные уроки.
Годы лишений надолго запомнились Владимиру – например, тем, что его друзьям из состоятельных семей не разрешалось бывать у него в доме, во избежание, как он выражался, "заражения духом бедности". В ответ мать запретила ему посещения их домов. Но нигде в его творчестве мы не найдем и следа горечи, вызванной нуждой и завистью. Его сестра вспоминает, как вскоре после начала школьных занятий он отказался взять яблоко, которое мать давала ежедневно. Она, по его утверждению, слишком на него тратилась: каждое яблоко стоило копейку, а в месяц выходило 25 яблок![4]4
Тамар Жаботинская – Корр: «Родители, создавшие Жаботинского» Херут, 3 января 1958 г.
[Закрыть]Жаботинский боготворил мать, бывшую, судя по всему, сильной личностью большого ума и доброты. Его преданность и забота о ней не иссякали ни в каких перипетиях его бурной жизни, о чем свидетельствуют и автобиографические отрывки, и воспоминания сестры. Он не соблюдал религиозные предписания, но никогда не забывал выполнить просьбу матери и найти синагогу, чтобы прочесть Кадиш[5]5
поминальная молитва (прим. переводчика)
[Закрыть] в годовщину смерти отца. Ежегодно он посылал ей поздравления с днем рождения, а на Йом Кипур справлялся телеграммой, как она перенесла пост.
Несомненно, теплая атмосфера в доме, близкие взаимоотношения в маленькой семье и безграничная любовь и гордость, которыми мать, а впоследствии и сестра окружали Жаботинского, сформировали его прославленную уверенность в себе, временами даже где-то избыточную, но помогавшую вынести многочисленные горести, выпавшие впоследствии на его долю.
В начальной школе он был трудным ребенком, исключительно своевольным. Наставления взрослых воспринимал в штыки. Мать, тем не менее, обнаружила, что добротой на него можно было повлиять, и научила этому менее терпимую сестру. Остальные в его окружении не были столь снисходительны. Однажды группу ребят, игравших во дворе, отчитал за излишнюю шумливость проходивший мимо русский офицер. Он подкрепил свои доводы затрещиной, доставшейся Владимиру. Как вспоминает один из ровесников жертвы, "мальчик, которому тогда еще не было двенадцати лет, в ярости бросился на обидчика, стараясь нанести ответный удар". Попытка нанести удар офицеру царской армии являлась весьма опасным поступком. К счастью, друзьям удалось его сдержать[6]6
Элиягу (сын Игошуа) Равницкий, цитируемый И. Шехтманом «История Владимира Жаботинского», том 1 (Нью-Йорк, 1956), стр. 29
[Закрыть].
Несмотря на сыновнюю преданность, Жаботинский не баловал мать академическими успехами. Значительную часть школьного дня он прогуливал. В полном соответствии с одесским духом, он и его друзья предавались разнообразному времяпровождению: рыбачили на Черном море, встречали корабли в порту или играли в казаки-разбойники в великолепном городском парке. Родители-одесситы, верные тому же духу, для проформы выгораживали прогульщиков перед администрацией школы, помогая им избежать наказания.
За два года до перехода Жаботинского в старшие классы русское правительство впервые ввело процентную норму. В десятилетку принимался один еврей на каждых девять христиан, при условии хорошей успеваемости. Владимиру было отказано в нескольких школах, пока наконец он был принят в одну из них. Там он обнаружил, что большинство еврейских учеников нашли способы обойти процентную норму: в его классе из тридцати ребят десять были евреями. Он писал позднее, что значительную роль играл "Его Величество Подкуп". Зная, что мать не располагала такой возможностью, а сам Владимир отнюдь не относился к прилежным ученикам, он пришел к заключению, что набрал необходимый балл исключительно благодаря опыту, накопленному при пересдаче многочисленных вступительных экзаменов[7]7
3ихронот Бен-Дори. Воспоминания Эри Жаботинского в Ктавим (Собрание сочинений) стр. 45
[Закрыть].
Самым значительным в его школьном образовании, как явствует из его воспоминаний и из воспоминаний современников, было то, что он ненавидел все, связанное с оным. Между Жаботинским и его учителями царила взаимная неприязнь, на их прохладное отношение он отвечал насмешками – в классе, в карикатурах и в подпольной школьной газете. Презрительное отношение к педагогам он сохранил и в дальнейшем: "Все, чему я научился в детстве, я обрел не в школе"[8]8
Сипур Ямай (автобиография), опубликованная Эри Жаботинским в Ктавим. Здесь и далее, цитируется по переводу Н. Бартмана “Повесть моих дней”; Библиотека-Алия, 1989, стр. 16
[Закрыть].
Он приводил, в частности, пример с учителем классических языков, который вел урок четыре раза в неделю в течение шести лет, но в результате Жаботинский не усвоил ни латыни, ни греческого. Только спустя двадцать лет он оценил Гомера – и то в переводе на русский. Учитывая его превосходные способности к языкам, можно с уверенностью предположить, что незавидные успехи в латыни и греческом были связаны скорее с рыбалкой и играми в городском парке, нежели с плохим преподаванием.
Сам Жаботинский был глубоко убежден, что эти эскапады играли важную роль. Тридцать лет спустя он утверждал, что не понимает детей, которые любят школу. "По сей день, – пишет он, – я сохранил в душе инстинкт, в котором не сознается, кроме меня, ни один отец: я ненавижу прилежных учеников, из тех, кто выполняет домашние задания. Мое сердце принадлежит непокорному"[9]9
Зихронот Бен-Дори, стр. 50
[Закрыть].
После уроков, по окончании очередного приключения в парке, возратившись домой зачастую несколько помятым и в синяках, он брался за чтение. Он прочел всего Шекспира в русском переводе, все, что когда-либо написали Пушкин и Лермонтов, и превосходно знал их произведения еще до четырнадцатилетнего возраста. Тамар, учившая его читать по-русски, научила его и английскому, который преподавали в старших классах; двоюродный брат, живший в их семье, год учил его французскому; сам он выучил испанский по учебнику, когда ему было девять.
Школьником он читал и приключенческую литературу, и классику в подлиннике на английском и французском. В своих автобиографических заметках он походя вспоминает, что одноклассник научил его польскому, чтобы Жаботинский мог оценить "Конрада Валленрода" Мицкевича[10]10
Повесть моих дней, стр. 22
[Закрыть].
Свое будущее ремесло он определил рано: он начал писать стихи в возрасте десяти лет, и они были напечатаны в подпольной рукописной школьной газете. С тринадцати лет и в последующие три года он рассылал бесчисленные рукописи по редакциям, кое-что из переводов классиков и кое-что оригинальное, – но ничего опубликовано не было. И вдруг однажды, в августе 1897 года, он обнаружил в ежедневной газете статью, написанную им под псевдонимом Владимир Иллирич, критиковавшую методы оценки учащихся школ. Статья была замечена И. М. Хейфецем, редактором другой знаменитой либеральной газеты, "Одесские новости", и серьезность статьи произвела на него впечатление. Вскоре, как он вспоминал, он напечатал в своей газете более простую статью Жаботинского – "что-то вроде легенды или сказки"[11]11
М.Хейфец: «Алталена», Рассвет, 19 октября 1930 года
[Закрыть]. Затем последовала серия литературных фельетонов, подписанных никому ничего неговорящими инициалами, и привлекшая всеобщее внимание необычным выбором тем и колоритным стилем. Тогда-то Жаботинский и принял решение, огорчившее семью и заставшее друзей врасплох. На самом деле он обдумывал его – и умолял мать о согласии – целый год. Он хотел бросить школу и уехать за границу учиться – и писать. Мать долго противилась этому по вполне понятной причине – ведь до получения аттестата зрелости оставалось всего полтора года. В царской России для еврейского ребенка такой документ был не просто вехой в образовании – аттестат давал возможность поступления в университет, о чем мечтал каждый второй еврейский ребенок и практически все еврейские родители. А диплом университета, в свою очередь, давал право жить вне черты оседлости, в любом городе России; по словам Жаботинского, «человеческой, а не собачьей жизнью». Даже учитывая обстановку в школе, которую Жаботинский находил подавляющей до отвращения, решение не заканчивать ее было необъяснимым; он сам никогда не мог изложить причины этого рационально. «Я клянусь, – писал он через тридцать лет, – я не знаю. Это случилось потому, что потому…»
В конце концов он добился согласия матери, но та настояла, чтобы он вернулся в Одессу на выпускные экзамены.
Позднее он писал, шутливо преломляя реальность того времени: "По сей день я благодарю Бога, что пошел на это и ослушался всех друзей и дядей с тетями". В конечном итоге, доказывал он, закончив по традиции гимназию, он бы поступил в русский университет, стал юристом, обзавелся богатыми клиентами и не сумел бы оказаться в Англии и стать волонтером в армии во время Первой мировой войны. Большевистская революция застала бы его в России, и, поскольку его мировоззрение было "в целом реакционным", он быстро оказался бы "захороненным на шесть футов под землей без надгробной плиты". "В целом, – заключает он, – я вообще неоднократно подумывал написать научный трактат о важности не бояться совершать глупые поступки"[12]12
Зихронот Бен-Дори, стр. 53
[Закрыть].
Семнадцати лет от роду он явился к господину Хейфецу, заявил, что отправляется за границу, и предложил себя в качестве иностранного корреспондента "Одесских новостей". Хейфец дружески заметил на это, что за год до окончания школы такой поступок был бы глупостью. "Прошу меня извинить, господин редактор, – парировал Жаботинский. – Я пришел не за советами. Я просто ищу работу корреспондента"[13]13
М. Хейфец: «Алталена», Рассвет, 19 октября 1930 года
[Закрыть].
Хейфец не клюнул на его предложение, и Жаботинский пошел повидать редактора конкурирующей газеты "Одесский листок". Теплая рекомендация видного поэта Александра Федорова, который прочел и высоко оценил одну из работ Жаботинского, перевод "Ворона" Эдгара Аллана По, помогла. Редактор В. В. Навроцкий рискнул принять его. Он предложил на выбор две столицы: Берн и Рим, в которых в тот период не было корреспондента, но поставил условие: "Не писать глупостей"[14]14
Повесть моих дней, стр. 20
[Закрыть]. Так началась журналистская карьера Жаботинского: русским писателем в русской газете.
Выбор тем и манера мышления не содержали даже тени еврейского влияния. И все же предположение, что он был сформирован ассимиляторским духом в семье, совершенно необоснованно. Его мать скрупулезно соблюдала религиозные традиции, в доме он воспринимал еврейские обычаи вполне само собой разумеющимися. Он выучил идиш, слушая разговоры матери с родственниками; одно время знаменитый ивритский писатель Йеошуа Равницкий по добрососедской дружбе преподавал ему иврит – и небезуспешно, поскольку, вспоминая юношеские пробы пера, отвергнутые редакторами, Жаботинский упоминает переводы "Песни Песней" и стихотворения Иегуды Лейба Гордона "В пучине моря"[15]15
Повесть моих дней, стр. 19
[Закрыть].
Тем не менее совершенно ясно, что все это было не более чем интеллектуальными упражнениями. Еврейство и еврейские проблемы не отразились на его духовном развитии, что тоже было обусловлено в первую очередь единственной в своем роде атмосферой Одессы.
Точно так же, как она не была "русским городом", она не была и "еврейским городом". Евреи составляли здесь треть населения, но из всех российских общин одесская была наименее еврейской по характеру.
Поскольку Одесса входила в черту оседлости, она привлекала евреев, желавших бежать от местечковой жизни и вдохнуть воздух доступного им очага западноевропейской культуры.
Великий ивритский поэт современности Хаим Нахман Бялик описал в своей поэме, полной любви и горечи, жизнь в ешиве, где бледные и часто голодные мальчики зубрили и обсуждали Талмуд в свете мудрости Закона, будучи отрезанными от внешнего мира и возможности обогащения знаниями и углубления восприятия[16]16
В стихотворении «Ха-матмид» (Прилежный ученик)
[Закрыть]. Именно из такого хранилища традиционного образования, знаменитой Воложинской ешивы, породившей многих великих в XX веке знатоков еврейского наследия, бежал сам Бялик – в поисках не счастья, а познания внешнего мира. Он направился, конечно, в Одессу, и там были написаны его самые великие произведения. Бялик стал центральной фигурой целого поколения ивритских писателей и ученых, превративших Одессу в один из центров еврейской жизни того времени. Философ Ахад ха-'Ам, историки Иосиф Клаузнер и Семен Дубнов, писатель и ученый Иеошуа Равницкий и многие другие жили и работали здесь на исходе девятнадцатого – в начале двадцатого века.
Именно в Одессе написал Леон Пинскер свою революционную работу "Автоэмансипация", – предвестника "Judenstaat" Герцля, – послужившую толчком к зарождению сионистского движения.
Была и другая разновидность евреев, прибывавших в Одессу, из далеких местечек (например, из литовских губерний), с более материалистической целью – воспользоваться коммерческими перспективами, открывающимися в большом процветающем городе. Так случилось, что развитие Одессы и всего сравнительно отсталого Юга было частью русской национальной политики, руководствовавшейся соображениями безопасности и коммерческой перспективой: Турция, основная цель российской экспансии в XIX веке, лежала сразу по ту сторону Черного моря. Поощрение еврейского вклада было составной частью этой политики.
Вместе с материальным процветанием многих евреев в той или иной степени захватила русификация – изучение русского языка, образование для детей в русских школах, – а иногда и полная ассимиляция, хоть и без гражданского полноправия. Одновременно Одесса притягивала еврейский пролетариат и ремесленников, многие из представителей которых были носителями социалистических и атеистических взглядов, тоже далеких от еврейских традиций.
Таким образом, еврейская община была очень смешанной. Несмотря на официальные антиеврейские ограничения и дискриминацию, она больше походила на еврейские общины Запада.
Религиозная ортодоксальность превалировала, но при этом ребенок мог вырасти евреем, осознающим свое еврейство при минимальном знакомстве с иудаизмом.
Этот особый, вольный характер города отразился в идишском присловье о комфортабельной легкой жизни: "как Бог в Одессе".
Он же вызвал и суждение суровых ортодоксов: "Одесса – город, опоясанный адским огнем на расстоянии в десять парасанг".
В результате жизнь еврейской общины была очень разрозненной. Отсутствие единства подчеркивалось тем, что здесь не было "еврейского квартала": евреи жили по всему городу, и у них не было централизованных общественных учреждений.
Йозеф Шехтман, познакомившийся с Одессой чуть позже описываемого периода, отмечает, что обыденная жизнь евреев была лишена традиционной окраски… "Пасха не была настоящей Пасхой, – пишет он. – Ханука не была подлинной Ханукой. Мальчику, выросшему в этой атмосфере, мало что можно было вспомнить, ценить и лелеять в последующие годы"[17]17
Шехтман, Том 1, стр. 37
[Закрыть]. Не ощущалось еврейского влияния и в школах, посещавшихся Жаботинским. Он пишет, что не может даже припомнить, были ли какие-либо еврейские предметы в его начальной школе – частном заведении, принадлежавшем двум сестрам-еврейкам: русские школы, естественно, не преподавали ни иудаизм, ни еврейские духовные ценности.
Более того, те годы, первая половина девяностых, были тоскливым периодом в русской истории. (И стали известны под названием "безвременье".)
"В этот период, – как пишет Жаботинский, – даже антисемитизм, который мог бы служить стимулом к еврейскому самосознанию, погрузился в сон". Это только усугубило странное равнодушие еврейских студентов к своей собственной судьбе. Вот как Жаботинский вспоминает, это время (ему было шестнадцать лет): "Было бы бесполезно искать проблески так называемого национального сознания. Я не помню, чтобы хоть один из нас интересовался, скажем, "Хиббат-Ционом"[18]18
Сионистское движение 1880-х
[Закрыть] или даже отсутствием гражданских прав для евреев, хотя мы были более чем достаточно знакомы с этим. Каждый из нас получил возможность учиться в гимназии только после множества хлопот и усилий, каждый из нас знал, что поступить в университет будет еще труднее. Но ничто из этого не существовало в нашем сознании, мышлении и мечтах. Возможно, некоторые из нас изучали иврит… но я никогда не знал, кто это делал, а кто нет, так это было несущественно – так же, как заниматься или не заниматься на рояле. Я не припоминаю ни одной книжки на еврейскую тему из книг, которые мы все вместе читали. Эти проблемы, вся эта область еврейства и иудаизма для нас просто не существовала".
И все же в обществе, помимо уроков и совместных игр в школе, каждая этническая группа – а на тридцать учеников их было одиннадцать – держалась особняком. В классах каждая группа сидела вместе, и после школы или игр ни ты не навещал соучеников-неевреев дома, ни они не навещали тебя. Бывали исключения – сам Жаботинский тепло вспоминает одного друга, христианина Всеволода Лебединцева, – но и в дружбе существовала граница: например, ухаживали только за еврейскими девочками[19]19
Зихронот Бен-Дори, стр. 30-31
[Закрыть].
Относительно взглядов он пишет: "Возможно, пока мне не исполнилось двадцать с лишним, у меня не было никакой позиции в отношении иудаизма или какого-либо общественного или политического вопроса. Я, конечно, знал, что когда-нибудь у нас будет свое государство и что я поселюсь там; в конце концов, это знала и мама, и моя тетка, и Равницкий. (В возрасте семи лет он спросил мать, будет ли у них когда-нибудь государство. "Конечно, будет, дурачок", – ответила она.) Но это было не убеждение; это было нечто естественное, как мытье рук по утрам и тарелка супа в полдень"[20]20
Повесть моих дней, стр. 6
[Закрыть].