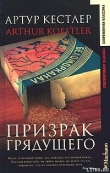Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 53 страниц)
Паттерсон, смеясь, заверил коменданта, что все будет в порядке. В городке он называл Жаботинского лейтенантом Джаксоном.
Более того, добавляет Жаботинский, "В городке я ходячая загадке. Я лопочу на итальянском, как только могу, и удивляю народ. Часто мне замечают: "Ты итальянец, как же служишь английским офицером?"
Вместе с Фальком они навестили в Сорренто плотника и заказали Ковчег для хранения свитка Торы. В заключение последней субботней службы Паттерсон обратился к солдатам. Пока Ковчег с ними, сказал он, они в безопасности. Ни штормы, ни подводные лодки им не страшны.
В течение всего плавания море было спокойным. "Благодаря этому удачному обстоятельству, – писал Паттерсон, – моя репутация как пророка оставалась высокой". В последующем плавании это судно было торпедировано и затонуло.
На борту их настигла новость, что русское правительство согласилось со всеми условиями Германии о мире. "Я желаю одного, – писал
Жаботинский Анне, – чтобы немцы попросили все, особенно Петроград". Его особенно тревожила Одесса, где оставалась мать, Тамар и многочисленные друзья.
Одесса находилась вдали от фронта, и в окрестностях не ожидались немецкие части, могущие предотвратить атаки на евреев. Погромы 1905 года, подчеркивал он, были гораздо более жестокими на юге.
Его тревожило и кое-что еще. Он признавался Анне: "Я должен научиться не падать с лошади. Во время визита в Палестину[434]434
Шалом Шварц. Жаботинский «Лохем Ха'ума», стр. 22–23, 1943 г.
[Закрыть] я не упал ни разу, но только ведь поселенцы нарочно дали мне для езды сонных лошадей"[435]435
«Слово о полку», стр. 217.
[Закрыть].
В Александрии их ждал восторженный прием. Главы сефардской общины, пригревшие три года назад беженцев в Габбари, – главный раввин Делла Пергола, барон и баронесса де Менаше, Эдгар Суарес и Джозеф Пичиотто, – по праву гордились своей ролью в истории легиона. "Сионский корпус погонщиков мулов был нашим сыном, Еврейский полк наш внук", – говорили они Жаботинскому. Делла Пергола отслужил специальную службу в синагоге со всеми раввинами в церемониальных одеждах и присутствовавшими генералами и чиновниками британской администрации, нейтральными консулами и арабской знатью. "Уличная процессия, – писал Жаботинский Анне, – затмила Лондонский марш сотню раз. Я в жизни никогда не слышал подобного шума".
Затем они прибыли в Каир; тамошний прием оставил не менее сильное впечатление. Британский верховный наместник, сэр Реджинальд Уингейт, стоял в воротах своей резиденции, принимая салют марширующего полка и слушал "а-Тикву".
Время, проведенное в Каире, тем не менее, тяготило Жаботинского. Солдаты полка проходили интенсивную подготовку к фронту в лагере Хелмия, но его обязанности были не очень определенными.
Правда, он проводил время, уча коллег-офицеров ивритской терминологии командования.
Он также ездил в Александрию давать на итальянском лекцию о Бялике, которую затем повторил для каирской публики. Более того, поскольку он был единственным офицером, читающим на идише и иврите, ему приходилось исполнять обязанности цензора.
"Тут я в первый раз открыл тот факт, что у нас в батальоне оказалось несколько литвинов – не "литваков", а настоящих литвинов-католиков. Они работали в угольных копях где-то неподалеку от Глазго; когда пришлось идти служить, они попросились к нам. Я, конечно, ни слова не знал по-литовски, за исключением того, что Германия по-ихнему "Вокетия", а поляк называется "ленкас". Но если бы я отказался "цензуровать" их письма, то вообще лишил бы их возможности переписываться, ибо остальные офицеры в Египте, вероятно, даже и этих двух слов по-литовски не знали. Словом, я решил поставить на карту судьбу войны и победу союзников и стал подписывать "О.К." на литовских письмах. Одно я в них понял: изо всех наших солдат литвины были почти единственные, которые пытались описывать нашу дорогу, упоминали географические названия, говорили о специальных задачах полка, вообще единственные, которые интересовались вопросами "посторонними", вне круга личных дел: сужу об этом потому, что в их письмах были такие слова, как Ницца, Италия, "Эгиптас", даже "Иерозалимас", даже "сионизмас".
В еврейских письмах этого почти не было. "Дорога приятная". "Теснота в вагонах". "Слава Богу, море спокойное". А дальше следует самое главное: как дети? Прорезались ли уже зубки у Ханелэ? Прошла ли корь у Джо? Не тоскуй, дорогая. Провела ли ты уже газ на кухне? Бесконечная нежность к своему дому – не к стране, не к городу, не к улице, а только к одной квартире! Мне вспоминалось талмудическое изречение: "Дом его есть его жена". Кто знает, может быть, это и лучше патриотизма; может быть, это есть основа патриотизма. Может быть, если этим людям дать настоящий "дом", такой, где квартира, и улица, и город, и страна сплетены в одно целое, взаимно обусловленное как ступени одной и той же лестницы, где сломай одну – посыплются другие, то и получится психология законов Бар-Кохбы?
Часто мне почти совестно было так глубоко заглядывать в человеческие души. Зато я установил для себя правило – вынимать каждое письмо из конверта и вкладывать обратно, не глядя на адрес. Это было тем корректнее, что в этих письмах часто была крепкая брань по адресу самого цензора!"
Этих дел ему было мало, в письмах Анне встречаются частые жалобы на скуку. Но подлинной причиной его нетерпения являлось, по его же признанию, стремление попасть скорее в Палестину. Оттуда доходили новости, что в воздухе витают ожидание и приготовления к прибытию легиона. Еще на платформе Каирского вокзала, по прибытии полка из Александрии, к нему подошел молодой человек в хаки и назвался представителем Алони из Тель-Авива, прибывшим приветствовать легион "от имени палестинских добровольцев". Он рассказал о великом движении на юге, территории, освобожденной от турецкого правления, и об энтузиазме даже в северных районах, удержанных турками.
Были и такие, кто пробрался через турецкие границы и прибыл в близлежащую Петах-Тикву с вопросом "где легион?".
Однажды утром, с разрешения Генерального штаба, Паттерсон и Жаботинский навестили Палестину. Спать от возбуждения им не удалось, особенно полковнику, впервые в жизни ожидавшему свидания с библейскими местами. Паттерсон проникся библейскими сказаниями с детства, с тех воскресных дней, когда часами напролет слушал голос отца, читавшего библейские главы.
Утром впервые испытали они отношение к их делу английского военного командования. Увидев после пыльной серой пустыни зеленый эвкалиптовый лес, а затем виноградники и белые дома с красными черепичными крышами, полковник спросил солдата, проверяющего билеты: "Как называется это место?"
"Дойран", – последовал ответ. "Дойран? – пишет Жаботинский в своих воспоминаниях. – Ведь это наша колония Реховот; "Дойран" называется крохотная арабская деревушка, которую среди песков даже отличить трудно. Но так постановил Алленби: Петах-Тиква называется Мулебис, Беэр-Яков – Бир-Салем. Единственное исключение – Ришон так и остался "Ришон": тамошнее вино у англичан было очень популярно, и вышло бы недипломатично и обидно для трезвенника-пророка окрестить мусульманским именем бутылку коньяку"[436]436
Бустнай. Шалом Шварц. Пред. цитата.
[Закрыть].
По приезде в Беэр-Яков, где находился генеральный штаб Алленби, Паттерсон отправился на совещание с генералом, а Жаботинский уехал в Яффу и малый Тель-Авив.
Его встречал десятилетний мальчуган, сопроводивший его в дом двух друзей, И. А. Берлина и Б. Б. Яффе. По дороге мальчик обсуждал с ним последние новости: плывет на английских кораблях армия в 40.000 еврейских солдат под командованием генерала Джеймса Ротшильда, сына барона. У Жаботинского не хватило духа его поправить, но он не скрыл правду от друзей в Тель-Авиве. Хотя их ожидания были скромнее, они не сумели скрыть разочарования, услышав, что прибывает лишь один полк. Новость, что Жаботинский в Палестине, словно пламенем охватила маленькую общину – не более 500 человек. В общине царило постоянное возбуждение, не находившее выхода. После годов подавленности и лишений под турецким правлением царило ощущение, что грядет новая эра. Декларация Бальфура была для них проводником мессианской эры. Одновременно с декларацией пришло их освобождение английской армией во главе с Алленби. Да и до того до них месяцами доходили слухи о кампании Жаботинского за еврейский полк или, как они называли его, "армию Жаботинского".
Привезенные им более трезвые новости не охладили ожидавшего его бесконечного энтузиазма. Он был "почти историческим, – писал один из молодых вождей рабочего движения Элиягу Голомб. – Они ждали человека, имя которого было связано с нашей величайшей мечтой, Еврейской армией"[437]437
Шалом Шварц, см. выше.
[Закрыть]. Еще один активист, Рахель Янаит, описывает электризующий эффект его прибытия, вспоминая молодую медсестру, бежавшую всю дорогу из Ришон ле-Циона сообщить ей, что приехал Жаботинский[438]438
«Слово о полку», стр. 214.
[Закрыть].
Это сильное чувство не было исключительным выражением восхищения Жаботинским. В нем видели вдохновителя их собственного, добровольческого движения, начатого с их непосредственного участия в освобождении. Уже в январе, вскоре после завоевания Алленби Иерусалима, ему отправили прошения на разрешение сформировать военное подразделение. Ответа к тому времени не последовало. Они возлагали надежды на Жаботинского в содействии в получении разрешения. Добровольцы исчислялись почти в 1.500; одну треть составляли девушки, хотевшие сформировать часть по оказанию первой помощи, хотя некоторые были готовы служить и в боевой части. В части Жаботинского добровольцы организовали импровизированный парад.
Их инструктором был Дов Гоз, тоже активист рабочего движения, еще недавно бывший офицером турецкой армии. "С первого взгляда, – писал Жаботинский, – было ясно, что материал это первоклассный, все тонкие, ловкие, напряженные, хоть и со впалыми щеками от долгой турецкой голодовки"[439]439
Паттерсон, стр. 54–56.
[Закрыть].
В последующие дни Жаботинский встретился со всеми вождями движения, в основном рабочими под предводительством известного писателя-фермера Моше Смилянского как наиболее выдающегося лидера. Их удивило заметно подавленное настроение Жаботинского. Вспоминая первую встречу в Ришон ле-Ционе, Смилянский пишет: "Он шел навстречу. Его выражение было холодным, официальным и очень серьезным, с нависшей над ним тучей беспокойства. Он не выглядел победителем. И когда он произнес речь перед представителями фермеров, его голос не нес утешения. Чувствовалось, что где-то в глубине его звучит надломленная нота. Боль виделась мне в уголках его глаз"[440]440
«Слово о полку», стр. 218.
[Закрыть].
То же впечатление он произвел на Берла Кацнельсона, ведущего мыслителя рабочего движения, видевшего его на приеме в Иерусалиме: "У меня сложилось впечатление, что это был сломленный человек, полный горечи и разочарования после Лондона и отнюдь не осчастливленный своей победой"[441]441
«Слово о полку», стр. 218–219.
[Закрыть].
Жаботинский, возможно, не осознавал, какое впечатление он произвел на этих тонких наблюдателей; у него была гораздо более свежая причина для депрессии. Когда они обменялись впечатлениями с Паттерсоном после его визита в Тель-Авив (и свидания Паттерсона с Алленби), новости были неважными.
Как писал Жаботинский: "Я был в дому у бедной невесты, которая ждала к себе возлюбленного и еще верила, что и он в нее влюблен; но Паттерсон побывал в чертогах у богатых родителей жениха"[442]442
Мордехай Бен-Гилель Ха'коэн, Милхемет Ха'амим, том 5, стр. 4.
[Закрыть].
Паттерсон предвидел холодность Алленби, но, по-видимому, не спешил огорчать Жаботинского.
Вскоре по прибытии в Египет он написал Алленби, с которым его связывало многолетнее знакомство, прося о встрече для обсуждения формирования еврейской бригады, о которой Макреди должен был уже написать Алленби.
В своем письме он обсуждал практические аспекты формирования новых подразделений – как в Палестине, так и в Египте. Он предлагал выслать в Палестину вербовочную группу и открыть отделения в Каире и в Александрии.
По обретенному им опыту с Макреди, он просил Алленби отнестись так же снисходительно к тем, "кто пожелает присоединиться к нам из частей под Вашим командованием". Он также предлагал, чтобы эти части проходили учения в Иудее, учитывая моральный эффект и более прохладный климат, – а также вдохновляющий эффект записи добровольцев. Он просил Алленби учесть, что британское правительство придавало "величайшее значение моральному эффекту этой еврейской бригады на всемирное еврейство не только в дружественных и нейтральных, но и вражеских странах".
Ответ последовал от генерального директора генерала Джона Болса, назначившего день встречи, но и предупредившего, что Алленби не поддерживает его предложение. Теперь же, во время совещания с Алленби, ему было прямо сказано, что Алленби не только не согласен на формирование новых подразделений, но против и существующего полка. Болс сообщил, что не чувствует никаких симпатий к сионизму"[443]443
10 апреля 1918 г.
[Закрыть].
Все это Паттерсон сообщил Жаботинскому, пока они прохаживались по пыльной тропе между рядами деревьев. Мрачная перспектива отношения главного командования к легиону, как к падчерице, им обоим была ясна. Не утешало и сложившееся у Паттерсона ясное представление, что главным противником легиона был не Алленби, а многие повыше. Паттерсон по прошествии некоторого времени стряхнул свою подавленность. В конце концов, независимо от личных неприязней и политических убеждений, имела место нехватка людских ресурсов. Положительного отношения Алленби, как он верил, было бы достаточно для набора тысячи еврейских солдат по всему миру. Алленби, утверждал он, изменит свою позицию. В этом, писал Жаботинский, была истина, даже излишняя. "Не раз, а десять раз еще "передумал" генерал Алленби и касательно легиона, и касательно всей сионистской проблемы. Через несколько недель он разрешил набор палестинских добровольцев; потом опять затянул дело на долгие месяцы; потом пришел в восторг и обещал образовать "еврейскую бригаду" с Паттерсоном в качестве генерала во главе; потом не сдержал и этого слова, хотя сам его написал черным по белому"[444]444
Письма от 26, 27 апреля, 1 мая 1918 года.
[Закрыть].
Так Жаботинский начал формировать о нем мнение, представленное в его мемуарах: "Именно люди с репутацией "железной воли" часто на самом деле тряпичнее былинки под ветром. Алленби, конечно, большой солдат. Но за что его приписали к большим государственным деятелям, это для меня по сей день загадка. Никто так не напортил Англии в Египте, как он потом за годы своего обер-комиссарства; о Палестине под его управлением и говорить не хочется. Я думаю, что в качестве исполнителя он действительно крупная сила; но это именно "исполнитель" чужих советов, а не направляющая рука. Хороший автомобиль, на котором кто угодно – если вкрадчив и удачлив – может ехать, куда угодно. Я таких людей много знаю, в разных углах быта, и всегда их боюсь. Это опасная комбинация – человек, к которому прилипла репутация упорства и непреклонности ("вол вассанский", прозвали его льстецы из библейских налетчиков при штабе), между тем как сам он, в сущности, почти никогда не знает, в чем ему упорствовать и непреклонничать, и вынужден запрашивать об этом советчиков.
Опасно здесь то, что такой человек уже невольно дорожит своей "железной" легендой, а потому принимает только те советы, которые дают ему случай лишний раз проявить "железные" качества. Тут раздолье именно таким советчикам, что умеют нашептывать против всего "сентиментального", "мягкотелого", против "идеологии", как выразился бы Наполеон. Сам по себе Алленби, вероятно, не враг ни евреям, ни сионизму – вообще вряд ли есть у него свой взгляд на такие проблемы; и теперь, когда он не у дел, и советчики перестали вокруг него увиваться, он, говорят, очень сочувственно к нам относится, но в те годы эта черта его помогла отравить и штаб, и армию, и всю правительственную машину таким озлобленным юдофобством, какого я и в старой России не помню"[445]445
Вейцман, Кауэн и Аронсон навестили полк в Хельмийе неофициально и там обратились к призывникам.
[Закрыть].
Жаботинский вскоре обнаружил, что палестинская община неединодушна в стремлении участвовать в освобождении Палестины. Он снова слышал доводы, знакомые по долгой борьбе в Англии. Сионистская организация официально сохраняла нейтралитет, поскольку опасалась, что евреи в северных районах, занятых турками, подвергнутся опасности.
В самом рабочем движении, особенно в крыле а-Поэль а-Цаир, эти возражения подкреплялись философией, пропагандировавшейся Бен-Гурионом и Бен-Цви три года назад: путь к возрождению земли заключается не в военных усилиях, а в труде, и еврейское дело на предстоящей конференции должно быть представлено исключительно как призыв к справедливости и моральному служению. Эти аргументы подкреплялись, более того, пространными призывами к чистому патриотизму. Из а-Поэль а-Цаир изгонялись "зараженные легионизмом".
Другая группа – вне рабочего движения – пользовалась для своей оппозиции более формальным доводом: не следовало предпринимать никаких шагов до прибытия недавно сформированной Сионистской комиссии под руководством Вейцмана и облеченной авторитетом Всемирной сионистской организации. Интеллектуальная честность этой группы вырисовывается из взглядов ее наиболее красноречивого представителя, признанного главы общины, писателя Мордехая Бен-Гилем а-Коэна. В своем дневнике он называет причины, по которым он и его друзья противились идее легиона. Личной неприязни тут не было. Напротив, он провозглашает по адресу Жаботинского, "этого драгоценного сына", безграничное восхищение и симпатию, но и сожаление – за растрату его уникального таланта на "инородный милитаризм – чуждый иудаизму". Призывая волонтеров подождать (безрезультатно) приезда Вейцмана и комиссии, они были убеждены, что Вейцман наложит вето на "милитаристский план, который они называли "безнадежным делом". Каково же оказалось их удивление и огорчение, когда по прибытии Вейцмана они обнаружили, что "Жаботинскому удалось на Вейцмана повлиять".
Мордехай а-Коэн и его друзья подчинились вердикту Вейцмана. Неожиданно и в одночасье трансформировалось отношение к идее. Столь же неожиданно изменились сами идеалы иудаизма. Легионизм перестал быть "идеей, чуждой иудаизму". Теперь а-Коэн пишет "о подлинной радости видеть подобное пробуждение среди нашей молодежи". Опорочиваемое и многократно развенчиваемое добровольческое движение он стал описывать как потомков Маккавеев, возрождающих к жизни свой дух[446]446
«Слово о полку», стр. 222.
[Закрыть].
Существование оппозиции не смущало глав активистского большинства, и всю весну добровольцы жили в пылу ожиданий разрешения на призыв от британского командования.
Жаботинского угнетали ограничения, связанные с его мундиром. Он не мог оказывать давление на военное руководство, чтобы ускорить решение, – как делал это в Лондоне. Из его части в Халмие его откомандировали в ставку Главнокомандующего в Палестину для особых заданий. Они не были обременительными, и он получал удовольствие от условий жизни. "В моем распоряжении тент и одиночество, – пишет он Анне, – апельсины, книги и чарующий вид"[447]447
Письмо от 10 апреля 1918 года.
[Закрыть]. Но разлукой с полком Жаботинский был очень недоволен.
"В полку я снова, как в Плимуте, чувствую себя чужим", – пишет он. Паттерсон, правда, пытался объяснить важность его присутствия в Палестине и участия в борьбе волонтеров за признание.
"Когда наконец это свершится, – пишет Жаботинский, – я постараюсь перестать блуждать между Каиром и Палестиной. Я возьму отряд палестинцев, буду их инструктором и перестану чувствовать себя в полку туристом".
Паттерсон оказался прав. Из штаба можно было наезжать в Яффу и встречаться с главами волонтерского движения. Ему предстояла ведущая роль в осуществлении их чаяний.
Письма к Анне в тот период отражают настойчивую обеспокоенность и даже чувство вины. В конце концов, у него был выбор. Никто не заставлял его "быть солдатом" вдали от нее. Теперь же он наслаждался, по его словам, легкими временами в армии, тогда как она, находясь в чужом окружении, сносила все трудности и опасности Лондона на военном положении, включая и германские налеты, усугубленные финансовыми затруднениями.
Более того, существовала проблема с семилетним Эри, рожденным с дефектом "заячьей губы". При его рождении в Одессе Жаботинский плакал на груди своей матери: "Аня несчастнейшая из матерей". В четырехмесячном возрасте мальчик перенес операцию, позволившую ему нормально питаться, а восемь месяцев спустя – вторую операцию на нёбе, но лишь с частичным успехом. Его речь осталась гнусавой. Когда он и Анна прибыли в Лондон, известный хирург Л.И. Баррингтон-Уорд предложил немедленно повторить операцию. Расходы оказались недоступны для Жаботинских, и Зэев направил Анну к русским друзьям, проживающим в Лондоне, одолжить 300 фунтов. В гуще этих беспокойств возник очередной раздражитель. Анна написала, что "некоторые из наших друзей" пытались убедить ее в его неверности. "Это очень интересно, – пишет он, – только, пожалуйста, не верь". Его не смущала неизбежная дилемма – знаменитого, необычайно популярного тридцатисемилетнего мужчины, чье общество нравилось женщинам, а их общество ему. Он пишет Анне о теплом приеме семьи Бецалель Яффе в Тель-Авиве, принявшей его как сына, и об их дочери Мире и добавляет: "В Тель-Авиве есть и другие девы, и мои шансы высоки. Как жаль, что я общественный деятель, и весенние прогулки не разрешаются. Кстати, – добавляет он провокационно, – к офицерам это не относится"[448]448
Э. Голомб. Жаботинский и еврейские подразделения. Ма'аракбет (иврит) IV, от ноября-января 1940-41 гг.
[Закрыть].
По его предложению Смилянский организовал демонстрацию – массовый сбор волонтеров как раз в Реховоте, поблизости от Генерального штаба. Для волонтеров это стало волнующей минутой. Собралась почти тысяча, многие из Иерусалима, промаршировавшие два дня по нестерпимой жаре. В Палестине не существовало гражданского общественного транспорта, путешествие на лошадях было не по карману молодежи из обнищавшей общины, а для проезда поездом требовалось недостижимое разрешение британских военных властей.
Сионистская комиссия, одной из целей которой было заложить принципы взаимоотношений военных властей и еврейской общины, прибыла за несколько дней до того. Комитет по волонтерам пригласил ее членов принять участие в демонстрации. Никто из них не явился. Как и в Каире, они избегали легион (хоть официально он и был частью армии Его Величества) и теперь в Палестине прислушивались к советам из Генерального штаба"[449]449
Дневники Аронсона, стр. 400, 21 апреля 1918 года.
[Закрыть].
Жаботинский надеялся, что сочетание формальной поддержки от Сионистской организации с энтузиазмом волонтеров развеет сомнения Алленби. Узнав в последнюю минуту о решении комиссии не присутствовать, он испытал отчаяние. Вскочив на подвернувшуюся военную машину, он помчался в Генеральный штаб и призвал генерала Клейтона, командующего разведкой и отличавшегося дружественными настроениями к сионизму, прислать на митинг офицера или хотя бы короткое письменное обращение с поощрением.
Не могу. Скажите им устно, что они молодцы и что я надеюсь!
С этим слабым утешением мне и пришлось поехать в Реховот.
Но там оказалось, что съезду никаких внешний ободрений и не нужно: в них самих достаточно было электричества. С громовыми овациями самим себе они снова подтвердили свою волю биться за Палестину. Было даже внесено предложение: тут же выстроиться в колонну и отправиться в Беэр-Яков на личные переговоры с Алленби. Едва мне удалось их отговорить: это с моей стороны было весьма мудро и осторожно, и по сегодняшний день я об этом жалею; уверен теперь, что поход на ставку увенчался бы успехом и ускорил бы начало набора на несколько месяцев.
Тем не менее съезд и без того "перебросился" в штаб-квартиру. Перед самым зданием, где происходило сборище, стояла палатка офицера осведомительной службы; это был капитан, имени которого я так и не узнал. После собрания он меня вызвал к себе в палатку.
– Что это такое?
– Еврейские волонтеры. Генерал Клейтон передал мне для них приветствие.
– Странные люди, – сказал он, – рвутся в армию – здорово живешь, когда их никто не тащит. И еще на четвертый год войны, когда всем нам она давно надоела. Сколько их? Целый час они тут маршировали мимо моей палатки. Тысячи две, или больше?
– Ммм, – ответил я "осторожно", – не успел сосчитать; но много.
– Приличные молодые люди, – сказал он, – и маршируют в ногу. Придется послать доклад.
Так и "дошли" они до ставки, хотя только на бумаге"[450]450
«Слово о полку», стр. 229.
[Закрыть].
С типичной скромностью Жаботинский не упоминает, что это было его собственное обращение к ним, зажегшее, по воспоминаниям присутствовавших, слушателей на призыв идти к штаб-квартире, от чего он их и отговорил; в письме к жене он довольствуется несколькими легкомысленными замечаниями. "Митинг волонтеров, – пишет он, – очень удался. Тем более что в движении участвует 150 девушек, добивающихся вспомогательных должностей, – и среди них много хорошеньких. Мучительно выдерживать роль дяди в этом положении. Наши солдаты обыкновенно пишут своим женам: "Дражайшая Бэсси, девушки, наши солдаты, здесь очень красивы, но мне-то они к чему?"[451]451
«Слово о полку», стр. 229.
[Закрыть].
Его непосредственный вклад в волонтерское движение в эти напряженные недели был гораздо больше, чем просто подбадривать добровольцев. Несомненно он привил им философию, поддерживающую его в его собственных испытаниях: не расхолаживаться от неудачи.
"Он нес с собой, – пишет Элиягу Голомб, – опыт еврейского военного начинания, также столкнувшегося сначала с предательством и отказами, он требовал упрямой настойчивости, не поддающейся напору препятствий и разочарований. Его твердость и вера помогали добровольцам сохранять боевой дух и не отчаиваться в долгие месяцы британского неприятия и еврейских сомнений. Жаботинскому удалось поднять настроение у всей добровольческой общины".
Это он навел мосты между волонтерским движением и его многочисленными оппонентами. "Его контакты с ведущими представителями общины, – продолжает Голомб, – и особенно отголоски его политических публичных выступлений привели к перемене в официальном отношении к волонтерскому движению Его приезд и прибытие Сионистской комиссии убедили публику, что судьба сионизма зависит от победы союзников. Движение начало приобретать уважение среди "трезвой" части общины. А-Поэль а-Цаир даже восстановила членство тех, кого ранее исключила из своих рядов.
Оппозиция не иссякла, но теперь не находила выражения в очернении движения и "не один колеблющийся или оппонент присоединился к движению, услышав выступление Жаботинского"[452]452
Д.Л. Нейман, Хед Йерушалаим, 8 августа 1940 года. Цитата из Шварца, стр. 19, 50.
[Закрыть].
Надо отметить, что эта запись сделана после смерти Жаботинского, двадцать два года спустя, человеком, бывшим при жизни Жаботинского одним из самых ярых его оппонентов.
Когда Вейцман, встреченный исключительно тепло Алленби и его людьми, нашел невозможным смягчить их сопротивление идее легиона, ему и Жаботинскому стало ясно, что спасти от паралича волонтерское движение может только один человек – Аарон Аронсон.
К Аронсону английское командование прислушивалось. Он внес замечательный вклад в британскую победу в Южной Палестине. Не только бесценная информация, предоставленная англичанам НИЛИ из турецкого тыла, но и влияние его личных познаний и мудрости, проявленные в работе со ставкой Алленби в Египте во время приготовления наступления, и затем помощь его Алленби в разрешении проблемы Газы создали ему огромный престиж в британских правящих кругах. В полной мере и его достижения и героизм, и долг перед ним Британии получили известность только спустя много лет после безвременной смерти Аронсона в 1919 году.
Для предводителя добровольцев и для большинства общины его имя
весной 1918 года было ругательным. Аронсон отождествлялся с НИЛИ, а НИЛИ не признавалась официальной общиной с самого зарождения три года назад. Ее не любили, потому что она могла в случае разоблачения навлечь гнев турок на головы всей общины – гнев в дополнение ко всему тому, что община уже на себе испытывала.
Многих отталкивала и идея, что евреи служат "шпионами", это считалось презираемым занятием. Они не были готовы к тому, что для еврейского будущего поражение Турции было необходимо или что ее поражение было вполне вероятно, и уж конечно, обедневшая еврейская община может что-либо сделать для приближения ее поражение.
НИЛИ для них была бесплодной, опасной и аморальной авантюрой. Более того, еще не прошло и полугода с момента раскрытия НИЛИ и периода пыток и террора, за этим последовавших.
Раскрытие уникальной популярности Аронсона, его близкие отношения с британским военным командованием вызвали удивление и недоумение общинных деятелей и особенно активистов рабочего движения. Это не повлияло на превалирующее предубеждение и силу неприятия Аронсона и всех его усилий.
Жаботинский взялся за преодоление этого всепоглощающего неприятия. С бесконечным тактом и терпением он старался убедить руководство волонтеров обратиться к Аронсону за содействием перед британским командованием. Аронсон, осознававший свое потенциальное влияние, но все еще оплакивавший свою ставшую жертвой сестру, страдания своего отца и своих соратников, павших от руки турецких властей, дал Жаботинскому понять, что готов постараться, но только если лидеры волонтеров обратятся непосредственно к нему.
После длительных переговоров Жаботинскому удалось убедить и Голомба, и Госа, и Свердлова, что в Аронсоне единственная надежда и что интересы нации требуют пренебречь всеми остальными соображениями. Их коллега Смилянский так и не изменил своей позиции, возражая против, по его мнению, "сотрудничества с дьяволом". Аронсон кратко замечает в дневнике: "Голомб и Гос из комитета по легиону пришли узнать, когда я могу встретиться с их комитетом в полном составе. Они, по-видимому, под влиянием Жабо решили сделать первый шаг"[453]453
«Слово о полку», стр. 223.
[Закрыть].
Встреча состоялась на следующее утро; Аронсон не стал терять времени, выполняя свою миссию. В тот же день он объяснил полковнику из штаб-квартиры Уиндаму Дидсу политическое и пропагандистское значение мобилизации палестинских евреев; Дидс представил меморандум Алленби.
Спустя три недели Алленби сообщил о перемене своей позиции в Лондон – и призывная кампания началась.
Официальная поддержка волонтерского движения вызвала немедленный прилив энтузиазма, равного которому, как писал Жаботинский и признавали противники, "Палестина не знала ни до того, ни после".
Самого его наполнило ощущение чуда. Он писал об этом: "Жителю многолюдных городов трудно будет понять, как воспринял это крохотный народ еврейской Палестины. Всего их было тысяч пятьдесят. Когда вдруг
повеет великий дух над малой общиной, получаются иногда последствия, недалекие от чуда; в этом, может быть, разгадка тайны Афин и того непостижимого столетия, которое породило и Перикла, и Сократа, и Софокла – в городишке с тридцатью тысячами свободных граждан. Я, конечно, не приравниваю ни талантов, ни значения, но по сумме чистого идеализма Палестина в те дни могла поспорить с каким угодно примером. В конце концов, там сосредоточился отбор из двух эпох сионистского движения, до Герцля и после Герцля"[454]454
«Слово о полку», стр. 224.
[Закрыть].