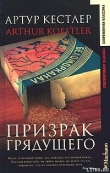Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 53 страниц)
В то же время, продолжал Жаботинский, индивидуализм – союзник подлинного равенства. "Все индивидуумы равны, и если по дороге к прогрессу кто-то споткнется, общество обязано помочь ему встать на ноги". Социалистическая в большинстве своем публика, слушавшая до сих пор в ошеломленном молчании, взорвалась в бурном протесте. "Эта еретическая речь, – вспоминает один из присутствовавших, – подействовала на слушателей, как красная тряпка на быка. Крики "Долой!" и "Позор!" охватили зал; в последующей дискуссии ни один самый жесткий эпитет не миновал Жаботинского. Наконец председатель объявил, что невежливые ораторы будут лишены слова. Жаботинский подскочил на месте и взмолился не отнимать слова у выступавших. "Пусть чертыхаются, – сказал он. – Это, по-видимому, единственный ведомый им способ выражения мыслей и ощущений. Я за абсолютную свободу слова". Раздались аплодисменты, на этот раз в его адрес.
Сам он тоже не пощадил противников в ответном слове. "Да, – сказал он. – Я уважаю Бакунина и Кропоткина, которых вы, конечно, не читали. Но я не анархист, я признаю необходимость государственной власти. Разница между мной и вами заключается в том, что для меня власть представляется по характеру верховным судом, надпартийным, стоящим вне группы и отдельных индивидуумов и не вмешивающимся в экономическую, общественную и частную жизнь градодан, если дело не касается ущемления гражданских свобод. Для вас же власть – полицейская дубинка, отличающаяся только тем, что она будет в ваших руках. Для вас цель оправдывает средства и, таким образом, все допустимо. Для вас классовая борьба – священная идея, даже если она ведет к кровопролитию. Жрецы Молоха тоже верили, что их бог ненасытно нуждается в крови. Вы верите, что надежнейший путь к истине и справедливости омыт слезами. Вы идеализируете рабочий класс, как когда-то идеализировали феодализм. Ему вы приписываете, без достаточного основания, все положительные человеческие качества, а тем, кто к нему не принадлежит, все дурное. Для меня рабочий класс состоит из таких же личностей, как и все, и день, когда он придет к власти, приведет к вырождению общества и человечества; творческая личность будет уничтожена и раздавлена"[40]40
Повесть моих дней, стр. 45.
[Закрыть].
Невозможно не задуматься, сколько из числа его молодых слушателей, испытавших на себе коммунистический режим спустя два-три десятилетия, с его кровопролитием, уничтожением инакомыслящих, подавлением рабочего как личности, с его "свободой" и "справедливостью", вспоминали точное пророческое предсказание Альталены в ту зимнюю ночь в одесском Литературно-артистическом клубе.
Дополнительные аспекты своей концепции индивидуума Жаботинский развил в пьесе "Хорошо", поставленной Одесским театром на следующий год. Ее основная мысль заключалась в том, что человек рожден свободным, не обремененным обязательствами и без тяги к самопожертвованию. Он должен руководствоваться только собственной волей и желаниями во всех начинаниях, включая служение своему народу, – не как раб, подчиняющийся приказу, а как свободная личность, выполняющая свою свободную волю. Пьеса не пользовалась успехом, но ее предпосылка вплелась нерасторжимо в полотно его собственной жизни. Идея равенства владела им абсолютно. В детстве он сердился, если к нему обращались на ты.
В автобиографии Жаботинский писал: "Я верен этой особенности по сей день. В каждом языке, где существует это различие, я обращаюсь к трехлетнему ребенку на вы и не могу иначе, даже если бы пожелал. Любое утверждение о сравнительной – неодинаковой – ценности индивидуумов наполняет меня ненавистью, превышающей здравый смысл. Я верю, что каждая личность – царь, и если бы я мог, я бы создал новую общественную философию, Pan Basilea".
Его сестра Тамар руководила в тот период средней школой, которую создала сама, исключительно благодаря своим способностям и настойчивости. Во время пребывания Жаботинского в Риме она вышла замуж за молодого врача, умершего через полтора года после свадьбы и оставившего ее с четырехмесячным сыном на руках.
В квартире, где она жила с матерью, одна комната была отведена Владимиру, и так было все годы его последующих странствий.
Поздней ночью в начале 1902 года он был разбужен там своей сестрой. Она прошептала: "Полиция". В комнату вошел офицер. Он в течение часа внимательно просматривал бумаги и книги Жаботинского. Кое-что полицейский чин изъял, а заодно увел Жаботинского в местную тюрьму, ожидать результата изучения изъятых бумаг. Среди них оказался официальный доклад царского министра, опубликованный в Женеве. Это могли счесть предосудительным. Хуже того, введение к докладу написал социалистический теоретик Плеханов. Еще более все осложнялось тем, что было изъято несколько статей Жаботинского на итальянском. Поэтому надо было ждать, пока они будут переведены. Таким образом, Жаботинский провел в тюрьме семь недель. Они были "одними из приятных на моей памяти".
Он признается, что полюбил своих соседей по "политическому" отсеку. Каждый находился в камере-одиночке, но функционировала весьма эффективная система коммуникаций при помощи бечевок и гирь, по которой можно было послать записку и даже книгу любому из соседей; более регулярным способом общения была просто перекличка.
Так ему стали известны подробности жизни социалистов-революционеров Одессы. Более того, он получал удовольствие от оживленной культурной деятельности вечерами. Среди арестованных было несколько эрудитов, проводивших беседы на самые разные темы. Сам он выбрал итальянский Ренессанс. В следующий раз он развил свою теорию индивидуализма – после чего его больше выступать не приглашали. Все протекало с парламентскими правилами, с председателем, служившим также и арбитром в споре о догматических толкованиях Карла Маркса. Для менее образованных узников тюрьма служила, по определению Жаботинского, подготовительной школой революционера.
Старания официального переводчика с итальянского не увенчались успехом. Ничего, что могло бы спровоцировать нелюбовь народа Италии к русскому царю, найдено не было. Жаботинский, обогащенный опытом, вернулся домой.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
СРАВНИТЕЛЬНО беззаботный период «спячки» в российской политической жизни подходил к концу. Режим ослабил некоторые ограничения, тем самым существенно поддержав мощное движение за реформы. Это, в свою очередь, мобилизовало к противодействию сторонников царизма и их приспешников. Евреи, как самая угнетенная часть населения и потому наиболее активная в борьбе за реформы, стали основной мишенью для контрреволюционеров, распространявших теперь в русских массах новую теорию: евреи противостоят русским национально-историческим интересам, следовательно, они враги России. Отсюда и призыв: «Бей жидов – спасай Россию!»
Вскоре это подстрекательство принесло первые плоды. В маленьком городке Дубоссары близ Одессы толпа напала на евреев. Это был первый погром за двадцать лет, и он поразил общину, как гром среди ясного неба. Одновременно пошли слухи о готовящихся нападениях в других городах губернии, включая Одессу.
Жаботинский, как он сам лаконично сообщает, "сел за письменный стол и написал десять писем десяти активистам еврейской общины, в большинстве мне не знакомым. Я предложил создание организации по самообороне"[41]41
6 лет спустя Дизенгоф стал основателем Тель-Авива и его первым мэром. 5 тысяч рублей – сумма значительная.
[Закрыть]
Большинство адресатов ответило на письмо, а один из них показал письмо другу детства Жаботинского, и от него Жаботинский узнал, что такая организация уже существует в Одессе. Удивленный и обрадованный Жаботинский в сопровождении двух друзей, Александра Полякова и М.Гинзбурга, нашел штаб-квартиру группы, встретился с ее руководителем Израилем Тривусом и тут же записался в ряды еврейских бойцов.
Эта группа, отпочковавшаяся от студенческого общества "Иерушалаим", действовала уже некоторое время, успела организоваться в ячейки и поделила город на зоны обороны. Когда Жаботинский прибыл поздней ночью, он застал Тривуса и его соратников за печатанием своего первого манифеста к еврейской молодежи и ко всей общине. Жаботинский и его друзья принялись за работу, дали Тривусу и его группе возможность отдохнуть и занялись печатанием на всю ночь.
На следующее утро он пошел с Тривусом просить поддержки у Меира Дизенгофа, преуспевающего, уважаемого купца. Дизенгоф предложил Жаботинскому отправиться на сбор пожертвований немедленно. Союз знаменитого Альталены с практичным бизнесменом оказался успешным. В один день они собрали 5 тысяч рублей[42]42
Израиль Тривус: Решит Ха’Хагана (Истоки Хаганы). Тель-Авив, 1952; также Повесть моих дней, стр. 46.
[Закрыть]. Затем Жаботинский и Тривус навестили двух еврейских торговцев оружием, Раушенберга и Стернберга, которые также оказали поддержку незамедлительно. За все время своего существования организация самообороны Одессы ни дня не испытывала нужды в оружии[43]43
Шломо Зальцман. Мин-Ха-Авар (Из прошлого). Тель-Авив, 1943, стр.243.
[Закрыть]. Жаботинский окунулся в работу всей душой и, обнаружив в части молодежи до сих пор неведомый ему дух, мобилизовал свою энергию, талант и знание еврейской истории на поддержание и укрепление этого духа – в противовес всем испытаниям, могущим выпасть на ее долю. Теперь, призывая в своих речах и статьях не только к логике физической обороны, но и к императиву личного и национального самоуважения и необходимости истребления духа гетто, Жаботинский – Альталена в новом воплощении – завоевывал поддержку широких слоев русско-еврейской общины. Собрание этих очерков и речей было издано подпольно издателем Шломо Зальцманом[44]44
Тривус, Решит-Ха’Хагана.
[Закрыть].
Нет сомнения в том, что личное влияние Жаботинского на членов организации и на широкие массы, читавшие или слушавшие его воззвания в те дни, послужило источником легенды (продержавшейся всю его жизнь, несмотря на его опровержения), что он был основателем организации. В действительности заслуга принадлежит Израилю Тривусу и его друзьям. Более того, их одесская группа была в России первой в своем роде и служила примером для десятка подобных групп, возникавших в тот период повсюду в черте оседлости.
В конечном счете тогда в Одессе погрома не случилось. Тривус сухо отмечает, что власти, наверное, знали все об их организации, но ничего не предприняли, чтобы помешать или приостановить ее деятельность, поскольку было известно, что в ней не будет нужды. Причина проста: погромы происходили исключительно там и только там, где царское правительство их организовывало[45]45
К. Чуковский.
[Закрыть].
Погром разразился в Кишиневе, городе, ценой ужаса и позора приобретшем горькую славу в истории наших дней. Кишинев был поворотным пунктом в характере и размахе русских погромов и послужил примером в дальнейшем. До того погромы представляли собой в основном крупные и мелкие грабежи и общее буйство.
В Кишиневе между 6 и 8 апреля 1903 года впервые к этому присоединились убийства. Были убиты 50 евреев, ранены сотни, изнасилованы женщины – и государственные власти поощряли погромщиков, убийц и насильников.
Для Жаботинского вести из Кишинева стали потрясением. Корней Чуковский вспоминает: "Это жестокое убийство, ужаснувшее цивилизованный мир, стало поворотным пунктом его жизни". "Жаботинский, – пишет он, – ворвался в редакцию "Одесских новостей" поздним весенним днем и гневно накинулся на нас, членов редакции – неевреев, обвинив нас в равнодушии к этому страшному преступлению. Он винил в Кишиневском погроме весь христианский мир. После своего горького взрыва он вышел, хлопнув дверью"[46]46
Ха-ума, 61/62, октябрь 1980.
[Закрыть].
В редакцию "Одесских новостей" шел поток пожертвований для Фонда жертв погрома, и Жаботинский уехал в Кишинев распределять продукты и предметы одежды. Он посещал больницы, беседовал с очевидцами и раскапывал руины. Здесь он впервые познакомился с руководителями русского сионистского движения Менахемом Менделем Усышкиным, Владимиром Темкиным, Иосифом Сапиром и Я.М.Коганом-Бернштейном. Здесь же он встретил Хаима Бялика. "Мне сказали, кто он такой, – пишет он. – К стыду своему, я этого не знал".
Очень скоро его имя стали связывать с именем Бялика. Ошеломленный увиденным в Кишиневе, Бялик написал одно из самых сильных своих стихотворений. В нем не только говорилось о первобытной жестокости погромщиков – напряженные строфы, полные гнева и безграничного стыда осуждали кишиневских евреев за то, что те позволили своим мучителям вершить свою волю, не оказав никакого сопротивления. С еще большим малодушием, обличал он, они находили место для укрытия и сквозь щель в стене следили, как погромщики насиловали их жен и дочерей.
… И крикнуть не посмели,
И не сошли с ума, не поседели…
Огромна скорбь, но и огромен срам,
И что огромнее – ответь, сын человечий!..
Это стихотворение Бялика, названное из-за цензуры "Немировское дело" (ссылкой на давнее историческое событие), стало призывом к действию для еврейской молодежи во всей России. Такое стало возможным благодаря Жаботинскому. Только горстка евреев знала иврит в объеме, необходимом для чтения Бялика. Жаботинский перевел его на русский язык через год после погрома. Многие из читавших перевод считали, что он сильнее оригинала.
Шехтман пишет: "Он вложил в этот перевод все глубокое чувство своей собственной души, весь огонь своего негодования и силу своей гордости. Так пропитан был русский вариант стихотворения Бялика духом и личностью переводчика, что его стали считать оригинальным стихотворением Жаботинского, а не переводом, как это должно было быть"[47]47
Шехтман, том I, стр. 78.
[Закрыть].
Интересно, что иврит Жаботинского был далек от совершенства. Много лет спустя известный еврейский писатель Бенцион Кац рассказал, как Жаботинский попросил его прочесть с ним Бялика, потому что "ему было трудно понять иврит без пояснений… Я не поверил, что он переведет стихотворение на русский, – перевод, оказавший такое сильное впечатление на еврейский мир, больше, чем подлинник".[48]48
Л. Шерман: Наш голос (Our voice), Н.Й., январь 1935. (Цитируется по Шехтману, том I, стр. 78).
[Закрыть]
Шехтман вспоминает, что молодежь учила перевод Жаботинского наизусть, а отрывки из него цитировались в частных беседах и групповых дискуссиях. С него снимали копии, распространяли подпольно и декламировали на митингах молодежи и собраниях организаций самообороны. Один участник такой встречи писал позднее: "Националистическая еврейская молодежь и члены отрядов самообороны собирались вместе и читали вслух русский перевод этого будоражившего стихотворения. Счастлив был тот, кому доставалась переснятая копия, а совсем счастливцам выпадала честь слушать, как Жаботинский читает его на одном из наших тайных нелегальных митингов"[49]49
Вступление к Л.В. Сноумян: Стихи из иврита Хаима Нахмана Бялика. Лондон, 1024.
[Закрыть].
К тому времени Жаботинский уже перешел Рубикон: он стал полноправным и мгновенно знаменитым членом организации сионистов. Он постоянно отрицал утверждение, будто к сионизму его привели отряды самообороны или Кишиневский погром. Напротив, он подчеркивал, что самооборона была моральным императивом, жизненно необходимым для личного и национального самоуважения, но не являлась решением проблемы погромов. Этот урок Жаботинский преподал двум поколениям еврейской молодежи. Он напоминал, что во время погромов 1905 года "отряды самообороны продемонстрировали величайший героизм, но оказались слишком слабы, чтобы остановить убийства, и тысячи евреев были убиты несмотря на них"[50]50
Тридцатилетний Вайцман сформировал на предыдущем Конгрессе группу в оппозицию доктору Герцлю и назвал ее Сионистско-Демократической фракцией.
[Закрыть]. Причину погромов они искоренить не могли. Эту причину он описал в драматическом стихотворении, опубликованном в предисловии к переводу стихотворения Бялика о Кишиневе.
Тем не менее именно Кишиневский погром послужил катализатором, способствовавшим его решению формально вступить в организацию сионистов. Шломо Зальцман, ставший его преданным другом, еще до погрома познакомил его с сионистской литературой. Он проглотил "Автоэмансипацию" Пинскера, "Еврейское государство" Герцля, труды Моше Лейба Лилиенблюма и Ахад ха-'Ама, даже протоколы (на немецком языке) сионистских конгрессов, а затем попросил Зальцмана разъяснить доводы антисионистов.
Зальцман чувствовал, что мысль о положительном отождествлении с сионизмом постепенно пускала в нем корни. Тем не менее и он, и его друзья-сионисты, посвященные в характер его бесед с Жаботинским, решили не оказывать на него давления. Уж очень маловероятным казалось, что баловень судьбы, с явно уготованным ему будущим в русской литературе и пользующийся огромной, поистине беспрецедентной популярностью как русский писатель, захочет уделить время малочисленному, невлиятельному сионистскому движению, повседневная деятельность которого была попросту скучной, хотя во многом нелегальной и подпольной.
Зальцман цитирует писателя и драматурга Ан-ского (автора "Диббука"), который отметил, что "нет на свете красавицы, пользующейся таким обожанием, какое окружало Жаботинского в его молодые годы в Одессе".
Но после Кишинева Зальцман понял, что представился подходящий момент мобилизовать Жаботинского, и обратился к нему с интересным предложением. Готовился 6-й Всемирный сионистский конгресс в Швейцарии; он, Жаботинский, должен вместо Зальцмана согласиться быть кандидатом в делегаты от одесской общины.
После того как Зальцман преодолел ряд возражений Жаботинского, тот все еще колебался. "Я ведь абсолютно несведущ в делах движения", – сказал он. "Поезжай на Конгресс и учись", – парировал Зальцман.
Жаботинский принял вызов. Так началась, как он писал, "новая глава в моей жизни".
Мировой Конгресс организации, которую возглавляли легендарный Теодор Герцль и имевший всеевропейскую известность писатель и философ Макс Нордау, несомненно являл собой впечатляющее событие. Будучи совсем юным – неполных двадцать три года – и малоопытным, Жаботинский мог благополучно провести там время в роли скорее новичка, чем участника. Но он вмешался дважды, и оба вмешательства оказались странно символичными для его дальнейшей общественной жизни. В сущности они были комическими, – вспоминает он, – начиная с нежелания допускать его в зал делегатов из-за явно юного облика. К счастью, он нашел "двух любезных лжесвидетелей", подтвердивших, что ему уже двадцать четыре года (минимальный возраст для делегата). В зале он одиноко бродил по коридорам в перерывах между пленарными заседаниями, поскольку знаком был по Кишиневу только с горсткой делегатов, занятых на закрытых заседаниях всяческих комитетов. Тем не менее он обзавелся одним новым знакомым. Его представили "высокому худому молодому человеку с треугольной бородкой и сияющей лысиной по имени доктор Вейцман. Было сказано, что он лидер оппозиции"[51]51
Повесть моих дней, стр. 50–51.
Подходящий завершающий штрих к этому инциденту содержит официальный Протокол Конгресса, официальным языком которого был немецкий. Он гласит: "Жаботинский: (говорит на русском)" – и опускает остальное.
[Закрыть].
Жаботинский тут же решил, что его место тоже в оппозиции. Такое решение было необъяснимо для него самого, поскольку он не имел ни малейшего представления о сути дела. Возможно, его реакция была результатом изоляции, желанием почувствовать себя "принадлежащим" в этом лабиринте к чему-то. Ему предстояло горькое разочарование. Увидев доктора Вейцмана в центре оживленной беседы в кафе, он подошел и спросил: "Я вам не помешаю?" Вейцман ответил: "Помешаете!" "Я отошел", – лаконично замечает Жаботинский.
При всей своей сдержанности он узнал, что есть один вопрос, вызывающий брожение в движении. Теодор Герцль, согласившийся встретиться с российским министром внутренних дел В. К. фон Плеве, подвергся нападкам со стороны русско-еврейской общины, считавшей, что именно этот министр спровоцировал Кишиневский погром. Жаботинский посчитал необходимым выступить в защиту Герцля и внес свое имя в список просивших слова.
"Это правда, – пишет он, – существовало соглашение, что эта щекотливая тема не будет затрагиваться на Конгрессе… но я решил, что на меня запрет не распространялся, поскольку я журналист, знающий, как писать на опасные темы не раздражая цензора, и этот опыт должен был помочь и в этом случае для избежания камней преткновения. Я начал выступление постулатом, что не следует путать этику с тактикой". Оппозиция мгновенно разгадала намерения этого никому не известного юнца с копной черных волос, спадающих на лоб, говорившего на отточенном русском, словно читая стихотворение на школьном экзамене; и они стали шуметь и выкрикивать: "Довольно! Хватит!" Сам Герцль, работавший в соседней комнате, услышал шум, выбежал к трибуне и спросил одного из делегатов: "Что происходит? Что он говорит?" Делегатом: к которому он обратился, оказался не кто иной, как доктор Вейцман, коротко бросивший: "Чепуха". В результате Герцль подошел ко мне на трибуну и сказал: "Ваше время истекло", – и это были его первые и последние слова, которых я удостоился…"[52]52
Зальцман, стр. 268.
[Закрыть]
И все же Конгресс, как и надеялся Зальцман, сослужил свою службу. Прежде всего, влиянием личности Герцля. Жаботинский писал: "Герцль произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я не преувеличиваю. Другого слова здесь нет: колоссальное, а я не часто поклоняюсь личностям. За всю жизнь я не помню никого, кто "произвел бы впечатление" на меня, ни до, ни после Герцля. Только тогда я ощутил, что нахожусь в присутствии избранного судьбой, вдохновленного свыше пророка и предводителя, за которым надлежит следовать, даже если при этом будут ошибки и просчеты".
И все же Жаботинский проголосовал против Герцля в крайне важном вопросе, обсуждавшемся на Конгрессе. Это был сопряженный с множеством эмоций вопрос Уганды.
Министр колоний Великобритании Джозеф Чемберлен, будучи под сильным впечатлением от доводов Герцля о необходимости срочно разрешить проблему бедствовавшего еврейства, предложил заселить евреями зону Эль Ариша Синайского полуострова. Этот план кончился ничем; позднее, после визита в Восточную Африку, Чемберлен пригласил Герцля вторично приехать в Лондон и предложил ему для заселения Уганду, в то время протекторат Британской империи. Герцль, после неудачной попытки быстро достичь соглашения с турецким султаном о Палестине и угнетенный отчаянным положением еврейского народа в Восточной Европе, решил рекомендовать, чтобы Сионистский конгресс принял его предложение. Он предвидел оппозицию российских сионистов (для многих из них предложение выглядело как отказ от Палестины), но их ярость одновременно и обескуражила его, и тронула.
Блестящая трактовка Макса Нордау, назвавшего Уганду временным пристанищем "на ночь", оказалась бесполезной. После страстных дебатов было принято предложение Герцля выслать в Уганду комиссию по рассмотрению условий для поселений, но существенное меньшинство делегатов – сто семьдесят семь – не только проголосовало против, но и прекратило участие в работе конгресса. Одним из них был и Жаботинский. Он присоединился к оппозиционерам инстинктивно, никто не пытался его убедить, более того, многие из русских делегатов поддержали предложение Герцля. "Во мне не было романтической любви к Эрец-Исраэль, – пишет он, – и я даже сейчас не убежден, что она появилась". И все же он знал, что это был верный шаг. "Просто так, – говорит он. – То самое "просто так", которое сильнее тысячи причин"[53]53
Повесть моих дней, стр. 51–52.
[Закрыть].
После прочувствованного обращения Герцля к "упрямцам" оппозиция вернулась на конгресс на следующий день и присутствовала при заключительной речи Герцля, оказавшейся последней, которую он когда-либо произнес. "По сей день, – пишет Жаботинский, – тридцать лет спустя, мне чудится, я все еще слышу его голос, звенящий в ушах, когда он принес клятву "Если забуду тебя, о Иерусалим, пусть отнимется моя правая рука"[54]54
Ктавим Циониим (Ранние сионистские записки, иврит), опубликовано в «Ктавим», Тель-Авив, 1949, стр. 13–19.
[Закрыть].
Не только личность Герцля стала для Жаботинского откровением. Он осознал глубинный смысл бурных сцен Конгресса, прочувствовал масштабы дилеммы, ставшей перед Герцлем, необоримое стремление спасти свой страдающий народ, неожиданно противопоставленное народному влечению к исторической родине.
Скорбь на лицах, проголосовавших за предложение Герцля, замеченная Жаботинским именно в час их победы, была отражением этой дилеммы. Чрезвычайно знаменательно, что непоколебимость оппозиции, тронула его и наполнила гордостью за обнищавший, задавленный народ, который даже в тисках острой нужды стоит, полный достоинства с расправленной спиной, и твердо и вежливо отклоняет предложение величайшей, сильнейшей в мире державы, предложение, которое может завершить его страдания, – из-за привязанности к земле предков, вынашиваемой восемнадцать веков. Мало того – после голосования по вопросу Уганды ему кажется, что "несмотря на столкновения и слезы, и гнев", конгресс достиг "более глубокой солидарности, сторонники и противники резолюции стали ближе по духу и взаимопониманию. Я убежден, что и Чемберлен, и Бальфур, и другие государственные мужи Британии и других стран поняли в тот день значительность сионизма – как и многие ветераны самого движения". И можно добавить, что те базельские дни, несомненно, окончательно решили вопрос для Жаботинского. Испытанное им переживание, интеллектуальное и душевное, получило подкрепление во время его короткой поездки в Рим после съезда.
Нигде в литературе по истории еврейского народа не упоминаются перемены условий жизни евреев Рима или Италии в целом за два года, прошедших после после отъезда Жаботинского в 1901 году. Но в его глазах изменилось многое. Он понимал, что видел все другими глазами. Теперь он сознательно искал евреев среди прежних приятелей – и находил. Он навестил старинный еврейский квартал – но не для осмотра дворца Ченчи, упомянутого Цицероном и Ювеналом, а чтобы воочию убедиться в нищете и угнетенном состоянии соплеменников. Он прислушивался к торговцам и разносчикам, студентам и писателям и неожиданно открывал для себя, что за их почти полной ассимиляцией скрывалось осознание своего отличия от "гоя" (слово, впервые услышанное им теперь в Риме) – и легкий оттенок беспокойства.
Короче, он обнаружил, что отныне смотрит на мир глазами сиониста. В то же время он понимал, – в Риме, как и в Базеле, – что его знаний недостаточно для новой деятельности. Вернувшись в Одессу, он бросился к Иошуа Равницкому, в детстве учившему его ивриту, чтобы тот вновь занялся его обучением. "С его помощью, – пишет он, – я научился понимать Бялика и Ахад ха-'Ама". Именно в ту осень 1903 года, со сформировавшимися знаниями и пониманием, созрев эмоционально, Жаботинский начал свою карьеру сионистского лидера – учителя. В тот же год Шломо Зальцман сумел издать небольшой сборник его статей о сионизме, озаглавленный "К врагам Сиона", и распространил его широко за пределами Одессы. Впоследствии Жаботинский написал ряд статей для публикаций, которые благодаря Зальцману расходились по всей стране.
Он и Зальцман предприняли также и другие далеко идущие шаги: они организовали издательство. К ним присоединились два видных одесских сиониста – М. Алейников и М. Шварцман; но финансовая база была в общей сложности мизерная. Жаботинский, к тому времени не нуждавшийся в представлении ни в одной общине России, обеспечил себе приглашение в Киев – выступить перед состоятельными евреями. Все они были сторонниками ассимиляции, но результатом поездки стало создание фонда в 2000 рублей. Кое-кто нашел предложенное название издательства – "Кадима" – странным: "Для чего ивритское имя? Вы собираетесь печатать Пушкина на иврите?" Жаботинский парировал: "Отличная идея. Я использую ее, и вы получите от нее удовольствие… и если не вы сами, ваши дети когда-нибудь прочтут Пушкина на языке нашего народа".
За год своего существования издательство "Кадима" напечатало десятки книг и брошюр, в основном провозглашавших национальную идею по работам Герцля, Бялика, Идельсона, самого Жаботинского и других. Жаботинский с удовольствием редактировал сборники, даже сам делал правку; Зальцман обеспечивал циркуляцию издания по всей стране.
Впервые в истории российского сионизма появилась обширная библиотека работ по сионизму на русском языке.