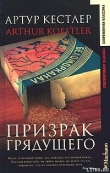Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 53 страниц)
У обвинителя нашелся, однако, на все ответ. Он согласился с тем, что обвинения по третьему и четвертому пунктам, предъявленные Жаботинскому, не имеют доказательств, но доказательства, заявил он, не требуются ввиду того, что обвиняемый собирал оружие. Он заявил: "Оружие – три ружья и 2 револьвера – были доставлены в известный дом. В каком еще свидетельстве можно нуждаться?"
Теперь обвинитель отказался от идеи, что беспорядки в Иерусалиме были спровоцированы деятельностью Жаботинского (главный пункт обвинения), но "известие о том, что он вооружает евреев, может возбудить, например, арабов Беэр-Шевы и вызвать беспорядки там".
Что касается пятого пункта, он туманно заявил, что, хотя было найдено всего лишь три ружья и два револьвера, Жаботинский "мог также приобрести" динамит, бомбы и артиллерию.
И как заключительный штрих к своему действию он выразил сожаление, что ему выпал долг "быть обвинителем Жаботинского, с его позицией и репутацией, в преступлениях столь тяжелых".
Отчет Эльяша завершается следующим: "Суд осведомил подсудимого, что его доставят по месту заключения, но капитан Кермак внес коррективу и попросил подождать за дверью – чтобы не демонстрировать, что суд уже принял решение признать его виновным".
Его отвезли в тюрьму, продержали еще 5 дней. 9 апреля 1920 года он был перевезен в Центральную тюрьму в Русском подворье, Московию, и ему зачитали приговор. Он был признан виновным по пунктам 1, 3, 4 и осужден на 15 лет принудительных работ, с условием, что по отбытии срока его депортируют из Палестины.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ТЕМ же вечером по городу из уст в уста распространилась весть о приговоре, вынесенном Жаботинскому, Малке (также осужденному на 15 лет принудительных работ за владение ружьем и обвиненного в нанесении ранения нападавшему арабу) и девятнадцати остальным, осуждённым на три года каторжных работ.
На следующий день газета "Гаарец" вышла с одностраничным "экстренным приложением". После приговоров и имен заключенных говорилось: "Сегодня, во вторник, еврейская жизнь в Иерусалиме замерла с раннего утра, в городе и всех пригородах, в знак национального траура и протеста закрыты все лавки и склады, все без исключения учреждения, мастерские, все школы и иешивы. Ни одного еврейского разносчика нет на улице. Приостановлена торговля, а также все занятия; нет выпуска ивритских газет. Все это происходит без всякого принуждения. Иерусалимское еврейство переживает свое унижение, все, что выпало в эти дни вынести ему и еврейству всего мира; его объединяет осознание катастрофы и выбор метода изъявления протеста.
Это протест молчанием, без голоса, без шума. Каждый из нас уединился в своих стенах, переживая свое горе, подавляя свой гнев. Велика эта боль и неописуемо унижение".
В другой статье газета лаконично сообщала: "Вчера также вынесен приговор насильнику двух еврейских женщин, 21 года и 15 лет: пятнадцать лет принудительных работ. Из всех насильников судили только двоих". Еврейский общинный совет выступил с заявлением, что эти двое не были арестованы полицией. Их задержали работники "Хадассы" на третий день погрома.
Еженедельник "а-Поэль а-Цаир" емко выразил самую суть невыразимых чувств общины. Автор, переживший Кишиневский погром 1903 года, писал: "Жизнь в Иерусалиме невыносима для наделенных душой и чувством – это тяжелее, чем после погрома в Кишиневе. Там состоялся суд – и там под суд не отдали тех, кто пожелал защитить себя и своих жен и детей"[735]735
Гильнер, стр. 377.
[Закрыть].
Элияс Гильнер так описывает в своих мемуарах прибытие в тюрьму: "Нас зарегистрировали и перевели в большую, темную комнату. Нас остригли до кожи черепа; бороды, однако, оставили нетронутыми. Нас обмыли водой, всего лишь оставившей нас с ощущением, что мы грязнее, чем были. Затем нам выдали своего рода униформу, сочетание заношенных и залатанных рубах без пуговиц и штанов, когда-то бывших голубого или серого цвета.
Представить себе, сколько носились эти "одеяния" до нас, было невозможно. Нам также выдали грубые деревянные сандалии. И это было все – ни нательного белья, ни носков. Все наше личное имущество – полотенца, расчески, зубные щетки, мыло, носовые платки и даже туалетная бумага – было отобрано. Нас лишили и материала для чтения; в наших камерах не разрешалось даже Библии"[736]736
Там же, стр. 375–376.
[Закрыть].
Через какое-то время Жаботинского перевели в камеру девятнадцати. Можно к вам присоединиться, почтенные заключенные? – спросил он с улыбкой, когда за ним захлопнулась железная дверь. – Каков ваш приговор?
– Три года принудительных работ.
Он разразился смехом:
– По сравнению с моим ваше наказание детское. Мне выдали 15 лет принудительных работ и по прошествии их – высылка из страны. Это-то я называю вещью серьезной. Но уверяю вас, ни вы, ни я не пробудем здесь и пятнадцати месяцев"[737]737
Здесь фрагмент обрывается. Он был, как видно, написан в конце 1920-х годов и должен был послужить введением в его воспоминания о заключении в Акре. Он и назвал его «Акрская крепость». Английский перевод его «Слова о полку» был даже задержан, потому что он хотел добавить это как послесловие. Но не дожил до этого.
[Закрыть].
Как прошла следующая неделя, описано во фрагменте, оставленном Жаботинским.
"8 вечер нашего пребывания в Московии: чувствовалось, что сникаем духом, но и поднять его не оставалось чем. Всю неделю мы старались превратить нашу камеру в клуб: мы читали лекции, рассказывали истории – позднее, в Акре, вспоминая эти семь дней, мы называли их Гептамерон. Тюремный цирюльник обрил наши головы, а мы смеялись; они обменяли нашу одежду на облачения, достойные этого учреждения, а мы смеялись; мы отказались от еды, просили мясного супа и не получили его, и всю неделю ели лишь арабский хлеб, окуная его в какую-то нашинкованную траву, названия которой я не знал, – но мы смеялись.
Как-то явился британский офицер и отобрал все наше движимое имущество: свечи, расчески и книги; мы смеялись.
После захода солнца мы задремывали в полумраке, каждый на своей тонкой подстилке, расстеленной на каменном полу. Каждую ежедневную каплю яда мы глотали смеясь. Но капли в нас накапливались и медленно отравляли дух. В тот восьмой вечер мы уже молчали, и, несомненно, каждый из двадцати (поскольку Малка, герой Старого города, был переведен из нашей камеры на второй день и нас осталось 20) думал то же самое: 'Что ждет дальше?"
Неожиданно явился посетитель. Громкий голос произнес имя Жаботинского. Это был полковник Сторрс, попросивший его собрать вещи и следовать за ним.
Вам нет нужды собирать все самому. Кто-нибудь из полицейских их возьмет.
– Собирать-то нечего, – сказал я. Железная решетка открылась; я сказал товарищам, что постараюсь дать им знать, что произошло или происходит. Я вышел и дверь захлопнулась за моей спиной. Я увидел за Сторрсом начальника иерусалимской полиции. Он удостоил меня военным салютом, как в минувшие дни, и я тоже, по привычке и рассеянности, поднес руку к моему необритому виску. Британский тюремный офицер меня, конечно, не приветствовал. Он отвел глаза.
Мы передвигались церемонно. Впереди шел, как поводырь, тюремный офицер, Сторрс и я за ним, а начальник полиции позади. Они привели меня в комнату, в два раза большую, чем та, которую я оставил. В ней стояла железная кровать с матрасом, и на столе горела масляная лампа.
Сторрс показал мне комнату жестом отшлифованной вежливости, как владелец замка, приглашающий гостя в гостиную, и сказал:
– Это для вас одного. Вы сказали, что у вас нет вещей? Мы их сейчас же доставим. Я сам их принесу; не хочу, чтобы к вам домой явился полицейский и напугал дам. Здесь нет мебели: господин X. (начальник полиции), пожалуйста, доставьте немедленно два стула и стойку для мытья, и таз и обеденный стол несколько лучше, чем этот. Немедленно! Я отправляюсь к вам домой. Au revoir, до скорого свидания, сэр!
Он отбыл, за ним проследовали офицеры и полиция, и они даже не заперли за мной дверь.
Я подозвал одного из полицейских-арабов, меланхоличного юношу, в обязанности которого входило доставлять нам хлеб и траву, и сказал ему на базарном английском, доступном ему, передать Джонатану Блументалю (нашему "официальному переводчику"), что меня повысили, но что я не забуду страдающих Израиля.
Через полчаса послышался скрип ворот у главного входа, голоса, и снова шаги; шаги полицейского, тащившего какую-то ношу, шаги Сторрса, славящие его сапожника, и еще какие-то шаги, которые я не сумел распознать попросту из-за полного изумления: перестук высоких женских каблуков. Женщина? Здесь, ночью? Кто-то постучал. Голос Сторрса спросил:
– Можно зайти?
– Заходите.
Он открыл дверь, но не вошел: стоя на пороге, он поднял руку в салюте, сказал:
– Прошу, мадам, – и я увидел свою жену.
– Боюсь, что это в нарушение правил, – пояснил Сторрс, – но, чтобы обставить комнату, требуется женская рука.
Нагруженный полицейский переступил порог: два чемодана, зеркало! Не припомню, что еще. Вошли еще двое полицейских в сопровождении начальника полиции, внеся мебель, кто-то еще внес поднос и на подносе – полные тарелки и бутылка вина из Ришон ле-Циона.
– Все в порядке? – спросил Сторрс. – Прекрасно. Тогда я оставляю мадам здесь. У меня дела в городе. Я вернусь через час и отвезу ее домой.
– Генерал, – спросил я, – а как же с моими товарищами?
– Не беспокойтесь, сэр. Я сделаю и для них все, что смогу.
Он вышел, за ним проследовала полиция, они закрыли за собой дверь и заперли замок. Из-за двери я услышал, как Сторрс приказал не беспокоить господина и госпожу Жаботинских, пока он не воротится.
Моя жена расхохоталась:
– Он сделает все возможное! От него-то это не зависит. Из Лондона прибыл приказ обращаться с вами как с политическими заключенными. Он все же мил. Он сам паковал почти что все и еще напомнил не забыть книги и бумагу, и набрать в ручку чернила, и сам предложил мне придти сюда. Утром вас всех доставят в Каир. Вам там приготовлена квартира (он так и сказал "квартира") в бараках Каср-эль-Нила.
После того как ее отвез домой Сторрс, постучался начальник полиции, вошел, отдал военный салют и сказал:
– Прошу прощения, сэр, я не стану вас больше беспокоить, но долг есть долг.
Он подошел к чемоданам, открыл их и, быстро и бегло обыскав, сказал:
– Хорошо. Прошу прощения, – отдал военный салют и вышел. Я пожал плечами. Английский чиновник – существо странное. Неделю назад мы прибыли сюда, все двадцать один, с чемоданами и пакетами, могущими содержать и динамит, – и они забыли обыскать наши вещи. Теперь губернатор Иерусалима собственноручно принес мне два чемодана, упакованные под его наблюдением, – и его подчиненный обыскивает их, чтобы удостовериться, что в них не спрятан револьвер. Нужно прожить среди англичан семь лет без перерыва, как пришлось мне, чтобы узнать ту муть, из которой, как растение из болота, медленно, без всякого руководящего принципа или спланированного расписания, прорастает их порядок – иногда с опозданием.
На следующее утро я побрился: наслаждение после прошедшей недели. Я надел гражданскую одежду; государственное имущество, облачавшее меня вчера, я забросил под кровать. Я стащил только один предмет: мой "номер", голубой металлический диск с номером 127, нанесенным на нем белыми арабскими цифрами.
В коридоре я обнаружил моих товарищей: они тоже были выбриты и одеты в одежды свободы. Малку возвратили к нам; к нашей группе присоединили двух арабов, изнасиловавших женщин в Старом городе; и когда мы вышли военным строем Хаганы по четыре, с Элиягу Гинзбургом, отсчитывавшим на иврите "левой, правой, левой", – они потянулись с нами, хоть и позади.
Было раннее утро, большинство жителей не знало, что мы выйдем в этот час; но на железнодорожной станции собралась густая толпа, напутствовавшая нас громкими приветствиями. На меня набросился майор Смолли, бывший заместителем Марголина в 39-м батальоне:
– Мы выделили отдельное купе для вас и вашей жены, – сказал он, – Я проведу вас попрощаться с вашей мамой – надеюсь, ненадолго!
Пожалуй, не припомню другого такого комфортабельного и приятного путешествия. Полдничали мы в вагоне-ресторане со Смолли и капитаном Д., одним из офицеров британского полка, теперь охраняющего Иерусалим. Охранниками они были не очень надежными, как мы убедились во время разгула, но капитан был пристойным парнем, полным "уважения"; Смолли тоже вел себя как знакомый, проводящий час отдыха в нашей компании. Моя жена дважды навестила моих товарищей, вернулась и сказала:
– Они едят и поют, шлют тебе привет.
В Артюфе (Хар-Туве) и Сореке (станциях) нас приветствовали еврейские группы; в Лоде собралась толпа, встретившая нас размахивая шапками и платками.
– Сюда пришла четверть Тель-Авива, – сказал один из моих друзей без преувеличения: население Тель-Авива не было очень большим.
По приближении к Лоду я размышлял, не помешает ли военная полиция прибыть сюда остатку 40-го батальона, расквартированного поблизости в Сарафанде; но все они были там, во главе с их командующим, полковником Марголиным.
К вечеру мы прибыли в Кантару. Моя жена проследовала в Каир, в компании Смолли. Капитан Д. доставил нас, опять же церемониальным маршем, в наше место ночлега – и опять с приставленными к нам насильниками.
Я сразу же узнал дорогу, по которой мы маршировали. Как часто, всего полгода назад, я ездил по ней в обоих направлениях, когда "бунтовщики" из легиона были в военной тюрьме и я защищал их перед судом из трех судей.
Мы прибыли в тюрьму. Я узнал дежурного сержанта, а он меня. Капитан Д. прошептал что-то ему на ухо, затем подошел попрощаться и добавил тихо:
– Я сказал ему проявить к вам особое внимание.
Пока я говорил, что в этом нет нужды, он пожал мою руку и торопливо ушел. Боюсь, что сержант его не понял. Хоть он и обращался ко мне по правилам военного почтения, стоя навытяжку с руками по швам, поскольку помнил давешние лейтенантские нашивки, "особое внимание" он принял за особо суровые условия. С величайшей вежливостью он провел меня в самую узкую и темную камеру в здании, не обставленную и без окон, с одним только смотровым в двери. Он провел меня туда, огляделся, чтоб удостовериться, что никто не слышит, и тихо сказал:
– Вот что получают за борьбу за родину – я ирландец, сэр.
Он отсалютовал, запер дверь двумя оборотами ключа и вышел.
Опустилась ночь; ни проблеска, я один; могу дотронуться до стены слева и справа, не передвигаясь; подстилка на цементном полу без подушки и одеяла; и суток еще не прошло, как я спал на такой в Московии. Я пощупал подбородок: неужели действительно брился? И в самом ли деле провел день на обитом панбархатом сиденье в вагоне-ресторане, ел мясо с грибами серебряной вилкой с фарфоровой тарелки?…
Из внутреннего двора доносились голоса моих товарищей. Они были заняты беседой. В конце концов, сержанту, так уважающему борцов за свободу, не было велено оказать им "особое внимание". Больше часа они веселились во дворе и в темноте выкрикивали мне приветствия. Потом они разошлись по своим нарам, и наступила ночная тишина и покой. Сержант подошел к моей двери и спросил через окошечко:
– Желаете погулять, сэр?
Я вышел и прошелся с ним кругом по террасе; и он поведал мне, что оказал и двум арабским насильникам "особое внимание". Правда, без приказа свыше: он взял их за уши, столкнул головами и запер в раздельных камерах. Где – не сказал. В конце нашей прогулки он остановился, огляделся по сторонам и прошептал мне на ухо:
– Сэр, здесь снаружи, у колючей проволоки, стоит группа ребят, хотят перекинуться с вами парой слов. Хотите к ним подойти? Только, пожалуйста, беседуйте тихо.
Я подошел один к забору. Сержант остался на террасе. В темноте я увидел темные тени, четыре-пять, сидевших на земле. Когда я подошел, они поднялись на ноги, и я спросил на иврите:
– Кто?
Они были из "бунтовщиков", которых мне не удалось спасти от приговора военного суда. Их отправили в тюрьму в Египте, одного на год, других на четыре и семь лет, но теперь все получили помилование. Большинство уехало в Америку, некоторые вернулись в Палестину.
Они узнали, что я в Кантаре, там же, где навещал их дважды в день во время суда, и теперь по секрету пришли сказать мне – сказать – и не могли найти слов"[738]738
Архив парламентских документов (PRO), Иностранный отдел 371/5118/0475, 29 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Объяснения, почему было решено отправить Жаботинского и его товарищей в Египет, получено никогда не было. В палестинских тюрьмах, в конце концов, хватало места.
В еврейской общине считалось, что их переведут из Египта дальше, в Судан (управляемый тоже британцами), и там, вдали от всякой еврейской общины и независимого внимания общественности, в абсолютной власти их имперских и арабских тюремщиков, их подвергнут обычным условиям "принудительного труда", которому подвергали "туземное" население. Даже четыре-пять лет было бы достаточно, чтобы преподать урок этому дерзкому еврею, осмелившемуся дать отпор имперским хозяевам, и молодым людям, оказавшимся достаточно глупыми, чтоб его поддержать. Никакого объяснения о неожиданном новом решении не посылать их в Египет и вернуть в Палестину они не получили. Но причина прояснилась скоро: приговоры были торопливо "пересмотрены".
Наутро после ночевки в Кантаре Жаботинского и двадцать его попутчиков отвезли на железнодорожную станцию – на поезд в северном направлении. Он снова получил купе в первом классе, теперь уже без сопровождения британских военных. Новость о пересмотре уже облетела страну; на платформе в Лоде их снова поджидала толпа. Кордон полицейских и солдат не дал никому подойти ближе. В Хайфе перрон был пуст, но на улице людская масса приветствовала, пела и кричала "Да здравствует Жаботинский", "Да здравствует Хагана" – и двинулась к ним, но солдатский кордон сдержал напор. Толпа замаршировала вслед уводимым пленникам, распевая песню "Техезакна":
Пусть ваши руки будут сильны, братья,
Любящие пыль родины, где бы ни были.
Не падайте духом, идите, плечом к плечу,
Радостно и с торжеством, на помощь своему народу
В этом сопровождении они прибыли в хайфскую тюрьму, где провели ночь перед отправкой в Акрскую крепость.
Жаботинского поместили в отдельную камеру, и вскоре его навестила делегация ведущих членов хайфской общины: Зелиг Вайкман (шурин Вейцмана), Натан Кайзерман, управляющий Англо-Палестинским банком, и Барух Бина, представлявший Сионистскую комиссию.
Они пришли с новостями: приговоры изменены. 15 лет Жаботинскому – на один год, и три года девятнадцати – на шесть месяцев.
Когда иностранный отдел в Лондоне получил сообщение об этом из Каира, один из высших чинов заметил:
"Это чрезвычайное понижение и, если сообщение правдиво, создается впечатление, что суд, вынесший первоначальный приговор, был необоснованно расположен против евреев"[739]739
См., например, «Дейли Геральд», 24 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Снижение сроков заключения по приказам главнокомандующего египетским экспедиционным корпусом произошло не случайно.
Репортаж о свирепых приговорах, появившийся в лондонских газетах 20 апреля, потряс всех. Один из уважаемых государственных деятелей сказал Паттерсону: "Военное начальство в Палестине, должно быть, с ума посходило". Над головами правительства стала собираться гроза. Лондонская пресса, а следом и провинциальные газеты сообщали новости с неприкрытой симпатией к Жаботинскому. Все они напомнили своим читателям о его роли в организации легиона и мобилизации поддержки Антанты еврейством России и Америки. Они добавляли, что его влияние на мировое еврейство сохранилось и приговор ужаснет евреев[740]740
27 апреля 1920 г.
[Закрыть]. Читателям сообщали, что в Жаботинском евреи видят своего Гарибальди.
По поводу процесса появились статьи в редакционных колонках ведущих газет. Из них явствовало, что официальная версия прессу отнюдь не убедила, так что газеты не выбирали выражений.
Особенно язвительной была "Таймс". Приговор явно послужил мстительным наказанием, писала она. Жаботинский, который "пользуется хорошей и уважительной известностью в этой стране, позволил себе журналистские атаки на британскую администрацию в Палестине – преступление, показавшееся объектам его критики достойным длительного срока заключения”[741]741
30 апреля 1920 г.
[Закрыть].
"Джуиш кроникл" тоже не скупилась на испепеляющие эпитеты: "Господин Жаботинский стал жертвой отвратительного примера свирепого озлобления, равный которому никогда еще не пятнал страницы военной истории"[742]742
Отдел парламентских документов, Кабинет министров 23/21.
[Закрыть].
Члены парламента тоже прореагировали возмущенно. Не успела новость появиться в печати, как правительству стало известно о массе запросов, ожидавшихся на повестке дня в Палате представителей. Вежливые формулировки парламентского наведения справок едва скрывали закипавшую ярость. Нигде не фигурировал и намек на доверие к палестинской администрации. Правительство само, изумленное и поставленное известиями в неловкое положение, не стало дожидаться назревавшей атаки в Палате представителей. Было решено вмешаться немедленно, и на заседании 26 апреля было принято постановление:
"До сведения правительства дошли запросы, поднятые в парламенте по поводу решения наказать господина Жаботинского и других за их участие в недавних беспорядках в Иерусалиме. Господин Жаботинский был приговорен к пятнадцати годам принудительных работ, а другие – к трем годам заключения за владение оружием и за принятие мер по созданию еврейской организации самообороны, что будоражило город. Лорд Алленби приговор поддержал и подтвердил. Кабинету напомнили, что господин Жаботинский был ревностным сторонником нашей страны в течение всей войны и его высоко ценили в военном министерстве и министерстве по колониям.
Кабинет постановил: просить Военного секретаря:
а) довести до сведения лорда Алленби, что приговор господину Жаботинскому кажется кабинету на основании представленных фактов чрезмерным, и просить лорда Алленби лично рассмотреть обстоятельства дела полностью.
б) заявить в Палату представителей, что правительство Его Величества связывалось с лордом Алленби по данному вопросу и проинформирует Палату о результатах при первой же представленной возможности[743]743
«Хансард», 27, 28, 29 апреля, 3, 4, 11 мая 1920 г.
[Закрыть].
При сравнении дат выясняется, что Алленби получил эту депешу как раз во время путешествия Жаботинского и его товарищей в Кантару. Приговоры смягчили через два дня.
Военный министр Черчилль, устав сопротивляться граду запросов, мог бы подчеркнуть, что сроки снижены для успокоения критиков. Но он даже и не пытался – быстрая и разительная перемена только делала поведение администрации еще более подозрительным.
В Палате представителей атаку возглавляли с самого начала те, кто был связан с Жаботинским во время его борьбы за легион – например, подполковник Эштон Паунол, который, будучи командиром 20-го Лондонского полка, сделал возможным для сержанта Жаботинского вести его политическую кампанию, лорд Роберт Сесиль, неутомимо оказывавший в Иностранном отделе содействие легиону и вообще делу сионизма. Так же неутомимо он снова и снова атаковал парламент.
Наименее сдержанным был полковник Джозайя Уэджвуд. Не получив ответа на первые запросы, он напрямик спросил 28 апреля: "Лежит ли на британских офицерах ответственность за погром?"
Хотя Черчилль настаивал, что до сих пор ждет исчерпывающую информацию, он отверг обвинение Уэджвуда. "Предположение, что британские власти состояли в заговоре о беспорядках, превратившихся в погром евреев, – сказал он, – могу утверждать, не имеет оснований"[744]744
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5119/04675, стр. 13, 7 мая 1920 г.
[Закрыть]. На этой стадии Черчилля нельзя обвинять в том, что его ответы на запросы, продолжавшиеся безостановочно больше двух недель, являли собой лучшие традиции уклончивости. Неделями напролет палестинская администрация попросту не выдавала информацию Лондону. 14 мая, через двадцать четыре дня после окончания суда в Иерусалиме, директор военной разведки в военном министерстве генерал Твейтс все еще извиняется перед главой Иностранного отдела лордом Хардингом за невозможность предоставить в его распоряжение отчет о судебном расследовании: на повторные просьбы в Каир об отчете ответа не последовало. В архивах не содержится документация о том, когда, наконец, он был получен; но, учитывая его смехотворное содержание, Черчилль явно не смог бы воспользоваться им для цитирования. К тому же разоблачающее обвинение Майнерцхагена в Лондоне уже получили. Керзон и его главный советник Хардинг не сомневались в его справедливости. Керзон решительно отмел требование Алленби об отзыве Майнерцхагена в наказание за критику администрации. Во внутренней корреспонденции Иностранного отдела Керзон выражает безграничное доверие Майнерцхагену; Хардинг прямолинейно пишет: «То, что военный офицер критикует военную администрацию, вызывает неприязнь Алленби, но, насколько можно судить, и по всем доступным слухам, критика вполне заслужена»[745]745
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5117.
[Закрыть].
Черчиллю, таким образом, мало что оставалось сказать, не осуждая публично палестинскую администрацию – кроме того, что он ждет информацию. Даже по поводу физических условий заключения Жаботинского, – прошло два месяца, прежде, чем Черчилль смог заверить генерала Кольвина, сделавшего четкие запросы, что условия содержания Жаботинского в Акре относительно комфортабельны.
В резолюции от 26 апреля отсутствовала важная составляющая. Упомянуто лишь давление из парламента. Ни слова не сказано о давлении сионистских деятелей. Погром, суд, жестокий приговор снова предоставили возможность для полного разоблачения антисионистского режима предшествующих двух лет.
В январе Вейцман признал, что большой ошибкой было не противиться поведению администрации, как только стали ясны ее враждебные намерения весной 1918 года. Теперь же администрация перегнула палку и вынесла суть вопроса на публичное рассмотрение. Как же случилось, что в протоколе заседания кабинета не упоминаются громогласные требования сионистов назначить правительственную комиссию по расследованию (а не комиссию самой виновной администрации) и компенсировать арест и приговор Жаботинского его немедленным освобождением? Причину молчания кабинета долго искать не приходится: сионисты такого требования не предъявили. В Палестине Временный комитет еврейской общины действительно предложил проект решительно сформулированного требования об этом. Но они снова позабыли часто повторенный совет Жаботинского – адресовать протесты и воззвания не к палестинской администрации или сионистскому руководству, а прямо к английскому правительству. Они отправили свои требования генералу Больсу, который даже не подтвердил их получения. Комитет, не получив поощрения и поддержки от сионистского руководства, воздержался от дальнейших действий.
Что же касается сионистского руководства в Лондоне, оно подало 16 апреля меморандум, протестующий против политики администрации на протяжении недель до начала и во время беспорядков. Меморандум содержал просьбу о присутствии в комиссии по расследованию представителя еврейства и независимого представителя из Англии[746]746
Там же, 371/5118/3715/85/44, 24 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Восемь дней спустя старший чиновник в Иностранном отделе Г. У. Янг доложил, что доктор Радклиф Соломон, подготовленный сионистским отделом, нанес ему визит и выразил пожелание о "независимом" расследовании всей деятельности администрации в Палестине. Янг ответил: "насколько мне известно, вопрос о таком расследовании не стоит"[747]747
Там же, 27 апреля 1920 г.
[Закрыть]. Сионистская организация не обратилась с этой просьбой в письменном виде".
Во внутренней переписке по этому вопросу Янг выражает поддержку идее расследования; спустя три дня, под впечатлением реакции Парламента на приговор Жаботинскому, он направил совет своему начальнику, Хардингу: "Ничто, кроме расследования деятельности всей администрации или немедленного установления гражданской администрации, не подавит критику"[748]748
«Хансард», 28 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Янгу следовало лишь заключить, что сионисты, так сильно разгневанные, окажут непрекращающееся давление на учреждения такого расследования. Но оно не было оказано.
Правительство разрешило Алленби захватить инициативу. Требованиями членов парламента и призывами прессы пренебрегли. Сионисты после первой просьбы к вопросу не вернулись.
Назначенный комитет описывался полковником Уеджвудом как "члены того же профсоюза, что и те, кто под расследованием"[749]749
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5117, 17 апреля 1920 г.
[Закрыть]. В нее вошли, за одним лишь исключением, все те же, кто принадлежал к военной касте в Египте, как и главные фигуры в администрации. Председательствовал генерал С. И. Полин, бывший достаточно ярым антисемитом, чтобы, в свою очередь, участвовать на следующий год в прославленном антисионистском ланче в Лондоне.
Единственное гражданское исключение составлял член Британского общества в Египте, возглавляемого генералом Алленби: он был судьей в апелляционном суде "для местного населения", и его Алленби ввел в комиссию "консультантом по всем вопросам свидетельства и права"[750]750
Центральный сионистский архив Z4/16033, Эдер Вейцману, стр. 104, 14 мая 1920 г.
[Закрыть].
Заседания были закрытыми, но доктор Эдер, вызванный как свидетель, сумел собрать информацию об их ходе и убедиться в их предвзятости. Уже 14 мая он пишет гневный отчет, адресуя его Вейцману. Перечислив конкретные примеры успехов комиссии в откапывании антисионистских свидетелей, он подводит итог: "Из хода допросов свидетелей можно заключить, что администрация будет признана невиновной; что военные власти выполнили свой долг благородно, в трудных обстоятельствах; полковник Сторрс и один-два младших британских офицера, возможно, отчасти будут виниться; вина падет на арабскую полицию и, возможно, на коменданта-араба; будет установлено, что Сионистская комиссия и сионисты достаточно сделали, чтобы арабов спровоцировать"[751]751
«Хансард», 22 июня 1920 г.
[Закрыть].
Что еще требовалось для того, чтобы коллеги Эдера поняли: комиссия по расследованию, вместо того, чтобы раскрыть всю правду об администрации и таким образом оградить от прецедентов, созданных ею, превращается в еще одно орудие для подрыва сионизма? Но даже и теперь, когда можно было воспользоваться благоприятной атмосферой в парламенте и прессе и, более того, сомнениями в самом правительстве, когда можно было мобилизовать еврейское общественное мнение, и в Англии, и в Америке, они оставались в полном бездействии. Ни единого публичного заявления не было сделано Сионистской организацией для разоблачения характера комиссии.
Последняя возможность представилась спустя недели. Ормсби-Гор, оставаясь до конца скептически настроенным, спросил в Парламенте: 'Что это, военный суд по расследованию или гражданская комиссия?"
Черчилль дал поразительный ответ: "Как судебная комиссия, она содержит военный элемент, но теперь, как я понимаю, во главе ее стоит гражданское лицо и отчитывается она перед Иностранным отделом"[752]752
Центральный сионистский архив, z4/1446, 25 июня 1920 г.
[Закрыть].
Эта явная демонстрация того, что правительство старается скрыть истинный состав комиссии, предоставила ниспосланную провидением возможность раскрыть намеренно созданную заинтересованность комиссии, которая неизбежно грозила нанести урон делу сионизма. Этой возможностью не воспользовались. Наоборот, единственная реакция сионистского руководства на заявление Черчилля могла послужить только подкреплением авторитета комиссии.
Леонард Стайн, политический секретарь Сионистской организации, написал Ормбси-Гору дружеское письмо, не в духе жалоб, как он заявил, а "в интересах фактов как таковых". Он писал: "Хотя по всем проявлениям, насколько известно, нет оснований сомневаться в честности комиссии, желательно, чтобы общественность знала, что она представляет собой военный суд, а не беспристрастную инстанцию"[753]753
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5118.
[Закрыть].