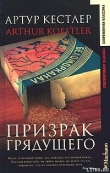Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 53 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ТОСКА по Анне и мальчику, постоянно находившая выражение в его письмах того периода, вызывали у него ощущение, что он похож на schneider'oв [портных (идиш). – Прим. переводчика] из своего полка, пишущих лишь о своих домашних делах. Он немногословно признается:
"Настроение мое не очень хорошее. По мере роста легиона я становлюсь не нужен по-настоящему, мой интерес в этом предприятии угасает, и я чувствую только скуку и тоску по тебе. Это не лень или недостаток понимания значения практически законченного предприятия, но попросту мне ничего не осталось делать. Для участия в переговорах с кабинет министрами достаточно, может быть, быть рядовым; но для участия в жизни нескольких полков следует быть чуть поболее лейтенанта. Я совершенно бесполезен. Все поздравляют и восхваляют меня – а мне тошно от всего и хочется лишь быть с вами".
В том письме он раскрывает еще один аспект своих взаимоотношений с людьми. Он получил от нее несколько писем, так подействовавших на него, что он "был охвачен героическим духом и схватил и понес ружья двух усталых солдат".
В письмах Жаботинский избегает упоминаний об особых трудностях, ниспосланных из высших инстанций на полк, и о постоянной битве, которую вел Паттерсон против пристрастного отношения начальства и попыток штаб-квартиры подавить национальный характер еврейских частей.
"Особое отношение", с которым отнеслись к полку после того как они выполнили задачу по постройке пулеметных траншей из тяжелого камня прямо напротив турецких укреплений, было характерным. Эту тяжелую работу закончили в рекордный срок и без единого раненого. Паттерсон писал: "При всей этой работе с камнем, на крутом холме, вместе с тяжелым маршем туда и обратно, и пробежками вверх-вниз, быстро изнашивалось обмундирование, становившееся поношенным, рваным и грязным.
Тем не менее, как бы обносившимися и потрепанными ни выглядели мои люди, оказалось невозможным приобрести свежее обмундирование, хоть оно и выдавалось по первому требованию в другие подразделения.
Казалось, некоторым людям (в штаб-квартире) доставляло удовольствие лишать необходимой одежды, рубашек, сапог, носков, шорт и посылать солдат на грязную работу, а потом замечать с ехидством: "Полюбуйтесь на потасканных грязных евреев".
Я отсылал снова и снова срочные послания, протестовал, что мои люди не в состоянии маршировать без наличия обуви, и многие практически раздеты из-за нехватки одежды. Я посылал своего снабженца, лейтенанта Смита, снова и снова в распределительные магазины, пытаясь вырвать необходимую одежду, но все было напрасно! Я повидал бригадира и заявил, что во многих случаях наши солдаты в лохмотьях, обносившиеся и босы, но если он и выступил в наших интересах, это было безрезультатно.
Относись мы к бригаде вместо нашего положения "присоединенного" полка, большинства этих неприятностей не произошло бы, но политика местной ставки было держать нас в положении "кочующих евреев", перебрасываемых из одной бригады в другую, в постоянных обходах, как полевая почта"[466]466
«Слово о полку», стр. 244
[Закрыть].
Неожиданно Паттерсона уведомил его бригадир, по всей видимости, посвятивший много времени и воображения способам унизить еврейский полк и его беспокойного командира, что батальону надлежало слиться с двумя батальонами с Вирджинских островов и вместе с 39-м, к тому времени уже прибывшим в Палестину, сформировать новую бригаду. Во главе бригады встанет кто-нибудь, специально произведенный в генералы.
Паттерсон считал своим долгом либо остановить вторую попытку разрушить самоопределение еврейских батальонов, либо подать в отставку. Задача оказалась нелегкой, поскольку искусные меры к выполнению плана уже были предприняты штаб-квартирой. Паттерсон написал резкое письмо непосредственно генералу Алленби, отметив, что приведение этого плана в исполнение повлечет серьезные последствия.
Генерал-адъютант Военного министерства обещал, что еврейские батальоны будут объединены в еврейскую бригаду, и отклонение от этого официально принятого решения может быть воспринято и батальонами, и мировой общественностью как прямое оскорбление еврейства.
"Как бы ни не хотелось мне беспокоить главнокомандующего, я счел своим долгом перед ним, перед людьми под моим командованием, перед самим собой и всем еврейством позаботиться, чтобы еврейскими интересами не пренебрегали беспрепятственно, пока я нахожусь на командном посту. Соответственно, я запросил отмену этого приказа, а в противном случае – освобождения от командования". За этим последовало "исключительно дружественное послание от Алленби, гласившее: "Я понимаю, что объединение еврейских батальонов с полком с Вирджинских островов нежелательно; и я принял решение против этого шага. Я сформирую временную бригаду из двух еврейских батальонов, пока не появится возможность сформировать полноценную еврейскую бригаду. Ее командование будет вверено вам".
Уверенный в том, что бригада сформируется в ближайшем будущем, Паттерсон предупредил Жаботинского готовиться к переводу в ее состав через считанные дни. Но он прекрасно понимал, что в штаб-квартире эта победа вызовет горькое разочарование и что рано или поздно его накажут за причиненное "их курятнику" беспокойство.
Следующий удар последовал уже два дня спустя. Стоял ранний август. Батальон, рабски трудившийся на рытье всех окопов для планируемого на двенадцатое число наступления в Самарии, ожидал, что примет участие в наступлении, но неожиданно был отозван и отправлен в пораженный зноем пустырь Малаги в Иорданской долине, 1300 футов ниже уровня моря, в самый жаркий и нездоровый месяц года. Паттерсон подозревал, что враги батальона в штаб-квартире опасались, что он хорошо зарекомендует себя в бою и спутает их карты[467]467
Паттерсон, стр. 10
[Закрыть].
В разгар этих испытаний Жаботинского вывел из строя несчастный случай. Он сильно порезал колено колючей проволокой. Рана зажила, но во время его присутствия на заложении краеугольного камня Еврейского университета в июле она открылась снова, развился абсцесс, поднялась температура, и он провел десять дней в госпитале.
"В Иерусалиме, – писал он Анне, – ходят слухи о заражении крови. Кто-то интересовался, вынули ли пулю. В Египте наверняка решили, что меня ранило в бою. Короче говоря, если в Лондоне объявят, что я убит, никого не вини".
Страдания, отпущенные батальону, превзошли даже опасения Паттерсона, но в конечном счете, они сумели сыграть историческую роль в судьбе Палестины, и Жаботинский-солдат принял в этом непосредственное участие. Ни один "белый" батальон не находился в Иорданской долине более двух недель. Даже бедуины уходили отсюда между серединой июля и сентябрем. Еврейских солдат продержали там семь недель.
В отличие от Паттерсона, Жаботинский не упрекал штаб-квартиру. Он был убежден, писал он, что ни лондонцы, ни американские волонтеры тридцать девятого под командованием Марголина, прибывшие позднее, не сожалели, что сражались в Иорданской долине.
"Меня снова и снова заверяли старые опытные офицеры, совершенные чужаки, что эти два месяца в самой жалкой норе на всем мировом фронте были сами по себе первоклассным достижением военного дела, наравне с любым из известных чудес выносливости в истории войн и армий! Но даже в Иорданской долине нет места столь же обездоленного, как Меллаха.
Это узкая ложбина, около пятнадцати верст в длину, приблизительно с севера на юг. Почти нигде ни кустика; почва белесая, горько-соленая на вкус; может быть, тут когда-нибудь откроются великие богатства для химика. Посредине течет соленый ручей: два шага в ширину – мало, но вполне достаточно для того, чтобы отравить всю ложбину самой ядовитой малярией"[468]468
Сразу после их свадьбы.
[Закрыть].
Уже на приближении к Меллахе бойцы батальона проявили свой необычайный характер. Генерал Чейтор, командующий австралийской кавалерией в районе, куда был расквартирован батальон, принял парад, когда они промаршировали по прибытии.
Паттерсон писал: "Я уверен, что никогда еще не было просмотра при более странных обстоятельствах. Бойцы маршировали по четыре в ряду, отряд за отрядом, вниз по одной стороне обрывистой лощины, а затем вверх по другой и мимо генерала, который, по всей видимости, ожидал от них шага, по четкости не отличающегося от любого другого; и, странное дело, они маршировали четко, плечом к плечу, несмотря на тяжелейшую почву и полную выкладку. С ног до головы их покрывала пыль.
Ничего не было видно на их лицах, кроме глаз, моргающих на физиономиях, словно окунутых в бочки с мукой, а затем вымазанных сажей, потому что ручейки черного пота бежали параллельными линиями по пыльным лицам.
Зрелище это было самое смешное в моей жизни, но бойцы были невозмутимо серьезны.
Я едва удержался от смеха, когда по команде "равнение налево" они обратили свои комические лица к генералу.
Я заметил ему, что это порядочное испытание – устраивать просмотр сразу после маршировки вверх-вниз по лощине, но он ответил: "Именно потому я здесь. Я хочу посмотреть, как они держатся в самых трудных обстоятельствах, и хочу поздравить вас с их солдатской выправкой и маршировкой".
Воспоминания Жаботинского сохранили живое описание местности и невероятных мытарств батальона: "Кто охоч до красоты трагической, красоты разрушения и вечной смерти, тому есть тут чем налюбоваться досыта. Те же серовато-белые холмы со всех сторон; состава почвы я не знаю, но при виде их невольно приходят в голову аптекарские слова: хлор, щелок, селитра; или еще вспоминается жена библейского Лота и нерукотворный памятник ее где-то по ту сторону Мертвого моря. Если взобраться на эти холмы и обернуться на юго-запад, развертывается сцена первозданных катастроф земной коры: яростно-исковерканные, словно палачом выкрученные утесы – и желтая оголтелая степь без травы, где гонятся друг за дружкой поминутные смерчи из песка и пыли, вершиною с пол-Эйфелевой башни.
Тут и стояли наши палатки по склонам справа и слева от соленого ручья. Времяпрепровождение наше тоже описано в той же самой песне у Данте: "Я увидел большие стада обнаженных теней; одни навзничь лежали на земле, другие сидели скорчившись, третьи беспрерывно слонялись". А каждые вечер с севера ложбины к югу брели вереницы верблюдов, десять, пятнадцать, иногда двадцать; верблюды ступали мягкой, высокомерной походкой, покачивая каждый по две койки с обеих сторон: это везли на врачебный пункт наших товарищей, заболевших малярией. Батальон наш пришел в Меллаху в составе 800 человек, к началу наступления осталось около 500, но после победы вернулись на отдых полтораста и из 30 офицеров половина: убитых и раненых было мало (вообще последняя победа на этом фронте обошлась в смысле человеческих жизней дешево) – косила только малярия; человек сорок из ее жертв так и не поднялись, и теперь они спят на военном кладбище в Иерусалиме, на горе Елеонской, под знаком шестиконечной звезды. Турецкие пушки досаждали нам не реже двух раз в неделю, но вреда не причиняли. В середине сентября к нам присоединились две роты "американцев" под командой полковника Марголина: они стояли к западу от нас, на речке Ауджа, и там их ежедневно, но тоже безуспешно, тревожила большая австрийская пушка с хребтов Галаада за Иорданом, которую англичане ласково называли Джерико-Джэн – Анюта иерихонская. Зато тяжела была здесь ночная работа патрулей.
Иорданская долина в этом месте представляет углубление двухэтажное. Представьте себе улицу, по сторонам ее – высокие стены, а посредине – продольную канаву такой же глубины. "Улица" – это и есть самая долина, в Библии именуемая Киккар, шириною верст в двадцать от подошвы Иудейских гор до гор Галаадских. "Улица", конечно, сама загромождена холмами и провалами, подобно нашей Меллахе. Но чтобы добраться к Иордану, надо еще спуститься в "канаву" глубиной в сто или больше метров – там вторая долина, густо заросшая чем хотите, от пальмы до чертополоха, и в этом тайнике и течет сама речка. Турки еще занимали не только оба берега реки, но и все подходы к "канаве"[469]469
Паттерсон, стр. 128–129.
[Закрыть].
Более того, на ответственной позиции в британской линии фронта батальон мог полагаться только на самого себя. И это в районе, где после разбега к востоку от Средиземного моря она резко поворачивала на юг напротив реки Иордан. Ключевая позиция, любимое место для атак врага, позиция, как ее описывал Паттерсон, "по чести и опасности службы – самый незащищенный участок фронта, который только можно себе представить".
Более того, у них практически не было артиллерийского прикрытия. Все большие пушки Алленби сосредоточил в западном секторе к северу от Яффы, где он планировал массированное наступление. Тем временем разведка сообщила, что за рекой разместились семьдесят турецких пушек.
Это означало, что батальону предстояло удерживать самые слабые и опасные в британской линии обороны позиции в самый тяжелый летний зной и в самый ответственный период военных действий. Жаботинский не жаловался – во всем этом было нечто положительное.
Комендант Леви-Бланчини, офицер с большим опытом, которого итальянское правительство назначило своим представителем в Сионистской кампании заметил: "При всем моем уважении к еврейскому батальону и к Алленби, я не отправил бы солдат со всего лишь трехмесячным опытом службы в подобное место; он о ваших людях, должно быть, высокого мнения".
Так же утешал Паттерсон своих ворчавших подопечных: "Какая вера в еврейских солдат!" – восклицал он.
Жаботинский верил, что в тот период мнение Алленби о батальоне было первоклассным.
"Наши патрули забирались далеко и приносили ценные сведения о расположении турецкого фронта; за одну из этих экспедиций лейтенант Абрахамс, начальник нашей разведки, получил даже благодарность из штаба; даже процент заболеваний малярией (конечно, до прихода на Меллаху) был у нас меньше обычного – подтверждение той теории, что евреи, несмотря ни на что, все еще здоровое племя с упрямой кровью; а может, и отголосок другого нашего качества – у нас не было пьяных! Много зато было у нас – пленных. Говорят, никакой другой батальон не "притягивал" такого количества турецких перебежчиков. В чем дело, не знаю. Было у нас предание, будто во время одной из патрульных перестрелок капрал Израэль из Александрии вдруг закричал во все горло по-турецки: "Приходите к нам сдаваться – накормим!" и будто отсюда пошел у голодных турок говор о том, что в нашем батальоне пленным дают "по жестянке буллибиф на каждого" и даже говорят с ними по-ихнему. Возможно: одно и несомненно – турки давно недоедали"[470]470
Паттерсон, стр. 130.
[Закрыть].
Что касается полковника, у него не хватало похвальных слов для "великолепного духа, с которым наши люди встретили свой долг при этом заброженном истязании нервов". Он писал: "Весь день их пригревает немилосердное солнце, их единственное укрытие – тонкий слой бавуачной парусины; ночи удушающие. Пот струится из всех пор даже в бездействии. Мухи и комары лишают сна, поскольку наши комариные сетки порвались и стали бесполезными, а заменить их было нечем.
Перед наступлением темноты все, за исключением патруля и разведывательной группы, маршировали с полной выкладкой и отправлялись на свой пост в траншеях. Здесь проводились безразмерные ночи. На рассвете люди маршировали обратно, к своим неудобным бивуакам, урвать хоть какой-то отдых перед отправкой снова на работу по закреплению редутов и углублению траншей.
Вода отпускалась только в чрезвычайно ограниченных количествах; каждую каплю приходилось нести четыре-пять миль из реки Айджи. Все вокруг покрывала застойная пыль, так что можно представить, с каким аппетитом съедалась пища в этих обстоятельствах; каждая ложка была полна песка и гравия"[471]471
Паттерсон, стр. 108.
[Закрыть].
Накануне приезда в Иорданскую долину с Жаботинского было провидчески снято гнетущее беспокойство. Операция Эри прошла успешно. Он отреагировал полный радости и гордости.
"Слава Богу, – писал он Анне, – и слава тебе. Ты столп стали, драпированный в шелка. Обожаю и сталь, и шелк".
И правда, Анне приходилось постоянно черпать силы в силе своего характера. Дальнейших операций не требовалось, но Эри все еще не мог говорить нормально. Герцлия Розов, часто молодой девушкой навещавшая дом Жаботинских в Лондоне, говорила автору этой книги, что г-жа Жаботинская часами сидела с Эри, терпеливо повторяя слог за слогом. Наконец, через три года Эри прошел курс речевой терапии с немецким профессором и вырос в выразительного оратора.
19 сентября генерал Чейтор отдал Паттерсону приказ наступать. 38-му вместе с двумя подразделениями 39-го под командованием Марголина предстояло сформировать часть, названную Паттерсоновской колонной. Их задачей в наступлении был захват Умм-Эс-Шертской переправы через Иордан. Переправа находилась около двух миль к востоку от линии батальона на Меллахе, ее хорошо защищали траншеи, колючая проволока и укрепления на подступах к Иордану. Захват переправы был необходимым условием продвижения в Трансиорданию. Тогда, в преддверии развернутого сражения, Жаботинский написал Анне письмо, которое предстояло доставить друзьям Израилю Розову и Шломо Салтману в случае его гибели: "Я не знаю, как пишутся такие письма. Перед тобой и Эри я чувствую себя очень виноватым. Может быть, более благородно с моей стороны было бы оставаться в Яффе, как меня и просили. Но не могу позабыть твою фразу, возможно, тобой и забытую. Ты мне сказала в Лондоне: "я так рада, что ты не трус". Есть в этих словах нечто сильнее нас. Клянусь тебе, что то, что думают люди, мне безразлично, но мысль о том, что ты или Эри можете сказать обо мне что-нибудь уничижительное, решает для меня эту проблему.
Я принес тебе, Аня, много испытаний, но всю мою жизнь ты была моей великой любовью. В течение многих лет, по мере того, как постепенно растворялись мои мечты, я трудился частью из чувства долга, частью поскольку не находилось рамок моему таланту.
Единственной уцелевшей моей мечтой было тепло дома вместе с тобой и Эри, хотя бы на несколько лет, чтобы хоть немного воздать тебе за все. Этому не сбыться, если до тебя дойдет это письмо.
Может быть, я оставлю тебе и Эри хорошее имя.
Прости меня, Аннеле, за все во имя любви, которую мне не доведется тебе доказать. Я часто вспоминаю нашу историю, от того первого вечера на Диктиани до того дня в Саутгемптоне – 23 года. Если бы они были отведены мне еще раз, они были бы счастливее. Но нет и не может быть более прекрасного в моей памяти! Перечти одно из моих старых писем из Вены[472]472
Паттерсон, стр. 186.
[Закрыть]. Я написал бы его снова. Покажи когда-нибудь это письмо Эри. Оно адресовано и ему тоже".
По обе стороны реки располагались турецкие части, и первой задачей батальона было связать их здесь, предотвратив переброску подкрепления на север или через реку на западный берег.
Каждую ночь из батальона совершались вылазки, открывавшие огонь вдоль линии обороны.
Турки в ответ стреляли сначала из ружей и пулеметов, потом из артиллерийских орудий.
Единственными потерями стали несколько раненых.
"Почему у нас нет тяжелых потерь, для меня загадка, – писал Паттерсон, – моим людям приходилось наступать в открытую по участку, ровному, как бильярдный стол"[473]473
«Слово о полку», стр. 246–247.
[Закрыть].
После того как турки оказались успешно задержаны на трое суток, часть под командованием лейтенанта Кросса получила приказ взять переправу.
Операция провалилась, часть попала в ловушку, Кросс был взят в плен, а командир транспортной части, капитан Джулиан, был ранен.
На следующий день последовал повторный приказ – на этот раз части Жаботинского. Чейтор хотел, чтобы переправа было освобождена той же ночью и "любой ценой".
Из-за малярии в части осталось всего три офицера и 80 солдат. Жаботинский временно служил замом командующего, и ему было приказано выполнить основную операцию, а лейтенантам Барнсу и Абрамсу – прикрыть его с флангов. Полковник пишет об операции Жаботинского в хвалебных тонах. Сам Жаботинский преуменьшает свою роль: "В нашей работе не было ничего достойного похвал: план был тщательно разработан полковником, нам следовало лишь выполнить его. Я описываю эту операцию только потому, что о ней упоминается в отчетах Алленби и еще потому, что это мой последний военный опыт; и признаюсь, что в сравнении с патрульной службой, ей предшествовавшей, это были детские игрушки.
В полночь мы начали марш напрямик к Умм-Эс-Шерт, оставив позади горный хребет. Мы не скрываясь маршировали в полный рост по широкой турецкой дороге, потому что днем заметили, что переправа на нашей стороне реки не охраняется. В ста шагах от холмов мы залегли и выслали лазутчиков. Они вернулись с донесением, что дорога свободна. Мы снесли наш льюсковский пулемет к берегу и заняли позицию на небольшой возвышенности напротив переправы.
Пулемет в этой позиции покрывал оба берега реки. Я оставил сержанта Москву с двадцатью бойцами и отправился с остальными прочесывать лес рядом с нашим берегом.
Выстрелы раздались лишь однажды, и они донеслись с другой стороны. Мы в ответ не открыли огонь.
Я, тем не менее, просигналил Бэрнсу, откуда раздались выстрелы, и мы открыли огонь из пулемета. Пять минут слышались ответные выстрелы; потом наступила тишина. Это, вероятно, был арьергард отступавших турок.
Я просигнализировал, что переправа свободна; полковник связался по телефону со ставкой генерала Чейтнора, и уже через час первые драгуны переправились через Иордан и начали теснить отступавших турок от земли Гилеада.
Паттерсон вспоминал Библию. "Любопытно, – писал он, – что все продвижение Британской армии в Палестине, выдворившее турок из страны, фактически опиралось на сынов Израиля, опять бившихся с врагами недалеко от того места, где их предки пересекли Иордан под командой Джошуа"[474]474
«Слово о полку», стр. 251–253.
[Закрыть].
Жаботинский лаконично комментировал: "Переправа, ключ к Трансиордании, была нам отдана турками, любопытный факт в свете того, что на сегодняшний день Трансиордания исключена из еврейского национального очага".
Австралийская кавалерия беспрепятственно пересекла Иордан. Следом прошла еврейская пехота, 39-й, полковник Марголин и его американцы.
Они шли на Эс Солт, где Марголин организовал оборону против возможного контрнаступления турок, и расположился там как командующий городком и окрестностями. 38-й вошел в Трансиорданию только следом за
39-м. В этом не было злого умысла. Через несколько месяцев генерал Чейтор, "человек большого сострадания и понимания, дьявол в работе по эффективности, но всегда готовый на хвалу, где она причиталась, даже и евреев"[475]475
САВ 23 (Протокол заседания кабинета министров).
[Закрыть], пояснил в обращении к батальону:
"Я хочу сказать, как я сожалею, что не удалось отправить вас в фургоне в наступление на Эс Солт. Я хотел, чтобы вы были там, и желал этого, но индийская пехота и другие части были в более выгодной позиции для атаки, в то время как вы еще были связаны на расстоянии в мили к северу в песчаных дюнах Иорданской долины. Да и в любом случае, если бы вы и были в фургоне, вы бы вряд ли участвовали в бою. Поскольку кавалерия прорвалась вперед и захватила Эс Солт и Амман до того, как прибыла пехота.
Я рад, что могу вам сообщить, тем не менее, что я в особенности доволен вашей доброй службой на Меллахском фронте и вашим галантным захватом переправы у Умм-Эс-Шерта, и победы над турецким арьергардом в момент, когда я отдал приказ. И это позволило мне провести кавалерию через Иордан у этой переправы; таким образом, вы внесли материальный вклад в захват Эс Солта, и ружей и прочего вооружения, захваченного нами; в захват Аммана, в перекрытие железной дороги Херджада и уничтожение 4-й турецкой армии, ставшее значительной помощью в победе у Дамаска"[476]476
Паттерсон, стр. 188–189.
[Закрыть].
Марш в Трансиордании был из всего, испытанного Жаботинским, самым тяжелым. Даже Паттерсон, еще помнивший бурскую войну под жарким африканским солнцем, говорил, что не помнит такого тяжелого похода.
Опять Жаботинский оставил живое описание: "Труден был уже и самый путь по равнине, от моста к подножию Моавитских гор. Турки, отступая, подожгли сухие заросли; тяжелый черный дым в безветренной жаре лежал на земле пластами; чтобы не кормить друг друга пылью, мы шли взводами на большом расстоянии друг от друга и часто из-за дыма теряли связь и сбивались не туда. Фляжки опустели на втором привале – что не выпили, то высохло, сквозь войлок и никель. Но потом начался подъем, и было это как раз в полдень или около; крутой подъем, от 14 до 25 градусов, и солдаты шли с пудовым своим вьюком на спине: запасные сапоги, одеяло, фуфайки, носки, бритва, посуда, мазь для пуговиц, чтоб блестели. Роскошь британской экипировки – отличная вещь на ночлеге, но не в пути. Офицеры помогали, чем могли, каждый из нас тащил по две и по три винтовки, даже "падре", наш батальонный раввин, вопреки уставу тоже нагрузил себя орудиями смертоубийства; но все это была капля в море. Чуть ли не поминутно "выпадал" кто-нибудь из рядовых: бросался в тень под скалою – да и тени собственно не было – и оставался там, зажмурив глаза, разинув рот и хрипло дыша во всеуслышание. Я сначала приписывал это невыносливости наших солдат, но скоро успокоился: на шестом километре "выпал" английский фельдфебель и два английских сержанта, плечистые малые, которых нам прислали недавно на пополнение убыли от малярии.
Теперь мы шли уже красивыми местами. Тут когда-то бродила по горам с подругами дочь судьи Иеффая, оплакивая свое девичество перед смертью. Внизу, под извилистой дорогой, бежала звонкая речка, по-арабски Вади-Нимрни, а в Библии – Воды Тигровые. Но вместо тигров берега ее были усеяны конскими трупами. Зачем турки, убегая, перебили столько своих лошадей, до сих пор не знаю"[477]477
Паттерсон, стр. 121–123.
[Закрыть].
Также необъяснимо, что турки оставили много револьверов и амуниции. Почти все было подобрано бедуинами. Одного из них застал на месте преступления Жаботинский и конфисковал его осла.
В письмах жене в ту неделю он снова воспевает "наших ребят". О своем собственном участии он говорит: "Сражения лицом к лицу не было, потому что турки бежали, хотя всю ночь шла перестрелка. Мое основное геройство заключалось в конфискации осла".
После того как батальон прошел почти весь путь обратно в Эс Солт, полковник приказал части Жаботинского повернуть назад в Иорданию и проследовать в Иерихон. Часть, численность которой от малярии упала до 18 человек солдат из трех офицеров, должна была конвоировать 900 турецких и 200 немецких пленных.
Описание Жаботинским этого марша проливает значительный свет на это: "Стемнело, и мы их повели: тысячу сто человек, турок и немцев, за шестнадцать верст, по безлюдным солончакам и обгорелым зарослям, под охраной восемнадцати солдат, почти все портные из Уайтчепла, с двумя офицерами и "падре": он тоже решил непременно пойти. Я шел сзади в черной, сырой и жаркой темноте и думал о том, что, собственно говоря, они голыми руками могли бы нас передушить; но они послушно плетутся как полагается, по четверо в ряд, немцы даже стараются идти в ногу, а наши солдаты, привинтив штыки к заряженным винтовкам, шагают справа и слева, "цепью", в которой звено звена не только не видит, но и оклик не сразу услышит.
"Падре", верхом на Коган Иксе, то уезжает вперед, то возвращается: надзирает, чтобы пленных не обижали или чтобы они сами не обижали друг друга.
Так мы тащимся без конца старушечьим шагом, снова наперерез той же Богом отверженной долины. Все молчат, кроме тех, у кого ломит голову от малярии. Но таких десятки. Немцы (их выстроили сзади) сдержанно стонут, но турки хнычут в голос как маленькие дети, или как те шакалы, что невидимо бегут за нами в стороне, оплакивая горемычную землю.
"Падре" спешился и идет со мною за колонной. Вдруг мы слышим, далеко впереди, крик, свист, потом выстрел. Я оставляю в арьергарде "падре" и сам бегу на беспорядок. У края дороги две фигуры (а колонна плетется дальше): на земле стонущий турок, а над ним солдат, уроженец Александрии, из галлиполийских "ветеранов" Трумпельдора, сердито кричит на лежащего по-турецки:
– Кто стрелял?
Галлиполиец объясняет: турок не хочет идти дальше, горячка замучила, хочет умереть в степи. Он уж пугал его бедуинами и волками, но не помогло; тогда он выпалил в небо и сказал: "Вот так я тебя застрелю, если не пойдешь" – и тоже не помогло.
– Отберите двух турок покрепче, – говорю я, – пусть они его тащат.
В темноте я угадываю, что он на меня смотрит с презрением, как на несмышленыша; и он докладывает кратко и деловито:
– Они его в темноте выкинут.
Колонна плетется, и теперь уже идут мимо немцы. Я отбираю четырех, спрашиваю их имена, притворяюсь, будто записал их в книжечку; солдат отдает им свое одеяло, и я им приказываю тащить турка до Иерихона. А дотащили до Иерихона или нет – не знаю.
Возвращаюсь назад, и опять мы бредем и молчим. Около версты, потом опять выстрел, уже много дольше впереди. Я пожимаю плечами. "Падре" заносит ногу, хочет сесть на осла; я грубо дергаю его за ногу и говорю:
– Не суйтесь. Это впереди, там Барнс, пусть он и разбирается.
"Падре" шепчет дрожащим голосом:
– А если – если пристрелят?
Немец, идущий перед нами, видно, понимает по-английски: он громко говорит своему соседу:
– Одно средство: пристрелить. Не оставлять же их тут, на голодную смерть, а шакалы еще уши отгрызут.
"Падре" затихает и всматривается вправо и влево. Много там разберешь в темноте, где камень, где куст, где что другое.
Тащимся, тащимся и все думаем одно и то же. Неделю тому назад эти люди были здесь ужасом и красою земли. И ведь только случайно мы их ведем, а не наоборот. Много я передумал в ту ночь. Видел я Реймский собор под обстрелом и дуэль аэропланов в воздухе, и queules cassees и немецкие налеты на Лондон – солдаты с фронта божились, что это хуже Ипра: в Ипре хоть не было в этом грохоте женского и детского плача. Все это страшно. Но калечить людей и губить города умеет и природа. Одного не умеет природа: унизить, опозорить целый народ. Это горше всего; и это монополия человека. Живал я и в Берлине, и в Вене, и в Константинополе, видел эти самые обломки образа и подобия Господня, как они работали, как они смеялись, как гуляли со своими барышнями по Пратеру и курили наргиле в переулках Галаты. Часто теперь, когда обзовут меня публично милитаристом, я вспоминаю ту ночь, и дорогу, и долину Иордана, в тени той самой горы Нево, где когда-то умер пророк Моисей от Божьего поцелуя; вспоминаю и не отвечаю, не стоит.
Грозная это вещь – жизнь нации; тяжело тащиться пустыней; не можешь? Ложись, помирай. Человечество – тоже полк, только без доброго "падре", и никто тебя не понесет до Иерихона. Бреди, пока бредется, жестокий к себе и к соседу; или ложись и пропадай, вместе со своей надеждой[478]478
Паттерсон, стр. 127.
[Закрыть].