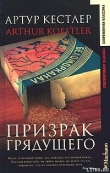Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 53 страниц)
Через многие годы, в 1929 году в Иерусалиме, на вечере в честь газеты "Доар а-Йом", редактором которой ему предстояло быть, он сказал, что его образ мышления тоже сефардский, то есть, менее покореженный галутом, чем ашкеназийский"[110]110
Повесть моих дней, стр. 88.
[Закрыть].
* * *
Иным был эффект среди турок. "Но не добился я успеха, например, у Назим-бея, генерального секретаря партии младотурок, отца и истинного инициатора революции, возможно, послужившего решающим человеческим фактором, который помог ускорить крушение Оттоманской империи. Это был человек непритязательный и бедный, как средневековый подвижник, холодный и застывший в своем фанатизме, как Торквемада, слепой и глухой к действительности, как чурбан. Снова тот же напев: несть эллина, несть армянина, все мы оттоманы. И мы будем рады приезду евреев – в Македонию. Та же песня у всех министров, депутатов парламента, журналистов. В общем, не в моей привычке считаться с первым отказом, исходящим от непреклонных, а также со вторым и третьим отказом: может, они переменят свое убеждение, подождем и увидим. Но здесь я сразу почувствовал, что никакой опыт не поможет, никакое давление: здесь отказ органический, окончательный, общая ассимиляция – условие условий для существования абсурда, величаемого их империей, и нет другой надежды для сионизма, кроме как разбить вдребезги сам абсурд"[111]111
См. рассказ «Эдме» в карманном издании «Нескольких историй, в основном реакционных».
[Закрыть]. Этот не предвещавший добра результат – хотя делать выводы было еще рано – получил дополнительную окраску от его константинопольских впечатлений. «Я ненавидел Константинополь и свою работу, работу впустую. Зимой я поехал в Гамбург, на Девятый конгресс, я наслаждался передышкой, великолепием Европы, стремясь забыть на какое-то время опостылевший мне Восток, но на конгрессе, как и прежде, у меня не было никакого другого дела, кроме как голосовать, по большей части вместе с остальными делегатами из России»[112]112
Рассказано автору Клебановым в 1951 году, когда он был членом Кнессета.
[Закрыть].
Его отталкивала архитектура, уличная разношерстная толпа, резкие краски природы и "ужасный" Босфор. Он был также чувствителен к восточной отсталости[113]113
«Erez Izrael, Das Judische Land» (Cologne & Leipzig, 1909).
[Закрыть].
Чувства, испытанные Жаботинским, раскрываются в истории, рассказанной им Якову Клебанову, одному из его молодых коллег из Петербурга, навестившему его в Константинополе. Аня, приехавшая к мужу, вскоре после приезда заболела. Жаботинский вызвал ближайшего врача из практикующих в округе. Тот, молодой и владеющий французским, обследовал пациентку, объявил недомогание несерьезным и выписал лекарство. Жаботинский предложил ему бокал вина и заметил: "Ваш акцент на французском не турецкий, он похож на греческий". "Вы правы, – ответил врач. – Я из Афин". – "Из Афин?" К чему бы, подумалось Жаботинскому, врач-грек покинул относительно европеизированные Афины ради практики в отсталой Турции? "Что привело Вас сюда из Афин?" – спросил он. – "В медицинской школе в Афинах, – сказал доктор, – в случае провала выпускных экзаменов дают выбор: ты можешь заниматься дополнительно год или получить диплом, помеченный "годен для Турции"[114]114
"Erez Izrael, Le Pays Juif' (Brussels, 1910).
[Закрыть].
Существовали и практические сложности, обычные финансовые затруднения, преследовавшие сионистскую деятельность повсеместно и осложнявшиеся невозможностью заставить политические журналы выплачивать гонорар.
Деньги, предоставленные русскими сионистами и собранные специально для этой цели, иссякали.
И все же конец деятельности Жаботинского в Турции положило совершенно непредвиденное обстоятельство. Политика, которой следовало придерживаться Комитету по средствам печати, была выработана в предварительных совещаниях между русскими сионистами и Вольфсоном, с участием Якобсона и Жаботинского. Требования к туркам должны были ограничиваться поощрением алии и свободой распространения и внедрения иврита. Особую осторожность следовало соблюдать по предотвращению подозрений младотурок о еврейском государстве, не позволять даже намека на сепаратизм, вызывающий ярую враждебность. Все согласились, что это необходимо. Несмотря на весь либерализм, режим младотурок держался на военном положении. Правительство имело право закрывать газеты и организации по своему усмотрению. Более того, Жаботинский и Якобсон были бы как иностранцы только высланы, но их соратники – турецкие подданные, или "оттоманцы", могли быть сурово наказаны.
Якуб Канн, один из трех членов Комитета по внутренним делам (вместе с Вольфсоном и Боденгаймером), после визита в Палестину в 1907 году написал книгу, в которой выразил как раз все запрещенные, опасные идеи. Он призывал к автономному еврейскому управлению Палестиной, с еврейской армией – хоть и под командованием султана, тогда еще стоявшего у власти. Книга вышла на немецком[115]115
Повесть моих дней, стр. 89.
[Закрыть], а затем на французском[116]116
Повесть моих дней, стр. 89.
[Закрыть]. Она была, по скупому замечанию Жаботинского, «издана прекрасно».
Сначала начал протестовать в ноябре 1909 года Якобсон, официальный представитель Всемирной организации в Турции. Он умолял Вольфсона опустить опасные абзацы, хотя бы во французском издании. Вольфсон тут же отмел его протест, согласившись только на то, что в случае критики в прессе он, в качестве президента Всемирной организации, пояснит, что Канн написал книгу как лицо частное и в любом случае до революции младотурок. Заболев, Якобсон уехал на лечение в Европу, и Жаботинский принял на себя контакты с Вольфсоном.
"Ирония судьбы и более чем ирония – комедия, что именно я, я и никто другой, был поражен этими идеями. Однако, клянусь жизнью, меня поразили не идеи, а анархия, царившая в нашем правлении. Здесь, в Константинополе, всего годом ранее мы вместе с президентом и с Якобсоном установили рамки нашей программы. Мы требовали алии и языка, и только алии и языка. Но даже намеком не упомянули мы такие опасные вещи, как автономия, – запретное слово, которое в ушах младотурок являлось пределом "трефного" и верхом мерзости; и мы решили не отклоняться ни на волос от этой тактической линии…"[117]117
CZA (Центральный сионистский архив) Вольфсон к Жаботинскому, 19 мая 1910 года.
[Закрыть].
То, что Канн выразил стремления и замысел самого Жаботинского и в конце концов всего сионистского движения, к делу не относилось. "Мил мне государственный сионизм, с дней моего детства я не знал другого сионизма, но логика мне милей. Я не только поразился, но и рассердился, и написал подробное письмо Вольфсону с настоятельной просьбой приостановить распространение книги"[118]118
Центральный сионистский архив, Якобсон Вольфсону, 23 мая 1910 года.
[Закрыть].
Тем временем не только Комитет по средствам печати, но и все еврейские сотрудники в газетах и местные сионистские лидеры, раввин ашкеназийской общины д-р Маркус, преподаватели иврита и прочие активисты созвали подпольное заседание и приняли единогласное решение телеграфировать Вольфсону просьбу об отставке Якуба Канна и отмежевании Комитета внутренних дел от его книги во избежание разрушения сионистских структур, так тщательно созданных.
Последовал резкий обмен любезностями. Несмотря на то, что Жаботинский обращался от имени Комитета по печати (Якобсон поддержал его безоговорочно из Парижа, где он выздоравливал после болезни) и, по существу, от имени всей организации; несмотря на то, что русские сионисты заняли такую же позицию, а константинопольские активисты отправили вторую телеграмму в поддержку необходимости отмежеваться от работы Канна, письма Вольфсона, адресованные непосредственно Жаботинскому, приобрели оскорбительный характер. Жаботинский, по утверждению президента, содержался на зарплате и должен был следовать указаниям, он не имел права выходить за рамки своих журналистских обязанностей.
Более того, по инициативе Вольфсона Комитет по внутренним делам провел резолюцию, официально осудившую Жаботинского. Он также принял решение прекратить высылку денежных средств Комитету по печати.
Осуждающая резолюция была направлена Якобсону для передачи Жаботинскому, но он отказался ее доставить.
Однако Жаботинский уже принял решение, что с него хватит. 4 мая 1910 года, до получения резолюции, он выслал свое заявление об отставке. Якобсон и Хохберг, его сотрудники по Комитету по печати, отставку принять отказались. Якобсон призвал Вольфсона поступить так же, но тот опять ответил пренебрежительно.
"Успехом L'Auiore, – писал он, – была обязана работе Сциутто; что же касается «Младотурка», там симпатизировали сионизму еще до прихода Жаботинского в состав редколлегии"[119]119
Повесть моих дней, стр. 91. См. также И. Тривус «Жаботинский и младотурки». «Ха машкиф», 18 июля 1941 года.
[Закрыть].
Якобсон, обычно подчинявшийся диктату президента, на этот раз не оставил без ответа подобную желчную ложь. Он представил Вольфсону сравнительные данные за период в шесть месяцев. 1 ноября 1909 года недельный тираж "Младотурка" составлял 5000. К 30 апреля 1910 года он удвоился, а в первую неделю мая достигла 11000. Число подписчиков возросло более чем на 70 %. Доход от рекламы – на 30 %.
"Что касается содержания газеты, – решительно заявил Якобсон, – оно улучшилось неимоверно – и всецело благодаря руководству и усилиям, в первую очередь, Жаботинского"[120]120
Беседы с доктором Яковом Даммом, который слышал это от Шехтмана (Тель-Авив, 1987).
[Закрыть]. Для полного представления об эпизоде с Канном надо сказать, что Вольфсоном двигала не только личная враждебность или стремление утвердить собственный авторитет, даже защищая политически безответственное поведение. Едва ли не основным побудительным мотивом была неприязнь к русскому сионистскому руководству, которое к тому времени оказало ему значительное противодействие. Комитет по печати он рассматривал как «русское» детище.
Невозможно с уверенностью предугадать, какой эффект могла бы произвести деятельность Жаботинского на политику Оттоманской империи за два-три года. Можно предположить, что она не изменила бы ее сущность. Отрицательное впечатление, сложившееся у Жаботинского в результате контактов с государственными деятелями младотурок и другими представителями их мировоззрения, – в отличие от иллюзий его собственных и его коллег – оказалось впоследствии справедливым. Младотурки не только не смягчили свое отношение к сионизму, но с годами ужесточили его. Оппозиция к еврейской иммиграции в Палестину стала еще более целенаправленной, и ограничения (выдавался "красный билет" – разрешение на пребывание до трех месяцев) соблюдались с усиленным рвением – хотя, к счастью, не очень эффективно; ограничения на покупку земель иностранцами продолжали действовать. В самой Турции, после медового месяца с еврейской общиной, возобновилась традиционная дискриминация евреев.
Превалирующим настроем в общине была ассимиляция, и большинство предводителей общины, возглавляемой сефардским главным раввином, подчеркивали свою враждебность сионизму. Они чрезмерно стремились продемонстрировать свою лояльность Оттоманской империи.
На этом фронте ошеломляющий дебют Жаботинского пробил брешь; при его популярности, отмеченной всеми, можно с уверенностью предполагать, что со временем он мог бы завоевать для сионистов значительно большее влияние.
Что же касается эффекта от книги Канна, которую тот разослал представителям прессы и ведущим политическим деятелям, она не привела ни к чему существенному. Страхи, вызванные ею, не подтвердились, несмотря на логику обстоятельств и усилия некоторых евреев-антисионистов. Оптимизм Вольфсона, вопреки логике, оказался оправданным. Причина, по которой турки не отреагировали, достаточно ясна. Во всех случаях, решительно препятствуя политическому прогрессу сионистов в Палестине, они могли проигнорировать важные прокламации даже вождей сионизма. Ретроспективно Жаботинский это оценил. Он пишет в автобиографии: "Напечатай он [Канн] свое сочинение даже на чистом турецком языке и расклей его на стенах мечети Айя-София, оно бы не повредило. Нельзя повредить там, где ничего нельзя достигнуть. И я навеки благодарен ему за то, что он помог мне освободиться от бесполезной обузы, хотя я и очень сожалел, что расстаюсь со своими друзьями-сионистами в Константинополе"[121]121
См. Китвей Зэев Жаботинский. Библиография. Тель-Авив, 1997, стр. 91-114.
[Закрыть].
Не самым маловажным результатом работы Жаботинского в Турции было понимание турецкого характера, приобретенное им, и глубокое познание центробежных и центростремительных сил, действовавших на структуру и руководство империи. Они сфокусировали его видение и поддержали его веру в себя, когда спустя четыре года он принял, вопреки многочисленным препятствиям, одно из самых важных политических решений в своей жизни.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
В АВТОБИОГРАФИИ Жаботинский упоминает последующие четыре года своей общественной жизни с оттенком горечи. Он вернулся в Россию: на два года в Одессу, затем – в Санкт-Петербург.
Следует отметить, что ему нечего было стыдиться ни в своей литературной деятельности, ни в политической. И все же он испытывал чувство изоляции и недовольства, "которое однажды привело меня в Вену". Лаконично он подытоживает: "Я не люблю память об этих четырех годах и буду краток в своем описании".
Об этом приходится пожалеть, поскольку, как ясно из его краткого описания, а также из других источников, то были годы, полные деятельности большого, временами исторического значения. И в них заложены явные предпосылки течения всей его жизни.
Наименее значительным был, как оказалось, его визит в Ярославльский университет, где он сдал с отличием выпускные экзамены по праву. Несмотря на разрешение практиковать, он по-прежнему избегал удручающей судьбы, однажды описанной им, – превращения в успешно практикующего юриста.
С получением университетского диплома ему представилась возможность поселиться в Петербурге без ограничений.
Интересным комментарием к его университетскому опыту служит ответ на вопрос одного из экзаменаторов о его знании латыни. "О, – сказал Жаботинский, – я говорю на латыни довольно свободно"[122]122
Шехтман, том I, стр. 147.
[Закрыть].
Он возобновил свою колонку в "Одесских новостях". В основном, как и раньше, он посвящал заметки широкому диапазону тем, литературных, театральных, политических – международных и русских, но теперь около трети их были на еврейские темы[123]123
История моих дней, стр. 65–64.
[Закрыть].
Для ежедневной газеты, адресованной всероссийской публике, такое было неслыханным. Некоторые члены редколлегии протестовали. Редактор Хейфец, тем не менее, упрямо его поддерживал.
На то была очевидная причина. "Жаботинский находился в зените зрелости журналистского таланта. Ясное и отважное мышление, широкие познания, исключительное владение русским языком, элегантность стиля в сочетании с духовной готовностью к сражениям превращали каждую его статью в литературное и политическое событие", – пишет Шехтман[124]124
«Homo Homini Lupus». Фельетон, Санкт-Петербург, 1913, стр. 101–114.
[Закрыть].
Сам Жаботинский признавался спустя двадцать лет, что считает статьи 1910–1912 годов "пиком моей публицистики".
Его откровенность вскоре вызвала жестокую конфронтацию. Смело распознав побеги польского антисемитизма, он выступил с предупреждением польским борцам за самоопределение, что если они обретут свободу, им не следует использовать ее для угнетения своих меньшинств.
Эта проблема была не новой. Польша славилась антисемитизмом, пронизывающим все слои общества. Жаботинскому лично довелось испытать его глубину.
В автобиографии он описывает встречу в 1905 году с Элизой Ожешко, писательницей, "известной и высоко ценимой как друг евреев, и в целом представительницу гуманистического поколения, члены которого перевелись в сумерках 19-го века… Я был принят седоволосой дамой, элегантно одетой, аристократично державшейся, с манерами старомодной изысканности, исчезнувшей с тем поколением. Она прочла мое имя на одной из визитных карточек, которые мы послали ей, и сказала мне по-польски:
– Я видела последний номер 'Глос жидовски". Пан возражает против предоставления Польше самоуправления?
– Это зависит от одного обстоятельства, пани, – отвечал я. – Я готов всем сердцем солидаризоваться с восстановлением Польши "от моря до моря", государства, в пределах которого будет проживать большая часть евреев России и Австрии, если польское общество согласится с нашим равноправием в двух аспектах: гражданском и национальном. Но ныне среди варшавской общественности преобладает совсем другая тенденция. Господин Дмовский заявил открыто, что его фракция использует автономию, чтобы прежде всего погубить евреев. Полагает ли пани, что и при таких условиях мы должны поддерживать приход его к власти?
Она не дала мне прямого ответа. Она вообще не "полемизировала" с нами, ибо это было противно традиционным законам гостеприимства, принятым у таких властителей дум. И все же впоследствии в ходе естественно завязавшейся беседы, она заметила с тихой печалью:
– Всю жизнь я пыталась трудиться ради взаимопонимания и добрососедских отношений между вашим народом и моим. Видно, напрасно трудилась…"[125]125
«Не верю», «Одесские новости», 11 августа 1910 года. Фельетоны, Санкт-Петербург, 1913, стр. 115–124.
[Закрыть].
Следует отметить, что в этот период – июль 1910 года – вызов Жаботинского и по содержанию, и по стилю продемонстрировал непосредственное отношение к польской проблеме.
Первым залпом стал очерк "Homo Homino Lupus Est" ("Человек человеку волк"), опубликованный в "Одесских новостях" 18 июля 1910 года. Эта статья – прекрасный пример его публицистики. За основу он взял событие, обманчиво отдаленное, – газетное сообщение об ажиотаже в Соединенных Штатах вокруг боксерского матча между Джеком Джонсоном и
Джимом Джеффрисом, о победе черного Джонсона над белым Джеффрисом и бунтах против черного населения, прокатившихся по ряду американских городов вслед за этим матчем.
Этот взрыв был необычен. Обычным поводом для бунтов белых против негров – и их линчевания – было какое-либо специфическое обвинение, например, изнасилование белой девушки. На этот раз, писал он, подобный повод отсутствовал. "Попросту два широкоплечих увальня по обоюдному согласию молотили друг друга кулаками с разрешения местных властей и под наблюдением известных экспертов по этому тонкому искусству. Причиной последующего побоища между белыми и неграми в соотношении приблизительно пятидесяти к одному была, следовательно, непереносимость для белых мысли о торжестве негритянской гордыни из-за победы негра. Это была, – пишет Жаботинский, – чисто расовая ненависть". От развернутого, очень критического анализа отношения белых к неграм в демократической Америке он переходит к Европе, к народам, которые попираются сами и попирают другие народы из чисто расовой ненависти. Центральным примером послужила Финляндия, где в тот период на фоне относительно демократического режима процветал жестокий антисемитизм. Затем Жаботинский перешел к Польше. В Галиции, относившейся к Австро-Венгерской империи с ее гарантией равноправия, поляки имели толику независимости. Ею они беспощадно пользовались для дискриминации украинского населения. Жаботинский рисует грустную картину этой дискриминации. Но не только украинцев: так же сдержанно, бесстрастным языком исследователя Жаботинский описывает унижения и страдания евреев, угнетаемых галицийскими поляками. Затем он переходит к жестокому антисемитизму, пересекшему границу "российской" Польши. Русский читатель не нуждался в подробностях, и Жаботинский повел атаку на "прогрессивную прессу", полную сочувствия к полякам, страдающим под гнетом русских, и не упоминающую об отношении поляков к евреям. Очерк заключался пессимистическим пассажем о человеческой натуре.
"Мудр был философ, который сказал: Homo homini lupus est. Человек для человека хуже волка, и долго мы этого ничем не переделаем, ни государственной реформой, ни культурой, ни горькими уроками жизни. Глуп тот, кто верит соседу, хотя бы самому доброму, самому ласковому. Глуп, кто полагается на справедливость: она существует только для тех, которые способны кулаком и упорством ее добиться. Когда слышишь упреки за проповедь обособления, недоверия и прочих терпких вещей, иногда хочется ответить: да, виновен. Проповедую и буду проповедовать, потому что в обособлении, в недоверии, в вечном "настороже", в вечной дубинке за пазухой – единственное средство еще кое-как удержаться на ногах в этой волчьей свалке"[126]126
«Сопротивление», «Рассвет», март, 5, 22, 4 апреля 1913.
[Закрыть].
Вся варшавская пресса, особенно предводитель антисемитов Роман Дмовский, обрушилась на статью, по существу представлявшую социологический анализ существующей ситуации. Жаботинского обвинили во враждебности к полякам как народу. Без колебаний он написал вслед за этим очерком второй, в котором утверждал, что Польша – "страна как поляков, так и евреев", и польские города принадлежат в равной степени обоим народам. Он решительно заявлял, что не верит в победу демократии и социализма как средства избавления от антисемитизма[127]127
Документ в институте Жаботинского, цитируемый Долевым (обратный перевод переводчика с английского текста).
[Закрыть].
В своей автобиографии он пишет: "По сей день национальная демократическая пресса меня не простила, но не простил и я".
Его критика оказалась гласом вопиющего в пустыне, а когда позднее Жаботинский возобновил ее в статьях в "Рассвете", его раскритиковали даже польские сионисты. Он снова писал, что в идее польской независимости нет очищения, поскольку общественное мнение погрязло в антисемитизме. В таких условиях автономная Польша принесла бы польским евреям не равенство, а рабство[128]128
« Дезертиры и хозяева», «Рассвет», 1 марта 1909 года.
[Закрыть].
С тех пор его польские критики-евреи стали ставить под сомнение осведомленность Жаботинского и "право" вмешиваться в польские дела. Более того, на "Рассвет" обрушилась критика за публикацию этой его позиции.
Благодаря буре, вызванной его статьями, он имел все основания утверждать, как он и сделал в неопубликованной автобиографической заметке, что ни одно его предприятие ранее не повлияло в такой степени на утверждение еврейского национализма в глазах евреев, русских и поляков.
Положению евреев в независимой Польше еще предстояло вписать мрачную главу в еврейскую историю.
Интересно, что Жаботинский настолько находился под впечатлением от польского антисемитизма, что в письме к М. Горькому (22 февраля 1911 года) высказывал опасение относительно отравляющего влияния его на русское общество.
Именно польский антисемитизм являлся, по мнению Жаботинского, источником беспрецедентной волны антисемитизма, захлестнувшей Россию. Горький не согласился с его мнением. Он ответил Жаботинскому: "Антисемитизм русских не появился от поляков. Он всегда в них присутствовал, только скрывался и подавлялся, готовый прорваться и разгореться от любой искры. Поляки всего лишь поставляют теперь эту искру… Хуже всего, антисемитская чума заражает русскую интеллигенцию, которой до сих пор удавалось скрыть ее за лицемерными улыбками. В прошлом скрывать антисемитизм было необходимо, поскольку евреи не только сражались вместе с русскими революционерами (1905 года), но и служили дрожжами в поднимающемся куличе. Евреи были сливками революционных борцов. Теперь же взгляните: как только гаснет революционный жар, у русских пропадает нужда во вчерашнем бойце, революционере и товарище, – и русский антисемитизм растет и процветает. Скажу лишь одно: всплывание антисемитизма на поверхность представляет угрозу для евреев, но он не менее опасен и разрушителен и для русского народа"[129]129
«Одесские новости», 5 октября 1909 года.
[Закрыть].
* *
Тридцать – сорок лет спустя старики будут вспоминать, как Жаботинский возобновил в те годы борьбу против ассимиляции русских
евреев. Эту борьбу он не прекращал и во время проживания вне России. Его главной мишенью были евреи-интеллектуалы, верившие, что будут приняты на равных в "русскую семью", если отбросят свои еврейские отличия.
Уникальная причастность самого Жаботинского к высшим слоям русской культуры с ранней юности дала ему возможность общения с самыми разными представителями русского народа и с широким диапазоном их взглядов. Он хорошо представлял себе ситуацию, когда писал, что евреи, пробившиеся в русскую литературу, прессу, театральную жизнь и издательства, рано или поздно будут изгнаны оттуда.
"Настоящая" русская интеллигенция, – писал он, – хочет быть среди своих, без вездесущего еврейского присутствия, укоренившегося, чувствующего себя слишком "как дома", чей голос был слышен повсюду". Он резко характеризовал их как дезертиров: "Мы, настаивавшие всегда на концентрации национальных сил, требовавшие, чтобы каждая капля еврейского пота падала на еврейские нивы, – мы только со стороны можем следить за развитием этого конфликта между нашими дезертирами и их хозяевами, – со стороны, как зрители, в лучшем случае безучастно, в худшем случае с горькой усмешкой. Щелчок, полученный дезертирами, нас не трогает, и когда он разовьется даже в целый град заушин, – а это будет, – нам тоже останется только пожать плечами, ибо что еврейскому народу в людях, высшая гордость которых состояла в том, что они, за ничтожным исключением, махнули на него рукою?"[130]130
Шехтман, том I, стр. 143–144.
[Закрыть].
Молодой Шехтман, в то время живший в России, вспоминает, что эта резкая статья повергла в ужас еврейских ассимиляторов и русских прогрессистов. Она вызвала оживленную публичную дискуссию среди ведущих писателей, евреев и неевреев, о евреях, "считающих себя русскими".
Жаботинский опубликовал четыре статьи в "Рассвете" и в русской газете "Слово". "Каждая статья, – вспоминает Шехтман, – представляла собой проницательный анализ и обжигающий приговор жалкому банкротству русских ассимиляторов и лицемерию русских прогрессистов".
Он записывает интригующее наблюдение: 'Трудно дать сегодняшнему читателю даже слабое представление о сокрушительном ударе, нанесенном этими статьями в самый корень ассимилянтского кредо, и об их революционном эффекте в еврейских интеллектуальных кругах в тот период, в преддверии Первой мировой войны".
Читатели конца двадцатого века должны иметь в виду, что в те дни регулярные статьи и очерки популярных авторов доходили до читателя непотревоженными и не прерываемыми ежечасными взрывами сиюминутных новостей и потоками немедленных конфликтных комментариев, к которым приучили нас радио и телевидение.
Их доводы звучали в атмосфере, еще восприимчивой к одинокому голосу публициста. Они читались и перечитывались, а затем обсуждались и оспаривались в широких кругах, особенно среди умеющей формулировать доводы интеллигенции.
Голос Жаботинского завоевал к тому времени обширную и всегда внимательную публику, еврейскую и нееврейскую
Это был голос, явно требовавший ответа.
Похожий далеко идущий эффект произвела статья "Наши бытовые явления", написанная в следующем году для "Одесских новостей", осуждающая эпидемию крещения в среде евреев – студентов высших учебных заведений[131]131
The Jewish War Front.
[Закрыть]. Позднее ее распространили в форме брошюры в десятках тысяч экземпляров.
К этой статье Шехтман также дает комментарий:
"Возможно, только свидетели эффекта, произведенного на молодое поколение этой статьей подобно атомной бомбе, в состоянии оценить ее общественное значение.
Она неожиданно потрясла пораженческое равнодушие, пассивное согласие на этот "каждодневный феномен" со стороны еврейского общества; она драматизировала тему, сделала ее объектом страстных споров в каждой школе и каждом университете; она привела к острым конфликтам между родителями и детьми, между родственниками и друзьями; разрушила много дружб, разбила много романов. Трудно определить, в какой степени она приостановила число крещений. Но нет сомнения, что впервые внимание общественности было эффективно сконцентрировано на этом потоке, долго считавшемся слишком деликатной темой для публичного обсуждения и потому усиливавшемся беспрепятственно"[132]132
Шехтман, том I, стр. 169.
[Закрыть].