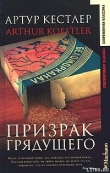Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 53 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ
РАННИЕ очерки Жаботинского демонстрируют не только прозрачность стиля и точный язык. Широта эрудиции, проявлявшаяся при обсуждении мотивировки и идеологической направленности раннего сионизма, со всей ясностью раскрывала слабости противников и обнажала внутреннюю противоречивость их доводов. Молодое сионистское движение до того вело борьбу с невыгодных позиций, с ограниченными ресурсами, человеческими и материальными.
В общине же в тот период царила смесь отчаяния и надежды. Евреи дискриминировались из поколения в поколение, оставаясь второсортными гражданами (даже по сравнению с остальными угнетенными народами России), под вечной угрозой спровоцированных правительством бесчинств черни. Поэтому каждая идея, предсказывавшая перемены, обещавшая избавление от бесправия и угнетения, предвещавшая падение режима, снова и снова вызывала приливы страстных и большей частью необоснованных ожиданий. С началом двадцатого столетия усиленно циркулировали слухи о революционных переменах, уже видимых на горизонте способах и путях к спасению. Нет ничего удивительного в том, что еврейскими умами, поглощенными заботой о хлебе насущном, не имеющими политического опыта и знаний, зачастую владели самые наивные средства из предлагавшихся средств.
Множество евреев приняло отчаянное решение сняться с места и навсегда покинуть страну, в которой их предки жили веками. С 1882 по 1908 год миллион евреев выехал из Восточной Европы в Соединенные Штаты и другие страны. Но большинство оставалось на месте, и спор среди еврейской интеллигенции продолжался. Стороны были представлены ассимиляторами разных мастей, с одной стороны, – и "Бундом", признанным еврейским крылом Российского социалистического движения, – с другой. В лобовых стычках Жаботинского с обеими группами поражает легкость, с которой он разрушил аргументацию оппонентов. Многое из написанного им выдержало проверку событиями и стало общепринятым. Его призыв к мужеству и вере в собственные силы, сочетание пламенного духа с логически точными аргументами пронеслись свежим ветром по еврейской общине и особенно тронули души и сердца его сверстников.
В очерке "Без патриотизма", начинавшегося цитатой из итальянского поэта А. Стекецци ("Сжальтесь надо мною, я не могу любить"), первые выпады направлены против еврейских интеллектуалов и их двойственного отношения к своему народу. Именно они хранили нежные чувства, "несмотря ни на что", к русскому народу и русскому языку, и эта их любовь – увы! – осталась безответной.
"Если бы мы совсем не любили еврейства и нам было бы все равно, есть оно или погибло, уж это было бы лучше. Мы не томились бы таким разладом, как теперь, когда мы наполовину любим свою народность, а наполовину гнушаемся, и отвращение отравляет любовь. А любовь не позволяет совести примириться с отвращением. В еврействе есть дурные стороны, но мы, интеллигенты-евреи, страдаем отвращением не к дурному, и не за то, что оно дурно, а к еврейскому, и за то, что оно именно еврейское. Все особенности нашей расы, этически и эстетически безразличные, т. е. ни хорошие ни дурные, – нам противны, потому что они напоминают нам о нашем еврействе. Арабское имя Азраил кажется нам очень звучным и поэтическим, но тот из нас, кого зовут Израиль, всегда недоволен своим некрасивым именем. Мы охотно примиримся с испанцем, которого зовут Хаймэ, но морщимся, произнося имя Хаим. Одна и та же жестикуляция у итальянца нас пленяет, у еврея раздражает. Певучесть еврейского акцента некрасива, но южные немцы и швейцарцы тоже неприятно припевают в разговоре: однако против их певучести мы ничего не имеем, тогда как у еврея она кажется нам невыносимо вульгарной. Каждый из нас будет немного польщен, если ему скажут: "Вы, очевидно, привыкли говорить дома по-английски, потому что у вас и русская речь звучит несколько на английский лад". Но пусть ему намекнут только, что в его речи слышится еврейский оттенок, и он изо всех сил запротестует. Кто из нас упустит случай "похвастать": "Я только понимаю еврейский жаргон, но совсем не умею на нем говорить…наши журналисты, выводя пламенные строки в защиту нашего племени, тщательно пишут о евреях "они" и ни за что не напишут "мы"; наши ораторы в то самое мгновение, когда говорят о любви к своему народу и к его расовой индивидуальности, – усердно следят за собою, чтобы эта расовая индивидуальность не проскочила как-нибудь у них в акценте, жестах или в оборотах речи! Нам нужно, несказанно-мучительно нужно стать патриотами нашей народности, патриотами, чтобы любить за достоинства, корить за недостатки, но не гнушаться, не морщить носа, как городской холоп – выходец из деревни – при виде мужицкой родни.
Да, холоп. Это чувство холопское. Мы, интеллигенты-евреи, хлебнув барской культуры, впитали в себя заодно и барскую враждебность к тому, чем мы сами недавно были. Как рабы, которых плантатор вчера стегал плетью, а сегодня произвел в надсмотрщики, мы с радостью и польщенным самолюбием взяли в руки эту самую плеть и с увлечением изощряемся. Гнусно-мелочный антисемитизм, которым без исключения все мы, интеллигенты-евреи, заражены, эта гнилая духовная проказа, отравляющая все наши порывы к страстной патриотической работе, – это есть свойство холопа, болезнь нахлебника. И тогда только бесследно пропадет она, когда мы перестанем быть холопами и нахлебниками чужого дома, а будем хозяевами под нашею кровлей, господами нашей земли"[55]55
Там же, стр. 20–26.
[Закрыть].
В следующем очерке "Вперед" ("Кадима") он парировал аргумент, используемый в то время ассимиляторами, что сионизм – это бегство. В действительности имело место противоположное: бежали как раз те, кто проповедовал ассимиляцию. Они не вынесли гонений, пошли по пути наименьшего сопротивления, оставили иудаизм и превратились в "немцев" или "французов".
Сионизм не был порожден антисемитизмом.
"Антисемитизм не мог породить сионизма. Антисемитизм мог породить только стремление бежать от гонений по пути наименьшего сопротивления – то есть, отступничество… Араб заснул под кустом. На заре его укусила блоха. От укуса он проснулся, увидел зарю и сказал:
– Спасибо этой блохе. Она меня разбудила, теперь я совершу омовение и возьмусь за работу.
Но когда он стал совершать омовение, блоха укусила его во второй раз. Тогда араб ее поймал и задушил, сказав:
– Видно, ты возгордилась тем, что я похвалил тебя; и действительно, ты помогла мне проснуться, но не твоим понуканием буду я молиться и работать…
Вот роль антисимитизма в сионистском движении. Мы не отрицаем, что он помог нам проснуться. Но и только. Если же, проснувшись, мы выпрямились, умылись свежею водою и взялись за работу, то не ради жалкого насекомого, которое нас разбудило, а ради того инстинкта жизни, который в нас заложен.
Если бы мы хотели бегства, мы призывали бы к отступничеству, если бы нам нужна была богадельня, мы призывали бы к отступничеству, потому что отступничество легче и скорее всего спасло бы наши шкуры. Но не мы, а наши противники проповедуют этот легкий путь отречения: мы, сионисты, отвергаем капитуляцию и зовем к нелегкой работе созидания. Мы зовем еврейскую народность к историческому творчеству. Указуя на восток, мы не говорим народу: бегите, спрячьтесь от гонений в эту нору. Мы указуем на восток и провозглашаем: «вперед», Kadimah!"[56]56
Ктавим Циониим. Критики сионизма, стр. 7–8.
Доводы этих критиков действительно иллюстрируют невероятно эксцентричные идеи и прогнозы, за которые в те тревожные дни цеплялись интеллигенты, даже знаменитые мыслители, чтобы оправдать и рационализировать свои теории, их сопротивление еврейской национальной идее и их отказ от сионистского ответа на еврейскую проблему.
[Закрыть]
Он рассматривал ассимиляцию как душевную болезнь и как предательство осажденного еврейского народа, его наследия и уклада жизни. В многочисленных статьях и выступлениях он беспощадно критикует ассимиляторов "до победного конца", т. е. прошедших крещение, и тех, кто на пути к трансформации в полноценных русских ощутил, по тонкости душевной, брезгливость и презрение к ним неевреев. В результате они ретировались в двойственную философию, требуя для униженного гражданина-еврея равноправия, но яростно отрицая идею еврейского национального самосознания.
В третьем очерке, "Критики сионизма", также написанном в первой фазе его сионистской деятельности в 1903 году, он атакует сразу четырех критиков сионизма. Эти четверо, как отмечает он, не дали себе труда посовещаться.
"Критики сионизма, так сказать, не столковались между собою. У них у самих – разногласия по самым основным вопросам: о том, представляет ли еврейство нацию или нет; о том, нужна или не нужна ассимиляция; о том, возможно или невозможно создание еврейского правоохранительного убежища; о том, есть ли сионизм вообще явление вредное, – и даже о том, существует ли Judennoth или не существует. Собственно говоря, при наличии таких противоречий можно было бы и не спорить против наших критиков, а спокойно и безучастно любоваться на то, как они друг друга побивают"[57]57
Ктавим Циониим. Критики сионизма, стр. 13.
[Закрыть].
Жаботинский, тем не менее, разделался с ними с задорным юмором. Его главной мишенью был известный идеолог социалистического движения, один из основателей Второго Интернационала Карл Каутский, заявивший безапелляционно, что "евреи не существуют больше как нация, поскольку невозможна нация без территории". Это утверждение было увязано с его положением о будущем всех наций.
Он писал вполне серьезно, что все нации стремятся к полному слиянию друг с другом, вплоть до замены национальных языков общим наднациональным.
(Приводим выдержку из статьи "Национальность нашего времени", 1903 год).
На основной довод Каутского Жаботинский дал вежливый ответ: "…Представьте себе человечество в виде огромного оркестра, в котором каждая народность как бы играет на своем особом инструменте. Возьмите из оркестра всех скрипачей, отберите у них скрипки и рассадите их по чужим группам – одного к виолончелистам, другого к трубачам, и так далее; и допустим даже, что каждый из них играет на новом инструменте так же хорошо, как на скрипке. И количество музыкантов осталось то же, и таланты те же – но исчез один инструмент, и оркестр в убытке"[58]58
Там же, стр. 19.
[Закрыть].
Жаботинский снова и снова возвращается к своей центральной теме – вековой духовной выносливости и стойкости еврейского народа. Он демонстрирует важный феномен: явное незнакомство критиков с еврейской историей и ценностями. Они ни во что не ставили все духовное наследие еврейского народа.
"И это все игнорируется, а культуру нашу видят исключительно в разделении посуды на мясную и молочную. Седьмичный и юбилейный годы, принцип субботнего отдыха, социальная проповедь Амоса, мечты Исайи о мире всех народов, наконец, самый культ книги, благодаря которому до недавнего времени наши мужчины в Литве были поголовно грамотны по-еврейски, когда и в Западной Европе массы еще не умели читать ни по какому, – таковы, казалось бы, наши "традиции". И если нам даже скажут, что не одни евреи, но передовые элементы всех народов теперь ратуют за участь бедных и за распространение знания, то мы ответим: следовательно, эти исконные традиции еврейского племени, во всяком случае, не зловредны и не враждебны прогрессу? Но теперь нам заявляют, что прежде чем воспринять передовое мировоззрение, мы должны порвать с еврейскими традициями, потому что еврейские традиции выражаются в обязательном ношении нагрудника с кисточками…"[59]59
Там же, стр. 19–20.
[Закрыть]
Следующий полемический вопрос Жаботинский адресует Каутскому и Изгоеву – очередному своему критику. "Как серьезные мыслители, – пишет он, – …наши критики, особенно Каутский и г. Изгоев, несомненно, не признают феномена без причины. Столкнувшись с каким-нибудь историческим фактом, они не успокоятся, пока не откроют тех условий, которые вызвали его и даже необходимо должны были вызвать. Если притом факт этот не единичный, а повторный или тем более непрерывно-длительный, г-да Изгоев и Каутский никогда не усомнятся, что причина, обусловившая его, есть важная и могущественная причина, – признают неучем всякого, кто допустит, что подобный исторический факт возник просто "так", без особенной надобности, а мог бы при таких же условиях и не возникнуть. Но как только дело коснется еврейского народа, картина меняется. Пред глазами такой яркий феномен, как почти двадцативековая борьба небольшого безземельного племени за свою национальную обособленность, борьба, в которой все выгоды, какие только можно придумать, были, бесспорно, всецело на стороне отступничества – и, тем не менее, отступничество не состоялось. Это – поражающе-длительный исторический факт, и казалось бы, что именно гг. Изгоев и Каутский, как исторические материалисты, должны были бы тут сказать себе: очевидно, тут действует какой-то могущественный фактор группового самосохранения и с этим фактором нельзя не считаться. – Вместо того наши критики здесь, очевидно, теряют свой обычный компас, и не то вовсе игнорируют феномен, который немыслимо игнорировать, не то прямо относятся к нему так, как будто эта двухтысячелетняя мученическая самооборона не имела под собой никакого солидного императива и была чуть ли не плодом недоразумения, человеческой глупости, а теперь люди поумнели и должны увидеть, что не из-за чего бороться… Г. Каутский и г. Изгоев не могут не понимать, что такая точка зрения не только не напоминает о той строгой научности, которая обыкновенно отличает их школу, но просто лежит ниже уровня всякого научного мышления"[60]60
Озаглавлено «Поворотный пункт в истории европейского рабочего движения», цитируется Шехтманом в «Бунд и сионизм», стр. 221 в «Ктавим Циониим».
[Закрыть].
Другой из его критиков, некто Бикерман, постулирует, что нет ущемления еврейства как такового, что евреев не постигли качественно отличные или большие бедствия, чем другие народы. И это – обращаясь к еврейству царской России, с чертой оседлости, процентной нормой в образовании, запретом на участие в важнейших областях экономики, с ее погромами. Напрашивается вывод, что этот абсурд можно было бы развенчать сразу. Однако это была точка зрения "Бунда", политического движения, пользовавшегося широкой поддержкой и имевшего значительное влияние на еврейские рабочие массы. (Влияние вполне заслуженное: "Бунд" действительно выделялся своей отважной защитой экономических интересов рабочих.) В то же время развилось его враждебное отношение к сионизму и отрицание специфики еврейской проблемы, что стало необходимым компонентом его реакции на сионистское решение вопроса.
В длинном исчерпывающем очерке Жаботинский спустя два года (март 1906-го) признается, что чувствует немалую симпатию к первичным целям "Бунда". Он снова и снова подчеркивает, что его появление на еврейской арене и ранние шаги сослужили большую службу делу еврейского национализма. "Бунд" был убежденной социалистической организацией, но вдохнул в еврейские рабочие массы дух отождествления с еврейством. Таким образом он оживил еврейское национальное чувство, подчеркивая их (рабочих) отличия и специфический характер. "Бунд" навел мосты между еврейским рабочим движением и сионистским движением. Но этим его полезность исчерпывалась.
Текст основополагающего документа о целях "Бунда", опубликованный в 1897 году, не вызвал много возражений. Жаботинский подчеркивал ту примечательную деталь, что в нем содержался призыв к автоэмансипации, бывший темой работ Леона Пинскера, предвестника Герцля. Пинскер стремился к автоэмансипации русских еврейских рабочих. Оба призывали свой народ к единению в действиях.
Но в первичном призыве "Бунда" был и второй элемент, обращенный к самим корням положения евреев. Обсуждая цель отдельной еврейской организации, они пишут:
"…Социализм международен, и тот исторический процесс, который создает классовую борьбу в современном обществе, ведет неизбежно к уничтожению национальных границ и слиянию отдельных народов воедино. Но вы согласитесь, конечно, что до тех пор, пока существуют современные общества, настоятельной задачей является завоевание каждой нацией если не политической самостоятельности, то, во всяком случае, полного равноправия. В самом деле, рабочий класс, который мирится с долей низшего племени, такой рабочий класс не восстанет и против доли низшего класса. Поэтому национальная пассивность еврейской массы является препятствием и для возбуждения классового самосознания; пробуждение национального и классового самосознания должно идти рука об руку"[61]61
Повесть моих дней, стр. 53.
[Закрыть].
Но здесь авторы проводят решающее разграничение. Обсуждение рабочей солидарности было всего лишь риторическим приемом; основатели "Бунда" в своей ранней прямоте не выбирали выражений:
"…Мы притом должны помнить, что наш демократический лозунг: "все посредством народа" не позволяет нам ожидать освобождения еврейского пролетариата от экономического, политического и гражданского порабощения ни от русского, ни от польского движения…" (стр. 18).
"…Мы хорошо понимаем, что без успеха русских и польских рабочих мы многого не добьемся, но с другой стороны, мы уже не можем по-прежнему ожидать всего от русского пролетариата, как наша буржуазия ожидает всего от русского и чиновничьего либерализма. Мы должны иметь в виду, что русский рабочий класс в своем развитии будет встречать такого рода препятствия, что каждое ничтожное завоевание ему будет стоить страшных усилий, а поэтому ему лишь постепенно и упорной борьбой удастся добиться уступок политических и экономических; а в таком случае очевидно, что, когда русскому пролетариату придется жертвовать некоторыми из своих требований для того, чтобы добиться хоть чего-нибудь, он скорее пожертвует такими требованиями, которые касаются исключительно евреев, например – свободы религии или равноправия евреев для того, чтобы достигнуть чего-нибудь" (стр. 19).
Смысл этого, писал Жаботинский, предельно ясен. Основатели "Бунда" отдавали себе отчет, что "русские и польские рабочие предадут нас, как только это послужит их интересам".
Более того, именно недоверие к польским и русским рабочим привело к необходимости создать "Бунд". Иначе к чему отдельная еврейская социалистическая партия?
Трагическое противоречие было очевидным: специфическая проблема еврейских рабочих заключалась не в принадлежности к рабочему классу, а в их еврействе. Со всех сторон упрямая дилемма бундистов напоминала о себе с болезненной прямотой. Русские социалисты совсем не сочувствовали скрытому, а по существу, откровенному проявлению недоверия со стороны еврейских "товарищей". Даже когда бундисты впоследствии разбавили свое обоснование для отделения, утверждая, что еврейским рабочим нужна всего лишь "культурная автономия", евреи – руководители социалистического движения – Троцкий, Аксельрод и др. – жестоко атаковали "Бунд" на втором съезде Рабочей социалистической партии. Отрицая существование отдельной еврейской проблемы, могущей остаться неразрешенной при победе социализма, они отвергли требование "Бунда" об организационной самостоятельности. Жаботинский цитирует речь Ленина на съезде:
"Эта мысль дополняется в речи делегата Ленина:
Недоверие сквозит во всех предложениях и во всех рассуждениях бундовцев. В самом деле, разве, например, борьба за полное равноправие и даже за признание права нации на самоопределение не составляет обязанности всей нашей партии?"
Руководители "Бунда", столкнувшись с подразумевавшимися требованиями отказаться от основополагающего тезиса для существования "Бунда", вышли из социалистической партии. Их дилемма в борьбе за поддержку еврейской общины тем не разрешилась. Тогда они стали атаковать соперничавшую с ними организацию сионистов. Произошло это, поскольку сионисты предлагали единственное решение, выдерживающее испытание логикой и чувством собственного достоинства, и беспощадно разоблачали иллюзию, будто русские либералы или русские революционеры потрудятся разрешить бедствования евреев. В конечном счете еврейские рабочие могли защитить свои специфические интересы только в своей собственной, еврейской стране – как и все остальные народы.
Чтобы противостоять трагической логике сионистского движения, предводители "Бунда" по необходимости выступили еще более резко. Это привело их к защите ассимиляции. Тогда-то Жаботинский и написал: "Представители "Бунда" утверждают, что уважаемая нация не нуждается в территории, и ее целью должна быть внетерриториальность всех наций на земле – то есть, отрежем хвосты всех лесных животных ради одной бесхвостой лисы".
Эти слова были написаны в 1906 году, спустя более двух лет после того, как Жаботинский стал писать серьезные политические работы.
За это время в России произошли сокрушительные события, а в жизни самого Жаботинского – знаменательные перемены.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В ТЕЧЕНИЕ 1903 года события, определявшие карьеру Жаботинского, развивались с головокружительной быстротой.
Год начался с неожиданной для него самого идеи организации самообороны как подлинного проявления национального достоинства и личного самоуважения. Весной разразился Кишиневский погром – и последовала эмоциональная реакция на него. Вслед затем Шломо Зальцман преподал ему насыщенный курс сионистской идеологии, а затем уговорил поехать делегатом на конгресс. По возвращении в Одессу той осенью он неуверенно обдумывал последующие шаги.
"Может быть, – пишет он, – я мечтал покорить оба мира, на пороге которых я стоял"[62]62
Гепштейн, стр. 27–31.
[Закрыть], – миры сионизма и русской литературы. За него решила судьба.
Судьба поначалу приняла комический образ полицейского офицера по фамилии Панасюк. Находясь однажды вечером по роду своей деятельности в партере Русского театра, сей страж закона во время антракта обнаружил по-богемному небрежно одетого юнца, поднимавшегося с места в фешенебельном пятом ряду, где обычно восседали состоятельные и сановные одесситы в сопровождении разодетых и разукрашенных женщин. Панасюк, бывший необычайно полным и грузным человеком, обладал к тому же поистине оглушительным голосом, коим он и вопросил возмущенно Жаботинского: "Ты-то как сюда пробрался?" Жаботинский в то время был театральным критиком крупнейшей газеты в Одессе и соответственно имел в своем распоряжении постоянное место в первых рядах партера во всех одесских театрах. Он отрезал: "Ты на меня голос не повышай!" Сановный чин, опешивший от такого нахальства, отреагировал бурно. Последовал шумный обмен любезностями – к полному восторгу присутствующих. Шум привлек внимание начальника местной жандармерии генерала Безсонова и еще одного высокопоставленного чина, присутствовавших здесь же в театре. Они поспешили поддержать атаку Панасюка на Жаботинского, тем более что последнего Безсонов помнил по прошлогоднему аресту. Жаботинский перед объединенными силами полиции и жандармерии не отступил, в
результате чего два дня спустя был приглашен на свидание с губернатором Одессы графом Нейдгардом, печально известным (по словам Жаботинского) как "полубезумец".
В ходе этого визита Жаботинский получил обещание Нейдгарда, еще до истечения того же дня быть поставленным в известность о предстоящем наказании. Четкого представления о характере наказания Жаботинский не имел, но вторичная отсидка в тюрьме никак не соответствовала его планам. Он немедленно отправился на вокзал и купил билет на поезд, следовавший до Санкт-Петербурга. Здесь его встретил двоюродный брат, студент, принявший его к себе на квартиру, давший ему возможность привести себя в порядок и снабдивший одеждой.
На ночь Жаботинский устроиться не мог: паспорт еврея лишал его права ночевать в столице без специального разрешения; пытаться подкупить консьержа в доме родственника было бы бессмысленно, поскольку он несомненно был "полицейским агентом, как и все консьержи на святой Руси, и при этом очень педантичные в исполнении обязанностей". По этой причине спать пришлось днем. Вечер Жаботинский с преданным кузеном провели в театре. Затем отправились в ночной ресторан, посидели там до закрытия и провели остаток ночи, гуляя и разъезжая в санях. Жаботинский выбрал Санкт-Петербург не случайно. По счастью, ему было куда еще обратиться – за несколько недель до театрального инцидента Жаботинский получил письмо от проживавшего в столице Николая Сорина, молодого юриста и активного сиониста. В письме содержалась просьба прислать статью для первого номера сионистского ежемесячника. Издание такого журнала было давней сионистской мечтой, но Сорин только-только получил разрешение.
Жаботинский направился по адресу. Сорин, в порядке первой помощи, мобилизовал какого-то нужного специалиста, организовавшего номер в одном из дальних отелей. Владельцы отеля за регулярные взятки полиции были избавлены от проверки паспортов сынов Израиля, останавливавшихся под их крышей.
Впоследствии Сорин раздобыл ему вид на жительство в Петербурге, зарегистрировав младшим клерком в своем офисе.
В тот же вечер радостная и возбужденная редакционная коллегия праздновала своевременный приезд Жаботинского и его включение в редакцию ежемесячника. Ежемесячник был назван "Еврейская жизнь', вскоре превратился в еженедельник, был запрещен правительством, появился вновь под названием "Еврейский народ" и наконец в 1907 году, получил окончательное название: "Рассвет". "Рассвет" просуществовал с перерывами до 1934 года, переехав сначала в Москву, затем в Берлин и, наконец, в Париж. В течение большего периода его существования Жаботинский был его путеводным духом. "Рассвет" занял особое место в истории сионизма"[63]63
Уже в первом номере Жаботинский опубликовал глубокую и сильную защиту руководства Теодора Герцля.
[Закрыть].
Редко в сионистском движении случалось такое удачное стечение обстоятельств, какое сопровождало рождение и первые дни "Рассвета". Группа молодых людей, которым Сорин представил Жаботинского, отличалась способностями и редким идеализмом. Только двое из них были опытными писателями – А. М. Марголин и Юлий Бруцкус, остальные двое, еще студенты, Шломо Гальперин и Александр Гольдштейн, были преданы делу и столь же талантливы и интеллигентны.
К ним-то и снизошла как гром среди ясного неба ярчайшая звезда русского литературного небосклона – в самый момент создания выстраданного сионистского журнала. Жаботинский немедленно засучил рукава и принялся за работу. "В тот же день, – пишет Гепштейн, – мы сели с ним завершать первый номер журнала"[64]64
Повесть моих дней, стр. 58.
[Закрыть].
В короткой биографии Жаботинского, написанной более 40 лет тому назад, Гепштейн передает возбуждение, охватившее их в тот первый день и продолжавшееся весь период сотрудничества с Жаботинским. Он привнес кипящую веру в себя, вскоре заразившую всех. Им всем, и особенно двум более молодым сотрудникам, он казался принадлежащим к другому миру, золотому, свободному от замкнутости гетто и провинциализма, характерного для старшего поколения сионистов.
Он привнес в редакцию, в журнал и в конечном счете в сионистское движение в России западноевропейский дух. Так же как русский Корней Чуковский увидел в нем "что-то от Пушкина", этим молодым евреям он напоминал Генриха Гейне.
Гепштейн писал: "Он прибыл из странного и богатого мира. Иностранцы общались с ним с уважением, манили его, обещали состояние, почет, возможность неограниченной творческой деятельности, интересную, блестящую жизнь, полную света, и все же он отвернулся от всего этого богатства и блеска и пришел к нам со своими искрящимися талантами, своим благородством характера и занял место в рядах нашей партизанской армии, бывшей в то время бедной и слабой. Он сделал это с таким благородством… возвысил нас так эффективно, что все мы ощутили себя героями, подобными последователям Гарибальди… он служил университетом для нашей молодежи". Тем не менее, ни преданность делу, ни талант, ни даже тяжкий труд не могли обеспечить "Еврейской жизни" – предшественнику "Рассвета" – материального успеха. Все же его хватило для привлечения внимания лидеров русского сионизма. Они взяли журнал под свое крыло и сделали возможным его расширение. Кое-кто из них был достаточно состоятельным; для этой цели был создан необходимый фонд.
Авраама Идельсона убедили переселиться в Санкт-Петербург и взяться за редактирование. Этот выбор был и мудрым, и удачным. Авраама Идельсона называли мозговым центром Российского сионистского движения. Выходец из Литвы, еврейский и европейский эрудит, он пользовался широким признанием как ведущий идеолог своего времени.
Сам Жаботинский утверждал, что Идельсон был чуть ли не гениален, и почитал его как своего наставника. "Жгучая кислота его мозга прожигала оболочки явлений, добираясь до самой сердцевины, он умел выжимать волшебный сок из жизни"[65]65
Бруцкус. Рассвет, 19 октября 1930.
[Закрыть]. Действительно, оба они, несмотря на разницу в возрасте и различные темпераменты, были близки по мировоззрению и прекрасно дополняли друг друга. Идельсон, по оценкам Гепштейна, Бруцкуса и самого Жаботинского, мастерски исследовал «фантастические аномалии» еврейской жизни и находил новые объяснения ситуации, складывавшейся в еврейской общине.
Жаботинский со своей стороны, взялся (по определению Бруцкуса) за "положительный" аспект работы. Он познакомил еврейского читателя с борьбой других народов за существование и с европейскими методами ведения такой борьбы. Для грядущих перемен, которые ожидались в Восточной Европе, необходимы были развитие национального самосознания и самоорганизация еврейского народа.
Не менее значительным был и тот факт, что Жаботинский "всегда предвосхищал свой блестящий прорыв к еврейскому национальному возрождению исчерпывающим анализом проблем, связанных с возрождением других народов"[66]66
Гепштейн, стр. 52–53.
[Закрыть].
Гепштейн описывает достижения Жаботинского более широко: "В нем были, – пишет он, – вера в народное возрождение, борьба за народное счастье, душевный подъем, поэзия, революция и политика. И все это Жаботинский не только облек в европейский стиль, но и пробудил в каждом из нас. Вместе с Идельсоном он проповедовал эту революцию в "Рассвете", и посредством "Рассвета" – еврейским массам… Оба они были нам учителями, наставниками поколения. Как великие художники – учителя эпохи Возрождения, они учили нас… на своем личном примере"[67]67
Там же.
[Закрыть].
Бруцкус вторит ему, суммируя свое впечатление от Жаботинского: "В Жаботинском для русского еврейства родился наставник общественного "национального поведения"[68]68
Повесть моих дней, стр. 57.
[Закрыть].
В газету притекала молодежь (и все работали за номинальную плату, зарабатывая на жизнь другими средствами). Пришли три студента, Арье Бабков, один из учителей Жаботинского ивриту, Арнольд Сойденман и Макс Соловейчик, а также инженер Моше Цейтлин, "который оставил доходную должность в Баку и переехал со своей семьей в Петербург – "просто так", чтобы работать с нами"[69]69
Повесть моих дней; Зальцман, стр. 125–180.
[Закрыть].
Группа "Рассвета", любовно прозванная Халастрой (бандой), тем не менее еще не укомплектовалась. Она нуждалась в деловом человеке, способном организовать распространение и обеспечить финансовую стабильность.
В 1905 году в Петербург прибыл верный Шломо Зальцман. Он-то и стал администратором "Рассвета" на последующие 10 лет. За этот период тираж возрос от 2000 до 30000 – почти в четыре раза превысив тиражи остальных еврейских еженедельников.
С помощью энтузиастов-волонтеров он расходился по двум тысячам еврейских общин [70]70
См. также исчерпывающий анализ того периода и роли «Рассвета» в эссе Цви Виславского в Ха’ткуфа «Рассвет и его редакторы», 1921-22, стр. 14–15.
[Закрыть].