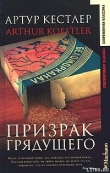Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 53 страниц)
Он бросает горький упрек Сионистской комиссии, которая "ничего не сделала, чтобы изменить антисемитское обращение с нашими солдатами – обращение, распространившееся постепенно по всей армии и среди всех чинов, сверху донизу. Она не предприняла ничего, кроме длинных, стерильных бесед с Алленби и Мани, которые оба ненавидят еврейских солдат и с радостью посвидетельствуют при крушении наших батальонов".
Теперь Жаботинский еще меньше надеялся на способность комиссии добиться каких-либо перемен. "Палестинская община может суметь поправить положение, если обратится к британскому правительству непосредственно – прямо, то есть не через Сионистскую комиссию или сионистов в Лондоне".
Он снова подчеркивал глубину своей озабоченности и растущего недоверия к официальным органам. "Я сниму копию с этого письма, – пишет он, – и обнародую его, если станет необходимо возложить ответственность на тех, кто мог помочь и не помог"[600]600
Паттерсон. «С иудеями», стр. 261.
[Закрыть].
Жаботинский неутомимо пытался "успокоить" солдат. Шалом Шварц цитирует Моше Смилянского в 40-м батальоне, рассказывающего, как снова и снова Жаботинский умолял солдат соблюдать дисциплину, несмотря на все их обоснованные жалобы.
И в самом деле, прослышав, что солдаты 40-го готовы объявить "забастовку" из солидарности к товарищам в Дир-Балле, он бросился в лагерь и в горячей речи на идише умолял их не осложнять дело еще больше. Солдаты, по словам Смилянского, тихо разошлись по палаткам.
Взрыв в лагере Дир-Балла стал кульминацией ряда невзгод. Австралийские, индийские и карибские части были расквартированы около еврейских центров, в то время как их, еврейских солдат, держали в пустыне. С ними обращались как с "аборигенами" и даже подвергали финансовой дискриминации: их семьи не получали материального пособия. Они даже не знали об этом, пока не случился эпизод с нуждающейся матерью-вдовой капрала Нимчека из Канады. Военное министерство отдало приказ офицеру по выплате имперских пенсий в Оттаве, что ей не полагается ничего из армейских фондов. Кроме того, их командир подвергал их антисемитским издевательствам[601]601
Паттерсон, стр. 254.
[Закрыть]. Паттерсон, который, в конце концов, должен был иметь дело со всеми этими неприятностями, считал, что провокации стали по-настоящему непереносимы. «Единственно, что могу сказать, – позднее пишет он, – это то, что, если бы австралийский, английский, ирландский или шотландский полк испытал подобное обращение, ставка командующего дивизией была бы сожжена дотла и генерал посчитал бы свое собственное спасение везением». Он сравнивал это происшествие с бунтами в других частях, прямо не подчинившимися командованию и поджегшими Кантару, – их даже не отдали под суд.
Жаботинский был огорчен и рассержен поведением солдат. Он умолял их сдержаться, сделать все возможное, чтобы легион выжил, но в правоте их дела сомнений не было.
Когда их арестовали, они воспользовались своим правом и просили, чтобы защищал их лейтенант Жаботинский. Отказать им не могли; Жаботинский пошел в бой. Впервые его призвали воспользоваться юридическим образованием на практике. Незамедлительно он добился тактической победы. Знакомясь с составом обвинения, он обнаружил в тексте ошибку. Пришлось суд распустить и назначить новый судейский состав, которому представили новое, более ограниченное обвинение, и более осторожный прокурор мягче изложил факты. Тем не менее из обвиненных пятидесяти человек Жаботинскому удалось добиться оправдания для двадцати.
Второй взрыв произошел почти одновременно – в марголинском тридцать девятом батальоне, расквартированном в Сарафанде. Во время отпуска Марголина молодой, неопытный солдат в транспортной части вернулся с задания, и у одного из мулов под его началом оказалась натертой шея. Его незамедлительно подвергли жестокому наказанию. Раздев до пояса, его привязали к пушке и выставили на летнее солнце. Для его возмущенных соратников из Северной Америки это было последней каплей. Они организовали демонстрацию протеста.
Исполняющий обязанности командира батальона майор Смолли перед полным строем устроил им разнос в площадных выражениях, пересыпанных антисемитскими эпитетами. Кое-кто из солдат ответил бранью, и всех тридцать пять арестовали. Они также подали прошение, чтобы защищал их Жаботинский. Как ни невероятно, повторилась та же история.
Жаботинский обнаружил ошибку в обвинении, прокурор и судьи были заменены, и, хотя никто не оспаривал факты, Жаботинскому удалось добиться оправдания десяти из подсудимых.
Благодаря защите Жаботинского обвинение в обоих случаях было изменено на "неподчинение приказу" вместо "бунта", но сроки приговоренным назначили свирепые – от трех до шести лет, а в одном случае семь.
Жаботинский не отступился. Он написал протест для отправки в Армейский Совет в Лондоне. Протест занял восемь густо напечатанных страниц текста. Это был обжигающий приговор военному режиму. Жаботинский коротко описал свою роль в организации легиона и свои беседы с членами британского военного кабинета и руководством армии. Даже командование Египетского экспедиционного корпуса, писал он, поначалу не посмело отрицать его особого морального права курировать еврейские части; в мае 1918 года он был приглашен на конференцию в генеральной ставке с бригадным генералом Клейтоном, полковником Дидсом и майором, представлявшим генерал-лейтенанта.
"Все мировое еврейство видит во мне человека, ответственного за идею Еврейского легиона за Палестину как части британской армии; его фиаско стало бы смертельной раной моей деятельности как еврейского патриота. Понимая это, самые верхи военного командования в Лондоне всегда видели во мне человека, имеющего право представлять нужды этого подразделения.
Ни разу они не воспользовались тем, что из преданности британскому делу я, русский журналист, освобожденный от военной службы, добровольно вступил в британскую армию в скромнейшем чине. Так поступив, я вверил свое достоинство британскому рыцарству и не был разочарован ни разу, пока не столкнулся с иным отношением, прибыв с моим батальоном сюда".
Он перечислил все выдающиеся заслуги батальона – тяжелые задания, выполненные ими, с одной стороны, и с другой – все случаи непризнания и унижений, которым они подвергались, – тянувшийся месяцами отказ принять палестинских добровольцев, непредоставленные им возможности участвовать в сражениях, перевод из еврейских центров, официальной причиной которого было раздражение арабов при виде еврейских солдат, унижение от использования их "как разгрузчиков клади, в то время, как итальянцы и обитатели Карибских островов защищают еврейских женщин и детей".
Он описал действие на солдат запрета на пребывание в Иерусалиме и Яффе и неизбежного поощрения усердия нееврейской военной полиции.
"Пасхальная неделя в Иерусалиме и Яффе была настоящей охотой на евреев как я могу доказать со свидетелями – офицерами, отвечающими за еврейские отпуска. И эта практика пережила Пасху. Во всех трех батальонах поступили несчетные жалобы на то, что военная полиция в принципе охотится на "стрелков".
У меня хранится длинный, но отнюдь не полный список свидетелей, готовых подтвердить, что части были остановлены военной полицией, в то время как солдат с другими нашивками не беспокоили.
Некоторые наши солдаты послабее надевают другие нашивки, когда идут в отпуск, в результате чего военная полиция их и не замечает.
Даже случается, что военная полиция проверяет только пропуска стрелков, если имеет дело с группой солдат из разных полков – и не беспокоит остальных. Очевидно, что эта практика может только подорвать самоуважение и чувство полкового товарищества в наших солдатах.
Это отношение распространилось по всем отделам. План о госпитале в Иерусалиме, обещанном генерал-лейтенантом в Англии, был задушен генеральной ставкой Египетского экспедиционного корпуса.
Сионистские медсестры были произвольно отпущены через три месяца после несения отличной службы.
Жалобы наших солдат на антисемитизм в военных госпиталях многочисленны и, к несчастью, хорошо обоснованны. И здесь я могу привести список свидетельствующих волонтеров. Тот же антисемитский дух царит в военной железнодорожной службе. "Стрелок", ехавший поездом, был допущен в вагон в военном шлеме; как только он поменял шлем на фуражку с полковой кокардой, его тот же патруль выставил из вагона. И это только один эпизод, а жалоб много.
Сэр, таким образом, создалась атмосфера армейского антисемитизма. Она преследует еврейского солдата, где бы он ни находился: вне своего полка, на улице во время отпусков, в госпитале, если он болен; в поездах во время переездов, в молодежном клубе (христианской организации. – Прим. переводчика), где он пытается отдохнуть, и даже в охранном карауле вне его батальона. Я свидетель, что подобное не происходило в начале нашего пребывания здесь. Нас встретило дружелюбие солдат, а офицеры, за исключением ставки командующего, были внимательны и полны желания помочь.
Что касается корпуса, не столь подверженного влиянию ставки и остававшегося дружески расположенным до конца, я могу назвать хотя бы Анзасскую дивизию, где все, от генерал-майора Чейтора до низов, относились к нам справедливо и с симпатией.
Генеральная ставка же была положительно недружелюбно расположена с самого начала, еще не зная, кто мы такие, а в армии, где все следуют примеру верхов, это вещь опасная! Теперь мы видим результат".
Он настаивал, что приказ отправить еврейских солдат в Египет и на Кипр, подтолкнувший их "на грань настоящего бунта", был нарушением обещания, что "еврейские части будут по мере возможности использоваться в Палестине".
"Можно ли честно утверждать, что не было "реальной возможности" отправить в Египет или на Кипр 140 англичан, скажем, из Сассекского полка и заменить их по необходимости отрядом из 40-го батальона Королевских стрелков?"
Перейдя затем к критике общей политики администрации на оккупированной территории в отношении еврейства и сионизма в Палестине, он продолжил: "Вы можете легко себе представить, сэр, каково влияние вышеизложенного на умы наших солдат. Более трех четвертей из них никогда не бывали в Англии; их знакомство с британцами ограничивается увиденным в армии. Мне с сожалением приходится утверждать, что, по их общему мнению, у англичан нет слова, что каждое обязательство будет нарушено, переврано или попросту отвергнуто.
Это – обидное и ошибочное мнение об англичанах. Это нежелательное восприятие англичан было подкреплено общей политикой администрации по оккупированным территориям в отношении евреев и сионизма в Палестине. Хоть это и не представляет собой исключительно армейский вопрос, политика администрации, строго говоря, не может сильно не влиять на наши батальоны. Три четверти из американских волонтеров пристало сюда с планом обосноваться в Палестине; почти до единого они теперь разочарованно возвращаются в Штаты. Благодаря их тесным контактам с палестинским еврейством они не могли не обнаружить то, что ясно каждому еврею в Палестине, – что, несмотря на так называемую Декларацию Бальфура, Палестина стала ареной неприкрытой конкурентной антисемитской политики. Элементарное равноправие еврейскому населению недоступно. Иерусалим, где евреи по численности далеко превосходя другие общины, отдан в руки воинственно антисемитскому муниципалитету. Военный губернатор, виновный в том, что в любом суде сочтут за подстрекательство к антиеврейским погромам, не только остается безнаказанным несмотря на жалобы Главному офицеру по политике и исполняющему обязанности Главного администратора, но и сохраняет свой пост.
Иврит не допускается в официальные документы, запрещен на железной дороге; в почтовых отделениях, даже в отелях в Иерусалиме. Экономическое развитие еврейской общины искусственно притормаживается; английские власти вмешиваются с запретом каждый раз, когда еврей пытается купить завод (например, завод Вагнера в Яффе) или отель (Хардэг в Яффе или Фаста в Иерусалиме).
Отбор железнодорожных служащих – в руках антисемитски настроенных арабов, и у евреев там практически нет шансов на работу. Были даже предприняты попытки выселить фабрику по производству мыла из ее помещений и организовать там бордель – что не удалось только лишь потому, что владельцем там брат доктора Вейцмана.
Я привожу только несколько фактов, но в случае оспаривания готов предъявить показания под присягой, вполне достаточные для организации парламентского расследования этого беспрецедентного органа антисемитизма, чернящего британское доброе имя и честную репутацию в глазах всего палестинского еврейства.
В этих обстоятельствах отчаиваются даже лучшие среди наших людей. Они не видят смысла продолжать, осознавая, что нарушен великий обет, что вместо еврейского национального очага Палестина стала полем действия для официального антисемитизма. Им отвратительна мысль об участии в том, что они – и не только они – считают фальшивкой. Не все из них способны выразить свои жалобы в полной мере, но за их желанием "выйти из игры" стоит горькое разочарование, одно из жесточайших в еврейской истории".
Он подчеркнул в заключение, что несмотря ни на что, "подавляющее большинство солдат батальона осталось на своих постах и продолжало безупречно нести службу".
"Но все они чувствовали, что бунтовщики пострадали за них, и, возможно, за все еврейство; и моральная ответственность за эти события и за судьбу ста честных еврейских парней лежит исключительно и всецело на тех, кто растоптал их идеалы, унизил их человеческое достоинство, еврейское и солдатское достоинство, и превратил имя Англии в Палестине в синоним невыполненных обязательств.
Обращение с солдатами легиона, пренебрежение военного суда провокациями, ими перенесенными, было не их личным делом. Как раз эти жертвы режима добровольно отправились за границу исключительно из преданности еврейскому национальному делу, и их единственным преступлением было, по существу, нежелание переносить страдания до момента слома".
Казалось бы, можно было ожидать, что уж теперь-то вожди общины, не реагировавшие на его предостережения до кризиса, будут готовы отреагировать с решимостью. "Может быть, – пишет он Нине Берлин 28 августа, – хотя бы это разбудит ишув". В довершение он обратился с воззванием, сдерживая страсть порыва, к исполнительному комитету Временного комитета, и на этот раз – лично, 16 сентября.
Жаботинский раскрыл перед ними глубину многомесячной дискриминации, начиная с запрета еврейским солдатам доступа в Яффу и Иерусалим. Он описал печальный опыт 39-го батальона, где командир майор Смолли произносил антисемитские речи перед офицерами и солдатами, включая утверждение, что погромы, происходившие в это время в Польше, были виной самих евреев.
Председатель суда, как рассказал Жаботинский, сам заявил: "Я признаю, что британский полк в подобных обстоятельствах взбунтовался бы, но военный суд должен судить согласно Королевскому циркуляру". И все же строгость наказания удивила даже обвинителей.
"Судом это не было, – сказал Жаботинский, – это была политика, запланированная против батальонов в частности и евреев в целом. Приговор был у судей в кармане и до начала судебного процесса.
Я сделал все, что мог: я был их защитником, теперь мой долг и право обратиться с петицией к королю, то есть, к британскому правительству. От вас я требую: в этих юношах вы должны видеть своих собственных сыновей.
Такой же шторм мог подняться и в 40-м (палестинском) батальоне, и ваших сыновей приговорили бы так же. Подняться теперь на защиту этих парней, прося помилования, – ваш долг. Здесь нет места экивокам. Вы либо поступите правильно, – заключил он, – либо совсем ничего не предпримите".
Временный комитет постановил принять предложение Жаботинского, но при этом имела место важная по значению перепалка. Температуру обсуждения поднял доктор Эдер, начав атаку на осужденных солдат. Не принимая во внимание детальное описание страданий батальона и даже факты, в стране хорошо известные, он отверг национальные мотивы бунта. Причины были тривиальными, а солдаты сами "антисемиты". Более того, петиция только повредит еврейскому делу.
Так он ясно дал понять своим слушателям, что Сионистская комиссия не готова, невзирая на возможные последствия для общины, предпринять или поддержать какие-либо действия, противоречащие ее собственному смирению, продиктованному из Лондона. Бен-Гурион повел энергичную контратаку, представляя на заседании солдат батальона. "Я принадлежу к партии, не восхищающейся британской администрацией, но с момента моего вступления в батальон я был одним из тех, кто призывал солдат соблюдать дисциплину". (Жаботинский выкрикнул: "Полковник Марголин это подтверждает"). Бен-Гурион затем снова перечислил антисемитские события в 39-м батальоне и гневно потребовал, чтобы Эдер повторил свои обвинения перед судом чести.
Жаботинский тоже не смолчал перед атакой Эдера. Он отвечал спокойно, но резко на то, что характеризовал как темпераментный порыв доктора Эдера. "Доктор Эдер, этот член сионистского руководства, – сказал он, – знает факты. Он живет в стране и сам ощутил горечь нашей ситуации и ущемление нашего народа. И все же он послал письмо к Алленби, нашему главному недругу, где писал: "Благодарю Вас глубоко от имени евреев Палестины".
Жаботинский описал, как провел три месяца в Лоде и узнал сам от молодых людей из батальона, как каждый день "они, и вы, и я были унижены".
Он сделал все, чтобы предотвратить взрыв.
"Если есть здесь кто-либо, заслуживающий быть рассерженным и раздраженным на солдат, так это я; и если есть здесь кто-либо, имеющий право упрекать их, – это я, а не этот джентльмен, доктор Эдер, поскольку это я, а не он должен был расхлебывать эту кашу.
Он рассказал, что Паттерсон и Марголин апеллировали к Алленби дать солдатам приговор условно, но Алленби в это время отбыл в Лондон, и приговор был приведен в исполнение.
Петицию составил подкомитет из четырех человек, в состав которого вошли Жаботинский и Бен-Гурион, но отправку ее отложили до прихода ответа Алленби на прошение полковников.
Ответ Алленби, если и был таковой, по-видимому, оказался отрицательным. Паттерсон уехал в Англию в конце 1919 года и подал протест непосредственно Ллойд Джорджу.
Несмотря на свое возмущение, он призывал премьер-министра рассмотреть вопрос прагматично, подчеркивая, что вряд ли "разумно обижать могущественного союзника, – все арестованные были американцами, – выдавая такой дикий приговор солдатам, прибывшим из-за океана добровольцами оказать помощь в Великой войне"[602]602
Паттерсон, стр. 254.
[Закрыть]. Солдат освободили вскоре после этого.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ПРОШЕНИЕ Жаботинского о свидании с Алленби было написано без ведома Паттерсона. Первым сигналом, полученным полковником о существовании прошения, стало официальное уведомление, что «главнокомандующий располагает своими собственными, соответственно выбранными, советниками по политическим вопросам и не готов дать аудиенцию лейтенанту 38-го батальона Королевских стрелков для обсуждения подобных вопросов».
Паттерсон был поражен и тотчас понял, что это стало очередным шагом манипуляторов в администрации, надеявшихся убедить "правительство метрополии, озадаченное тысячей осложнений", объявить Декларацию Бальфура невыполнимой. "Интриганам должно быть несколько, по меньшей мере, досадно, – пишет он, – что нашлись люди, открыто сражавшиеся с ними шаг за шагом, пядь за пядью за реализацию идеалов, воплощенных в знаменитой декларации". Затем он случайно увидел копию отчета Уаллея о Жаботинском. Он был потрясен.
"Генеральной ставке наверняка было известно, что обвинения, предъявленные Жаботинскому членом ставки, были полнейшей неправдой. Его знали в Англии как хорошего и доблестного офицера, исполнявшего свой долг, и более того, верно и хорошо, но казалось, они ожидали такого документа и проглотили его с готовностью, без всякого сношения со мной или, насколько мне известно, с кем-либо другим"[603]603
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/4168/105469/359.
[Закрыть].
Затем наступил заключительный акт этой "возмутительной и неанглийской кампании". 29 августа Паттерсона настиг срочный приказ из ставки отправить Жаботинского в Кантару для немедленной демобилизации. Он протестовал в письменном виде, утверждая, что нуждается в обязанностях, которые выполнял Жаботинский, но единственным ответом стало безапелляционное предписание: "Непосредственный приказ направлен лейтенанту Жаботинскому отправиться в демобилизационный лагерь Кантара немедленно. Если это еще не выполнено, ему надлежит отбыть в Кантару железнодорожным путем сегодня же. Неподчинение этому приказу приведет к дисциплинарным мерам. Об отбытии доложить".
"В результате этого поистине прусского маневра, – продолжает Паттерсон, – Жаботинскому пришлось отбыть в Кантару, где его молниеносно демобилизовали"[604]604
Архив парламентских документов, Иностранный отдел, 3714168 105469 359 Turkey А 137266.
[Закрыть].
Жаботинский тоже был ошеломлен; но он писал Нине Берлин, что несмотря на то что его демобилизация произошла "в оскорбительных условиях, была практически изгнанием", он "не был рассержен, просто устал от всего" и "печален". Но и это он принял без боя. Снова он отправил длинный и подробный протест в Армейский совет и просил, чтобы его представили королю, на что он имел право.
Во-первых, он подчеркивал, что ставка нарушила армейский устав, касающийся демобилизации офицеров, и вызвала исключительное личное затруднение для него и его семьи. И добавил: "Неохотно и с глубоким сожалением я вынужден заявить, что считаю эти действия неблагодарностью. Такого от британских властей я не заслуживал. С первого дня войны я трудился и вел борьбу за британские интересы. Я не английский подданный и не иммигрант. Я никогда до войны не бывал в Королевстве или в Британском доминионе. Я прибыл в Англию в 1915 году будучи русским журналистом, корреспондентом старейшей либеральной газеты России, "Русские ведомости". Как корреспондент я сделал все от меня зависящее, чтобы объяснить русскому читателю цели Великобритании и преодолеть антибританскую пропаганду. В то же время среди еврейства России и нейтральных стран я инициировал просоюзническую и пробританскую пропаганду; многие евреи в тот период были против союзничества Англии с Россией.
Осенью 1915 года я организовал идишский двухнедельник ("Ди Трибюн") в Копенгагене, занявший решительную антигерманскую позицию. Статьи из него регулярно цитировались в американской еврейской прессе и даже проникали в Германию и Австрию. И здесь я вправе утверждать, что был одним из немногих, возможно, одним из двух, считая первым доктора Вейцмана, кто был ответствен за формирование пробританских настроений всего еврейства сегодня. Могу добавить, что провел эту работу без вознаграждения, всецело на средства от моих друзей-сионистов, без какой-либо поддержки из британских источников"[605]605
16 октября 1919 г.
[Закрыть].
В то время ему не было известно об отчете Уаллея. Если бы это было не так, он раскрыл бы эту интригу и потребовал пересмотра дела. Королевский устав категорически требовал, чтобы офицерам сообщалось о каждом негативном отчете, затрагивающем их репутацию. Невыполнением устава и объясняется, почему ни письмо Жаботинского к Алленби, ни отчет Уаллея не были отправлены в Лондон. Из Армейского совета ответа на апелляцию Жаботинского не последовало. Тем не менее копия была выслана в Иностранный отдел с сопроводительным письмом к Бальфуру. Из внутренних документов Иностранного отдела (ставших доступными исследователям спустя 50 лет) очевидно, что Бальфур письма не видел. Несмотря на титул иностранного секретаря, он провел большую часть года на мирной конференции в Париже и с 1 июля замещал Ллойд Джорджа, возглавив британскую делегацию. Лорд Керзон, ставший его заместителем, и старшие чины Иностранного отдела письмо прочли и запросили Военный отдел об их намерениях. Ответ из армейского совета не зарегистрирован. Керзон, тем не менее, написал Жаботинскому: "Поскольку дело касается, по-видимому, военной дисциплины, что не входит в компетенцию настоящего отдела, ваше письмо передано в военный отдел с просьбой о расследовании дела".
Из заметок на полях Иностранного отдела ясно, что они и в самом деле могли не понять, что в Палестине Генеральная ставка нарушила устав. Если бы им предоставили отчет Уаллея, они, несомненно, затребовали бы конкретные основания для увольнения. Прочтя сопроводительное письмо Жаботинского к Бальфуру, они, конечно, отметили бы, что он прямо обвиняет военные власти в том, что предпринятые против него шаги были местью за его обвинение советников Алленби в развязывании "оргии антисемитизма в Палестине". Но в данных обстоятельствах они могли, хоть и с неохотой, спрятаться за спиной военной администрации, полагая, что формально главнокомандующий правил не нарушал. Как заметил один из них, О. А. Скотт, "с лейтенантом Жаботинским несомненно дурно обошлись, но он навлек это на свою голову самонадеянностью. Военный отдел перестал бы функционировать, если бы каждый офицер диктовал своему начальству, когда и как его могут демобилизовать"[606]606
27 февраля 1920 г.
[Закрыть].
Так постыдно, паутиной обмана военные власти Его Величества положили конец уникальной главе, вписанной Жаботинским в историю.
Спустя несколько недель Жаботинскому пришло дружеское письмо от Леопольда Эмери, служившего в тот период в отделе по колониям: "Мне было поистине печально узнать от вас, что военная администрация в Палестине демобилизовала вас так безотлагательно и бесцеремонно. Не думаю, что можно что-либо предпринять для вашей ремобилизации, но полагаю, что военный отдел по меньшей мере должен продемонстрировать благодарность в той или иной форме за ваши заслуги в создании еврейских частей. Я написал туда, призывая их к этому. Я полагаю, зная вашу преданности делу, что вы должны сконцентрировать все свои усилия на будущем"[607]607
Исаак Ремба, «A-Маген ве а-асир» (Защитник и арестант), Тель-Авив, 1960, стр. 49. Цитируется Шехтманом, том I, стр. 321.
[Закрыть].
Предложение Эмери имело неожиданный результат – Жаботинский был представлен к британскому знаку отличия "Кавалер ордена Британской империи". Он сказал Паттерсону, что не желает его. Узнав об этом, Эмери писал Жаботинскому: "Я хорошо понимаю, что вы ранены бесчувственным обращением, исходившим, как я понимаю, от некоторых представителей военных властей, с которыми вы имели дело. Но в конечном счете я бы предпочел, чтобы вы рассматривали это как преходящее и несущественное огорчение, и не позволили бы скрыть от самого себя, что длящееся отношение британского правительства к вашей службе отражено в отличии, официально рекомендованном Военным отделом и утвержденном Его Королевским Величеством. Тот факт, что лично я, через генерала Макдоноу, который вполне симпатизировал и полностью оценил важность ваших усилий, сыграл небольшую роль в обеспечивании того, чтобы ваш отличный труд был отмечен, побуждает меня еще больше стремиться, чтобы вы не позволили существующему на сегодняшний день раздражению убедить вас отвергнуть награду, которая всегда в будущем будет служить удовлетворением"[608]608
Документы Британской международной политики, том IV. Алленби Черчиллю, 6 августа 1919 г., стр. 338.
[Закрыть].
Паттерсона он просил его поддержать. Паттерсон, переносивший все вместе с Жаботинским, коротко написал наискосок письма от Эмери: "Мой дорогой Жаботинский, видите, что пишет Эмери. Поступите, как считаете лучше". Неохотно, но тронутый искренней дружбой Эмери, Жаботинский согласился награду принять. Как он признавался в письме Нине Берлин (к тому времени учившейся в Швейцарии), разочарованный, в депрессии, Жаботинский благоразумно не надеялся, что его протест принесет результаты.
Отсутствие ответа из армейского совета на его письмо не вызывало удивления. По велению судьбы он обрел благодатную возможность отвлечься от своих невзгод. За неделю до его письма к Алленби вышел первый номер долгожданной ивритской газеты "Хадашот Гаарец", и уже в этом номере он опубликовал первую из серии регулярных статей. Статьями его роль не ограничивалась. Нет сомнений, что запах газетного шрифта и краски печатного станка действовали на него успокаивающее. У него нашлось время и для оказания каждодневной помощи редактору в плохо оборудованной газетной редакции.
Жаботинский получил и другое утешение. С ним были Эри и Аня. Телеграмма, сообщавшая об их отбытии из Плимута 12 августа, дошла до него только спустя 12 дней. По прибытии в Порт-Саид, он нашел их уже в ожидании в отеле. Они провели счастливый день в городе, а затем поехали морем в Яффо. Не успел он устроить их у своих друзей, в семью Иоффе в Тель-Авиве, как пришлось торопиться в Кантару на защиту "бунтовщиков" 39-го батальона. Тем не менее вернувшись в Тель-Авив, он обнаружил, что добросердечные и понимающие хозяева помогли Ане немного расслабиться, приспособиться к испытанию влажной жарой позднего лета и спокойно перенести дополнительные дни разлуки с вновь обретенным мужем. Ее наверняка позабавила новость, что тель-авивских матрон и их дочерей весьма занимала косметика, которой она пользуется для воссоздания таких цветущих щек и губ. Этот вопрос задавали даже Жаботинскому, который сумел заверить вопрошающих, что цвет лица был вполне естественным. Его очень радовало, с какой легкостью обживался Эри. Он говорил еще плохо, но был весел, жизнерадостен и через считанные дни обзавелся друзьями. В гуще невзгод и потрясений Жаботинский испытывал благодарность за дары, давшие ему возможность перевести дух и планировать будущее еще до октября, когда был положен конец его карьере лейтенанта армии Его Величества.