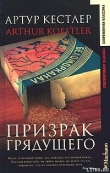Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 53 страниц)
"Рассвет" привел к революции в мышлении и настроениях русской еврейской общины. Гепштейн описал бедность и слабость сионистского движения, но, скорее всего, не в полной мере. В 1904 году оно наверняка обеднело и ослабело еще больше. За два-три года до того сионизм занимал центральное место на русско-еврейской арене. Естественно, доминировало чудесное появление Теодора Герцля, магия его личности и отвага дипломатических усилий. Подавленное и забитое еврейство Восточной Европы вдруг обрело вождя, на равных общающегося с королями, султанами и премьерами, обладающего достоинством наследника престола древнего народа и действующего с мастерством европейского дипломата; вождя, пришедшего с богатого Запада, открывшего для себя свой народ, – и отдавшегося ему целиком. Евреи почувствовали и увидели искреннее сострадание, глубокое сочувствие, двигавшие им. Благодаря ясному интеллекту и интуиции он постиг сущность их бед и одновременно устремился к осуществлению единственно возможного решения проблемы: воссозданию национального очага.
Его практическое предложение было шедевром исторической импровизации. Оттоманская империя, правившая Палестиной, находилась в состоянии упадка. Турцию называли "больным Европы", ее финансовые дела представляли собой острейшую проблему. При наличии определенной суммы можно было бы купить право владения и заселения евреями земли, опустошенной и разоренной веками мусульманского имперского бесправия. Можно спорить, действительно ли оправдались бы выкладки Герцля, найди он в 1901 году нужную сумму – пятнадцать миллионов английских фунтов. Безусловно, неудача Герцля была напрямую связана с отказом богатых евреев-финансистов – Ротшильдов и Гиршей. Крушение надежд, отчаяние за страдающий народ привели его к идее Уганды как временного пристанища. Но Уганда так или иначе оставалась иллюзией; реальностью же была Земля Израиля. Она жила в сердцах людей, в их молитвах, в их каждодневном существовании.
Раскол произошел в одночасье. Герцль внезапно попал под обстрел как самый заурядный политик. Сам факт дебатов об Уганде на 6-м конгрессе сионистов в 1903 году, означавший, что дорога в Палестину закрыта, нанес рану в самое сердце сионистского движения.
Единство в рядах движения сохранило эмоциональное родство между Герцлем и оппозицией в конгрессе, но рана еще сочилась спустя год, когда обнаружилось, что Уганда была всего лишь первым ударом в надвигающейся трагедии. Сердце Теодора Герцля, после восьми напряженных лет нескончаемого труда изменившего лицо еврейской жизни, не выдержало. В июле 1904 года наступила смерть: ему было всего сорок четыре года.
Тогда казалось очевидным, что судьба просто-напросто сыграла злую шутку с еврейским народом. Траур сменился растерянностью, разочарованием и отчаянием. Многие из тех, кто следовал за Герцлем, отошли от движения. В еврейских кругах ширилось влияние апологетов социализма, социальной революции, свержения царского режима. С их точки зрения именно этот путь должен был уничтожить угнетение, дискриминацию, лишения, насилие, подавлявшие еврейство России, и привести к расцвету равенства русской нации свободных граждан. Чуть ли не в одну ночь сионистское движение было вытеснено со сцены.
Группа "Рассвета" высилась скалой среди песков отчаяния и пораженческого настроения, поглощавших, как казалось, движение и его вождей и последователей. Она подняла свой голос именно в этот период; вскоре она стала важнейшим, по существу единственным инструментом, поддержавшим жизнь в сионистском движении и вновь превратившим его спустя короткое время в главную силу российской еврейской общины.
"Рассвет" не ограничивал себя исключительно распространением традиционной сионистской идеи. Прежде всего, его целью было создание и укрепление необходимых основ сионизма: чувства собственного достоинства, гордости за еврейское наследие. Авторы "Рассвета" заняли предельно ясную и решительную позицию по вопросу об истинных причинах положения евреев. Эта позиция была исторически важной; ее урок и ее эффективность не ограничиваются определенным периодом времени и страной.
Евреи, писал "Рассвет", требуют равенства не потому, что представляют древнюю цивилизацию, не потому, что в их рядах столь многие внесли вклад в общественный прогресс в самых разных сферах. Евреи требуют равенства не потому, что они особенно праведны или задались целью быть всем полезными. Они стремятся к собственному процветанию и с чувством собственного удовлетворения понимают, что они таким образом укрепляют экономику. Ни благодарности, ни наград они за это не просили. Они не собирались быть "светочем для других народов", чьим-нибудь наставником. Требуя гражданские права для всех, они требовали равенства в этих правах по единственной очевидной причине, что, как и другие, они принадлежат к роду человеческому. Проецируя таким образом примеры человеческого достоинства, "Рассвет" противостоял не только царскому режиму и русскому обществу. Он бросил вызов еврейским либералам, социалистам и ассимиляторам, обычная позиция которых была вечно оправдывающейся и извиняющейся: мол, если бы евреи не были сверхправедными, сверхталантливыми, одаренными сверхцивилизованными предками, им не причитались бы элементарные права, которыми пользовались и к которым стремились их сограждане-неевреи. Таким образом они соглашались с неравной меркой, бывшей (и оставшейся) одной из характеристик антисемитизма повсюду в мире.
С другой стороны, "Рассвет", опять-таки единственный из еврейских периодических изданий, использовал богатые интеллектуальные ресурсы для борьбы с иллюзиями относительно эмансипации, будто бы способной принципиально разрешить еврейский вопрос. В прогрессивной Западной Европе эмансипация уже наступила – и каковы результаты? Ядовитый немецкий антисемитизм, "научный" австрийский процветали по-прежнему. С особой драматичностью его отвратительное лицо проявилось во Франции именно в период восхваляемого либерализма. Еще свежа была память о томящемся на Чертовом острове Дрейфусе. Считать, что именно в России, России повсеместных погромов, солнце эмансипации растопит сердца "жидоненавистников", было иллюзией и западней; сторонники такого представления вели свой народ к вершинам отчаяния. Снова и снова из Петербурга слышался довод: только автоэмансипация, верная еврейской истории и культуре, может привести к решению вопроса. "Рассвет" не преуменьшал трудностей такого пути, весьма зыбкой перспективы достижения цели в ближайший период, но он требовал четкого понимания, непоколебимой отваги, непрерывной деятельности и верности еврейскому наследию[71]71
«Одесские новости», 3 января 1908.
[Закрыть].
Вместо Альталены в еврейской общине зазвучало имя Жаботинского. Все критики и обозреватели того времени подчеркивали, что он захватывал читателя богатством языка и несравненностью стиля своих статей не меньше, чем их содержанием. Не было больше легкого освежающего тона фельетонов Альталены. Здесь проявился, как скоро выяснилось, другой характер. Юмор присутствовал по-прежнему, но исчезла беззаботность. Серьезность описываемого положения, судьбоносность текущих дебатов мобилизовали новые глубины мысли, выраженные новой лексикой и более свободным стилем, пронизанным безошибочно ощутимой, хоть и сдержанной, страстью. Кое-кто из коллег выражал озабоченность этой переменой, но Жаботинский писал, руководствуясь своим умом и сердцем.
Шехтман, обсуждавший это с Жаботинским много позже, объясняет с емким немногословием: Жаботинского больше не интересовало поклонение ему как вундеркинду; его жизнь захватила великая любовь.
Свидетельством влияния его работ даже на посторонних, более того, посторонних, глубоко враждебных его идеям, служат воспоминания Николая Сорина, обязанностью которого было представление статей русскому цензору. Отношение к "Еврейской жизни" и к "Рассвету" было жестоким и непререкаемым. Но именно откровенные статьи Жаботинского вызывали снисходительность. Оппоненты открыто выражали восхищение. Сорин пишет: "Часто, когда они готовились черкать по ведущей статье номера (обычно неподписанной), я упоминал, что она написана Жаботинским, и они отступали, – чтобы его не огорчать".
Но не только печатное (в "Рассвете") слово вновь вдохновляло общину. Другим, еще более мощным фактором, обладавшим побудительной силой, невиданной прежде в сионистском движении, стал ораторский дар Жаботинского. Его одесская слава оратора и быстро сформировавшегося полемиста не прошла незамеченной вождями российского сионистского движения. Уже в начале санкт-петербургского периода, на фоне плеяды великих ораторов блестящей столицы империи Жаботинский дебютировал с огромным успехом. Он наэлектризовал еврейскую общину на мемориальном митинге после смерти Герцля. В качестве вступления он прочел свое стихотворение "Стенание", а затем произнес речь, озаглавленную "Во время шивы" По существу эта речь была страстным утверждением его собственного кредо, значительно углубленного особенным впечатлением, которое на него произвел Герцль. "У нас наступили кардинальные перемены, – сказал он. – Мы были пробуждены к жизни контактом с почвой, брошенной под наши ноги Герцлем".
Жаботинский, конечно, осознавал уже тогда, какую великую личную жертву принес Герцль своим драматическим прыжком в гущу еврейских проблем, пренебрежением всем, что было ему дорого, разрушенной семейной жизнью, растратой своего капитала.
Справедливо задаться вопросом, не повлиял ли этот аспект жизни Герцля на его собственную готовность отказаться от комфортабельного существования и надежности блестящей карьеры в литературе. Спустя несколько лет в статье "Ваш новый год" он писал: "Для меня существует только мое завтра, только моя заря, в которую верю всем трепетом моего существа, и ничего мне больше не нужно… Я когда-то сильно чувствовал красоту свободного, не рядового человека, «человека без ярлыка», человека без должности на земле, беспристрастного к своим и чужим, идущего путями собственной воли над головами ближних и дальних. Я и теперь в этом вижу красоту. Но для себя я от нее отказался. В моем народе был жестокий, но глубокий обычай: когда женщина отдавалась мужу, она срезала волосы. Как общий обряд, это дико. Но воистину бывает такая степень любви, когда хочется отдать все, даже свою красоту. Может быть, и я мог летать по вольной воле, звенеть красивыми песнями и купаться в дешевом плеске ваших рукоплесканий. Но не хочу. Я срезал волосы, потому что я люблю мою веру. Я люблю мою веру, в ней я счастлив, как вы никогда не были и не будете счастливы, и ничего мне больше не нужно"[72]72
Гепштейн, стр. 45.
[Закрыть].
Подстегнутые желанием обеспечить Жаботинскому возможно более широкую аудиторию, руководители движения сделали все, чтобы убедить Идельсона переехать из Москвы и взять редактирование "Еврейской жизни" на себя.
Таким образом, начиная со второй половины 1904 до 1908 года Жаботинский "блуждал" по России, выступая в еврейских общинах этаким "поставщиком от двери к двери" сионистской идеи. Некоторые места он посетил несколько раз. В своей статье "Ваш новый год" он вспоминает, где встретил четыре предшествующих Новых года: в поездах по дороге в четыре разных района России.
В автобиографии он не пишет об эффекте своих речей. Несмотря на то что он выступал только в крупных центрах, послушать его стекались издалека. Не только ясность и логика в его выступлениях, сострадание и глубина мысли, но и особенный магнетизм речи удерживал слушателей, включая оппонентов, словно прикованными к месту его волей.
Описывать словами природу и воздействие ораторства почти так же трудно, как описывать словами значение и природу музыки. В его речах был ритм; сам подбор и порядок слов, рассчитанные паузы привносили напряжение и драматизм в каждую фразу. Использование жестов для придания оттенков и комментирования было точным и органичным; кроме того, имел значение и сам голос.
Не только диапазон модуляций придавал дополнительный эффект словам и фразам; в его голосе было нечто, не поддающееся определению, имеющее, возможно, гипнотический характер. Всегда теплый, он иногда раскатывался громче, но никогда не срывался на крик. Все вместе, содержание и стиль, создавали впечатление закаленной, прошедшей через огонь стали.
Удивительным феноменом было то, что и те, кто слышал Жаботинского в его юные годы, и те, кому довелось (как автору этих строк) слышать его впервые в пору зрелости, реагировали одинаково, сраженные удивлением. Никто никогда не слышал ничего подобного.
Свидетельства тех, кто позже, в Палестине, стал его ярым противником, передают в какой-то степени эффект его речей. Все они дали интервью Шехтману в 1950-е годы. Шломо Залман Шазар (позднее третий президент Израиля) сказал, что запомнил "каждое слово" речи Жаботинского на смерть Герцля, которую он услышал в Вильно в 1907 году.
Ицхак Гринбаум, впоследствии вождь польских евреев и член первого кабинета министров Израиля, описывал Жаботинского тех дней как "любимца русского сионизма"; а Иосиф Шпринцак (председатель Кнессета первого созыва), в то время один из создателей Цэирей-Цион – Сионистского движения молодых рабочих, пытался убедить Жаботинского стать во главе их организации.
Ирония истории, замеченная последующими поколениями в этом приглашении, тогда не была очевидной. Первые робкие ростки Сионистского социалистического движения только-только пробивались в тени "Бунда", из оппозиции к нему, родившейся среди еврейских рабочих; его покровителем и защитником от нападок был "Рассвет" – в частности, выступления и статьи Жаботинского. Его ждала оппозиция, даже ненависть.
Несмотря на силу и популярность "Бунда" и множества красноречивых ассимиляторов и полуассимиляторов, он постоянно полемизировал с кем-то из них, а то и со всеми. Мастерское дебатирование, насыщенное емким юмором, только укрепляло его непревзойденную репутацию среди публики. Отголоски его идей и рассказы о его необыкновенном ораторстве распространились в широко разбросанной, но тесно связанной еврейской общине. Нет сомнения в том, что именно голос Жаботинского сдерживал разочарование, вновь вселял в сердца отвагу и надежду.
События развивались драматично и трагически в подтверждение сионистских доводов. 1905 год был мрачным годом в русской истории. Сокрушительное поражение, которое русская армия потерпела в войне с Японией, способствовало революционной активизации, подавленной правительством. С ее возобновлением правительство обещало, а потом отменило демократизацию; по существу, оно играло в кошки-мышки с революционерами, пока в 1907 году революционное движение не было безжалостно подавлено премьером Петром Столыпиным.
За военным поражением последовали запланированные разнузданные атаки на евреев в прессе, обвинения их в симпатиях и пропаганде в пользу Японии. Следом разразились погромы, открыто учиненные отрядами "Черной сотни", учрежденными правительством якобы для борьбы с революционерами. В нескольких городах евреев убивали прямо на улицах.
В 1905 году царское правительство, будучи все еще неспособным справиться с революционными настроениями, объявило далеко идущие реформы и обещало гражданские права населению. В ответ на это организации, поддерживавшие монархию и финансируемые правительством, провели маленькие "патриотические демонстрации", очень скоро вылившиеся в массовое насилие над евреями. Во многих городах были убиты сотни. В Одессе, где погром продолжался четыре дня, погибли триста евреев.
В Петербурге состоялись два митинга протеста. Один был организован сионистами, но среди тысяч, наводнивших гигантский зал, было много социал-демократов и бундовцев. Жаботинский заметил, что в этот раз присутствовали многие неевреи. В напряженной обстановке первый оратор, сорокадвухлетний вождь российских сионистов Менахем Мендель Усышкин, яростно атаковал социалистов.
Две русские социалистические фракции, социал-демократы и социалисты-революционеры, только что опубликовали критику режима по многим направлениям. Ни единым словом не было упомянуто недавнее преступление правительства: убийства погромщиками евреев почти в сотне городов.
"Последователи Маркса и Лассаля, – заявил Усышкин, – забудут агонию народа, породившего этих вождей, так же как последователи Иисуса Христа и апостола Павла забыли об их происхождении". Это вызвало бурю. Социал-демократы и бундовцы освистали Усышкина. Сионисты громко защищали его. Председатель Идельсон стучал молотком по столу. На него никто не обращал внимания. Было ясно, что митинг срывается. Внезапно над толпой, на плечах двух из самых высоких евреев Петербурга, – один из них, Виктор Кугель, был известен в Петербургском университете под кличкой "полтора жида", – появился Жаботинский. Первое слово – "Баста!" – произнесенное им, прогремело над общим бедламом; толпа увидела, что это Жаботинский, – и утихла, как по мановению волшебной палочки. Девушка в зале воскликнула: "Это не голос человека. Это играет орган"[73]73
Цитируется по Шехтману, том I, стр. 94.
[Закрыть].
Когда пришел черед Жаботинского выступать с подмостков перед теперь уже притихшей аудиторией, он подхватил линию Усышкина: "Нас пытаются утешить утверждениями, что среди убийц не было рабочих. Возможно. Может быть, в погромах пролетариат не участвовал. Но пролетарии сделали нечто похуже: они про нас забыли. Это-то и есть настоящий погром"[74]74
Рассвет, 19 октября 1930.
[Закрыть].
Никто не попытался возразить Оппозиция казалась поверженной. Николай Сорин вспоминает, что весь зал разразился овацией[75]75
Гепштейн, стр. 45. Гепштейн там присутствовал.
[Закрыть].
Другой митинг был организован руководителями русской интеллигенции. Выступали самые значительные общественные деятели Санкт-Петербурга, журналисты и писатели. Публику на восемьдесят процентов составляли евреи. Выступления были самыми красноречивыми в российской оппозиции; председательствовал известный писатель-социалист В. А. Мякотин. Речи в осуждение правительства вызвали большой энтузиазм. Затем выступил Жаботинский. Он начал со спокойного перечисления заслуг евреев в революционном движении. Но, сказал он, русская интеллигенция, стоявшая во главе этого движения, игнорировала сорок лет еврейских страданий и невзгод. Они игнорировали это даже во время революции.
Затем он перешел к положению евреев и проанализировал, эпизод за эпизодом, преследования и дискриминацию в течение сорока лет. В конце каждого эпизода он поворачивал голову "на девяносто градусов", оказывался лицом к лицу со всеми маститыми прогрессистами и социалистам на сцене и ронял в наэлектризованную тишину одни вопрос: "Где вы были тогда?"[76]76
Наш голос, Нью-Йорк.
[Закрыть] Нет свидетельства, что эта беспрецедентная конфронтация повлияла на вождей русских либералов или социалистов или на их еврейских коллег. Но воспитательный и просто согревающий душу эффект в еврейских общинах по всей России, когда до них дошел слух об этом, был необычайным. Жаботинский выразил в одном предложении из четырех слов всю зыбкость предпосылки, будто возрождение русского народа станет возрождением и для евреев, – и показал пример гражданской смелости, уникальной по тем временам. Жгучую весть об этих двух митингах Жаботинский пронес через все просторы России. «Мы поняли, – пишет Николай Сорин, – что новый вождь, новый Богом помазанный трибун родился в Израиле. Этот вождь обладал единственным недостатком… ему не было еще и двадцати пяти лет»[77]77
Наш голос, Нью-Йорк.
[Закрыть].
По ходу своих путешествий Жаботинский был дважды арестован и посажен в тюрьму: первый раз в Херсоне, где сионистский митинг проводился без разрешения властей, затем в Одессе, на революционном митинге. Здесь власти, по-видимому, забыли о его стычке с Панасюком, но не снесли яростной атаки на царский режим, которую он завершил своим любимым итальянским словом "баста!".
По стечению обстоятельств и к счастью для финансовых дел Жаботинского, как раз, когда Сорин прислал ему в Одессу просьбу о статье, он получил такую же просьбу от Алексея Суворина (бунтарски настроенного сына известного антисемита Бориса Суворина), который был редактором умеренно либеральной газеты "Русь".
Вскоре по приезде в Санкт-Петербург Жаботинский нанес Суворину визит и получил приглашение писать две статьи в неделю за щедрую оплату – 400 рублей в месяц. Несмотря на регулярную зарплату, многие из его статей – обычно на общие политические и литературные темы – "резались", поскольку звучали слишком радикально по отношению к режиму. Неудовлетворенный, он принял предложение соперничавшей и более радикальной газеты "Наша жизнь", также платившей хорошие гонорары. Но и здесь его статьи часто не публиковались: они были недостаточно радикальны.
Хуже того: редакторы заявили, что он должен поставить свой знаменитый блестящий стиль на службу их идеям. С негодованием, не раздумывая, он пришел к Суворину и снова предложил свои услуги. "По крайней мере, – заявил он, – вы не считаете меня граммофонной пластинкой". Суворин был только счастлив, и Жаботинский вернулся под крыло "Руси".
"Необыкновенные политические статьи, – вспоминал Суворин, – выдвинули Жаботинского в авангард русских писателей, и очень скоро он был коронован "королем политических фельетонистов"[78]78
Цитируется по Шехтману, том I, стр. 108.
[Закрыть].
Так, пока он был погружен в интенсивную сионистскую работу (Гепштейн вспоминает, что он писал по несколько статей для каждого выпуска "Рассвета", в том числе и анонимных), слава, которую легкие фельетоны снискали ему в Одессе, теперь многократно умножалась в столице эскападами на политические темы и экскурсами в мировую литературу, где он чувствовал себя легко и уверенно.
Но его соратникам было ясно, что Жаботинский не стремился больше к вершинам русской литературы. Его душа лежала не здесь.
Постепенный уход Жаботинского из мира русской литературы вызывал не только печаль, но и досаду серьезных русских писателей. Леонид
Андреев писал ему из Финляндии в 1912 году: "Очень жаль, что Вы на полпути или уже полностью покинули русскую литературу, так в Вас нуждающуюся"[79]79
С. Гольдберг. «Встречи с Куприным», Jewish Times, Лондон, 28 октября 1938.
[Закрыть].
За два года до того на вопрос молодых сионистов о русско-еврейском писателе Семене Юшкевиче А. И. Куприн взорвался: "Юшкевича вы можете оставить себе. Но есть другой одессит – подлинный талант, могущий вырасти в орла русской литературы, – его-то вы у нас украли, просто украли… Огромная потеря для русской литературы, насчитывающей так немногих, владеющих его стилем, его пониманием, его уверенным проникновением в нашу душу"[80]80
Рассвет, 19 октября 1930 года.
[Закрыть].
И еще один известный новеллист – Михаил Осоргин, работавший позднее с Жаботинским в "Русских ведомостях", писал (к 50-летию Жаботинского в 1930 году): "Я откровенно сержусь на еврейское национальное дело, оторвавшее Жаботинского от русской литературы. Он превратился в иностранца – хоть и вежливого, и расположенного. В русской литературе очень много евреев с исключительно русскими интересами. При моем полнейшем к ним уважении, я все же перевязал бы тесьмой большой их процент и доставил вам, евреям, в обмен на одного, холодно-дружелюбного Жаботинского"[81]81
Гепштейн, стр. 36–37 и интервью с Шехтманом, том I, стр. 67.
[Закрыть].
Тем не менее в тот первый год в Санкт-Петербурге он завоевал литературный успех стихотворением "Бедная Шарлотта", написанным в 1902 году. Оно представляло новую интерпретацию истории Шарлотты Кордэ, убившей во время Французской революции Марата. Поскольку стихотворение симпатизировало Шарлотте, был шанс проскочить цензуру, правда – небольшой. Но в 1904 году находчивый Зальцман выпустил его отдельной брошюрой.
Так случилось, что Максим Горький увидел рукопись, когда она готовилась к печати. Он оказался под таким впечатлением, что закупил весь тираж для распространения возглавляемым им издательством "Знание". Благодаря уловке, придуманной Шломо Гепштейном, цензуру провели, и она наложила руку только на часть тиража. Остальное удалось распродать.
Это случилось накануне революции 1905 года[82]82
Целиком эта история рассказана Аароном Долевым «Горький и Жаботинский». Натив, январь 1991 года.
[Закрыть].
Горький познакомился с Жаботинским и его работами много раньше. Они случайно встретились в Италии в 1900 году – и сразу друг другу понравились. Спустя четыре года Горький прочел в переводе Жаботинского стихотворение Бялика "Сказание о погроме", посвященного событиям в Кишиневе, и был так глубоко тронут, что почувствовал необходимость выразить свои чувства при личной встрече с Жаботинским.
Спустя семь лет его вновь потрясла поэзия Бялика в переводах Жаботинского. "Какой чудесный поэт, – писал он. – Какое редкое сочетание силы, грусти и устремления к переменам".
Восхищение Горького оказалось полезным, когда в 1921 году Жаботинский обратился к нему из Лондона с просьбой использовать влияние на большевистские власти, чтобы Бялику было разрешено выехать из России: "он больше не может творить в России, – писал Жаботинский. – В Палестине, где иврит – не только язык, но и сила, сплачивающая две половины народа – сефардов и ашкеназийцев, – в Бялике остро нуждаются…" Бялика вскоре после этого выпустили.
Это письмо было в числе восьми, обнаруженных совершенно случайно в 1989 году профессором Еврейского университета Михаилом Агурским, проводившим исследовательскую работу в институте Горького в Ленинграде. Письма охватывают период в 24 года – до 1927 года. Последнее из них свидетельствует, что взаимоотношения их были близкими.
Жаботинский потерял свой юридический диплом и обратился к Горькому с просьбой получить копию у советских властей, которые иначе, как было ясно Жаботинскому, пальцем о палец не ударят. Горький выполнил просьбу[83]83
Повесть моих дней, стр. 59.
[Закрыть].