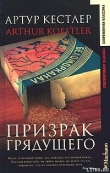Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 53 страниц)
Более того, в сложившихся исторических условиях у него были основания сравнивать дух ишува в Палестине с борьбой греков за независимость в девятнадцатом веке. За этим исключением, пишет он, "история мало знает других страниц, где бы тесно переплелись, и в такой полной мере, далекая древность, величие воспоминаний, глубина падения и горя, и такой полет надежды"[455]455
«Слово о полку», стр. 224–225.
[Закрыть].
Дипломатическое вмешательство Аронсона было не последним вкладом Жаботинского в волонтерское движение. Когда начался набор, он находился на фронте, со своей частью в горах Самарии, но был приглашен выступить на митингах в Иерусалиме, где, по убеждению Паттерсона, результаты набора оказались неудовлетворительными. Эффект выступлений Жаботинского передан в воспоминаниях одного из присутствовавших, Д.Л. Неймана:
"Присутствовавшие очарованы чистейшим ивритом, вдумчивым стилем и бодрящими словами. Значение "странной идеи" вырисовывается все яснее. Из ясности вырастает понимание, из понимания – разгорается возбуждение, из возбуждения страсть – так Иерусалим впервые познакомился с Жаботинским"[456]456
В беседах с Шаломом Шварцем. Шварц, стр. 86.
[Закрыть]. Он же пишет о своих выступлениях как излишних, его впечатляет «незабываемый феномен» духа, с которым он сталкивается.
"Там ко мне приходили старые и молодые матери, сефардки и ашкеназийки, жаловаться, что медицинская комиссия "осрамила", т. е. забраковала, их сыновей. Лейтмотив этих жалоб звучал так: "Стыдно глаза на улицу показать". Больной еврей, по виду родной брат Мафусаила, пришел протестовать, что ему не дали одурачить доктора: он сказал, что ему 40 лет, – "но врач оказался антисемитом". С аналогичными жалобами приходили мальчики явно пятнадцатилетние. Скептики шептали мне на ухо, что многих гонит нужда; может быть, – но они все помнили битву под Газой и знали, на что идут. А мне говорили, что иерусалимская картина еще была ничто в сравнении с тем "коллективным помешательством", которое охватило в те дни Яффу и колонии, особенно рабочую молодежь"[457]457
Элиягу Голомб. Жаботинский и еврейские подразделения. Ма'аракбет (иврит) IV, от ноября – января 1940-41 гг.
[Закрыть].
И полковник Паттерсон, и майор Радклиф Соломон, офицер-медик тридцать девятого полка, отметили этот феномен по прибытии добровольцев в Египет на учения – молодежи, начислившей себе где три, где четыре года, и стариков, убавивших двадцать.
По прибытии в Иерусалим Жаботинский был приглашен майором Джеймсом Ротшильдом, назначенным Паттерсоном главой кампании по набору, обратиться к добровольцам в Яффе перед его возвращением на фронт. Здесь он встретился с новыми друзьями, верхушкой волонтерского движения, и со старыми – из Англии, "проведшими с нами самые горькие дни одиночества и разочарований: инженером Аршавским с нашивками капрала, Гарри Фирстом в одежде рядового; и, наконец, самыми "старыми" из всех, товарищами моими по Габбари и Трумпельдора по Галлиполи: сержантом Ниселем Розенбергом, волжскими герами, грузинскими "швили". Все они собрались во дворе женской школы. Вокруг была вся Яффа с Тель-Авивом, стар и млад, все разодетые в свои убогие праздничные наряды, девушки с цветами в волосах, многие с флажками; офицеры английские, офицеры итальянские из отряда, стоявшего в Тель-Авиве, и зрители-арабы, очевидно в таком же хорошем настроении, как и мы"[458]458
1 мая 1918 года, цитируется Шварцем, стр. 86.
[Закрыть].
Он дал волонтерам совет, который посчитал далеко не излишним:
" – Друзья, учить вас храбрости незачем. Но не это главное. В жизни солдата страшнее всего не опасность, а две другие стороны армейской жизни: скука и грубость. С опасностью встречаешься раз в месяц; но в промежутке между двумя атаками нужно несколько недель просидеть в траншеях или в тылу, проделывая нудные, надоевшие поденные работы, в которых нет ни соли, ни перцу, и при этом сержант, хотя бы из вашей собственной среды, будет еще обзывать вас bloody fools или эквивалентом этого титула по-еврейски. Научитесь и это выносить. Лучший солдат не тот, кто лучше стреляет – лучший тот, кто больше в силах вынести. Более того, когда английский унтер ругается, не считайте его хамом. Англичане сегодня наши партнеры в войне, в деле, которое они называют "игра". Для нас это не игра, у нас философия жизни другая, но и в их философии есть своя красота. В игре человек всегда и честнее, и терпеливее, чем в жизни. Купец может обсчитать покупателя и глазом не моргнет – но за картами он счел бы позором передернуть, ибо если не в жизни, то хоть в игре хочется человеку прожить час без страха и упрека. Помните, в детстве мы играли "на щелчок по носу": кто проиграл, принимал покорно свой щелчок – попробовал бы тот же мальчик щелкнуть вас по носу в действительной жизни! Так смотрит на жизнь англичанин: все в ней игра, а война в особенности. Капрал ругается? Да ведь это просто щелчок по носу, это в правилах игры, сердиться не полагается. Грязно в траншее? Это просто плохая карта попалась в игре, потерпи до следующей раздачи. Пуля, граната, рана и смерть – все это части игры. Вообще я в их философию мало верю, но для войны она хороша. Играйте по правилам, не считая ни щелчков, ни битых карт!"[459]459
Паттерсон. С иудеями, стр. 83–84.
[Закрыть].
Так Жаботинский, оказавшийся в ситуации выбора темы для обращения к группе, верной сионизму, не стал растрачивать этот случай на рассуждения о сионизме. В тот момент самым патриотичным из них и интеллектуально самым избранным требовалось некое здравое напутствие, основанное на его собственном опыте, о повседневных и обманчиво мелких проблемах выживания и армейских условий.
И действительно, во всех его контактах с руководством волонтеров для него было естественным принимать их патриотизм, их преданность земле и этике труда как данность. Он видел в них коллег, работающих вместе с ним на преодолении немедленных препятствий, задерживающих или осложняющих воплощение их общих чаяний. Это, видимо, не оценили некоторые предводители рабочего движения, впервые оказавшиеся в военной форме. Они были в стране элитой. Они остро осознавали свое особое положение и ждали, что Жаботинский выразит им за это свою признательность. Рахель Янаит утверждала, что Жаботинскому было все равно, кто войдет в состав полка, лишь бы состоялся набор. "Мы же, с нашей стороны, искали идеалистов, и палестинские волонтеры были сливками движения". Берл Кацнельсон даже выразил мнение, что Жаботинский предпочитает палестинцам лондонских рекрутов.
Обвинения эти появились значительно позднее, когда Кацнельсон, Янаит и другие фигуры в рабочем движении превратились в ярых оппонентов политических идей Жаботинского[460]460
«Слово о полку», стр. 231–232.
[Закрыть]. То же самое отражено в наследии Голомба двадцать два года спустя после смерти Жаботинского. Он обвинил Жаботинского в «отсутствии сопереживания с волонтерами»[461]461
«Слово о полку», стр. 233–238.
[Закрыть].
В контексте событий и проблем 1918 года эти мнения весьма наивны. Никто не ценил добровольцев больше, чем Жаботинский, или был более щедр на похвалы.
Его письма к жене полны выражения восхищения ими, и он часто говорил, что надеется перевестись в их полк. В письме к Вейцману вскоре после первой встречи с волонтерами раскрываются его чувства: "Еврейские части желательно держать вместе. Из-за разного уровня военной подготовки может быть поднят вопрос об отправке тридцать восьмого батальона на фронт раньше, чем они встретятся с палестинскими и американскими подразделениями. Но как раз эти подразделения, состоящие исключительно из добровольцев, полны энтузиазма и идеализма, как это бывает исключительно редко. Это может оказать хорошее влияние на наш английский набор, состоящий в основном из призывников.
Я думаю, вы вполне оцениваете важность такого контакта. И если для этого требуется задержка в отправке нашего старейшего полка, дело того стоит, даже и с военной точки зрения"[462]462
Паттерсон, С иудеями, стр. 83–84.
[Закрыть].
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ТРИДЦАТЬ восьмой батальон закончил учения и был отправлен из Египта в Палестину 5 июня, но прежде довелось пережить то, что Паттерсон описал как «смертельный удар по самому нашему существованию», нанесенный Генеральным штабом. Чиновники штаба выступили с предложением расформировать батальон и дать разрешение его солдатам присоединиться к рабочим частям. «Несомненно, хитроумный шаг, – пишет Паттерсон, – избавиться от еврейской проблемы, а заодно навлечь на них всемирное презрение».
Батальонный отреагировал с обычной мудростью и решительностью. Он ответил приказом организовать парад, на котором каждый командир подразделения разъяснил своим солдатам важность возложенной на него миссии. Здесь же шла речь о том позоре и бесчестье, которые будут навлечены на весь народ, если создастся впечатление, что еврейская часть отказывается сражаться даже за Палестину.
С просьбой о переводе обратилось всего двенадцать человек, но и это не успокоило Паттерсона. Он вызвал каждого из них к себе, и после беседы со "всем отведенным красноречием" десять из них забрали свои прошения. "Двое упрямых были высланы из лагеря, как пораженные проказой"[463]463
Паттерсон, там же, стр. 88–92.
[Закрыть].
Жаботинского никто не обязывал отправляться на фронт. Он мог оставаться на своем посту в Генеральном штабе. Записи его аргументов не сохранились, но когда после трехдневной остановки в Сарафаде батальон был переброшен на фронт, он вновь оказался во главе своего отряда. В его книге о легионе содержится живое и пронизанное юмором описание его военной жизни. Это был довольно спокойный период, и батальон занял позиции напротив турецких, на полпути между Иерусалимом и Шхемом (Наблусом).
Две заброшенные арабские деревушки Джильджилия и Абуэйн, находились на флангах. "Представьте себе горный хребет, – пишет Жаботинский, – высотою приблизительно 2.500 футов, тянущийся с запада на восток. С севера лежит глубокая, тоже продольная долина, а по ту сторону долины вторая параллельная цепь гор, еще выше первой. Наш лагерь был на первом хребте, турецкий – на втором; от верхушки до верхушки версты три. Оба лагеря, конечно, не на вершинах, а футов на сто ниже, на том склоне, которого противник не видит. Днем на вершину запрещено выходить: часовые сидели в замаскированных каменных землянках, называвшихся "O-Пип" (Observation Post). По ночам мы занимали траншеи на открытом склоне горы; траншеи были неглубокие, собственно не траншеи, а брустверы, которые у нас называли индостанским словом "сангар". Кроме того, каждую ночь высылался в долину патруль на случай неприятельской атаки.
Это было спокойное время, как будто нарочно для того, чтобы постепенно ввести свежих солдат в боевую атмосферу. По утрам турки приветствовали нас получасовой бомбардировкой; но почему-то стреляли всегда в сторону, в одинокую скалу, совершенно лысую, где не только человека, но и коршуна никто не видал; и у них на три бомбы ни одна не взрывалась. Помню только три или четыре раза, когда они палили в наши позиции, в том числе один раз ночью, но вреда нам не причинили. Холмы в той местности падают не откосо, а террасами, вроде лестницы: каждая лестница шириною в два-три метра, а склон над ней поднимается отвесно, высотою с двухэтажный дом. Наши палатки стояли вплотную у самого отвеса, так что снаряды, летя по траектории, пролетали почти всегда мимо. Должно быть, и наш огонь им мало вредил"[464]464
«Слово о полку», стр. 240.
[Закрыть].
Жаботинский продолжает: "Операции на Палестинском фронте относятся к категории "малой войны". Из новомодной военной чертовщины мы мало что испытали. Изредка любовались поединком в воздухе, когда два аэроплана вертелись друг против друга вокруг незримого центра, словно две каретки или лошадки на карусели, треща пулеметами и усыпая небо клочьями белой ваты. Газовых атак у нас не было. Правда, в середине июля вдруг учредили "газовые маневры". Нам было приказано приспосабливать тяжелые противогазовые устройства на животе и носить их каждый день; каждое утро мы упражнялись в надевании противогазов. Нам было сказано, что это необходимо, поскольку получено сообщение, что турки начали газовые маневры.
Позднее, когда мы допросили захваченных турецких офицеров, каковы были причины газовых маневров, ответом было: "Мы получили сообщение, что газовые маневры начаты англичанами". Опасных предприятий было только два: идти ночью с патрулем или отсидеть неделю в деревне Абуэйн.
Патруль состоял из лейтенанта с двенадцатью солдатами. Тяжелые армейские сапоги надо было завернуть в толстые тряпки, чтобы не стучали, тряпками надо было закутать голые колени – летом мы носили трусики, а колючая флора той местности изумительно богата. За два часа до выхода лейтенанту вручали запечатанный конверт с подробным описание маршрута. Иногда он сводился к прогулке по долине, но иногда вел и вверх по противной горе, подчас всего на двести фунтов ниже того места, где у нас на карте красным обозначены были часовые посты противника. Это была служба нелегкая. Прежде всего приходилось карабкаться в темноте вниз, тысячу фунтов и больше по утесам и сквозь колючие заросли, с ружьем в руке, и притом без шума. Добрый час уходил на это. После того надо было пробираться в долине версты на две вправо и столько же влево, прячась под деревьями и перешептываясь с сержантом, что это за пятно – турок или кактус. Потом наступало самое трудное: карабкаться на турецкую гору, отыскивая себе путь при помощи компаса или при посредстве "признаков", сообщенных осведомительным бюро в следующей форме: "вправо от расколотого фигового дерева" или "в десяти шагах налево от второй лужи". Но вот мы наконец добрались до "камня в пятнадцать футов высотой, который с севера похож на голову гиппопотама" (кто его видел, гиппопотама, да еще так близко, чтобы узнать его в профиль в темную ночь?). Тут вы отдыхаете и раздаете солдатам по кусочку шоколада. Потом назад, еще два часа ползком или карабкаясь, причем уже все устали. Это, пожалуй, самая неприятная часть патрульного дела. Вы в ста метрах от турецких траншей – и ничего не поделаешь, из-под усталых ног сыплются камни. Вдруг раздается выстрел, и что-то шлепается о скалы недалеко от вашего последнего солдата (идти приказано гуськом; устав требует, чтобы офицер шел посредине, но шик требует, чтобы он шел впереди). Вы "кричите" шепотом: ложись! Патруль ложится. Едва в трехстах шагах подальше, вверх по склону горы, вспыхивает ракетой и заливает светом всю вашу часть долины, заросли, сухое русло зимнего ручья, скалы, провалы – очень эффектно, если бы было до того; но отличить людей от кактусов при этом освещении трудно: сверху раздается еще несколько выстрелов, но стреляют они мимо. Тут за нас начинают заступаться: из Абуэйна, из Джильджилии, изо всех "сангаров" на нашем склоне подымается ружейный, иногда пулеметный концерт (они знают, где мы, и в нашу часть долины не стреляют). Иногда в этот домашний спор вмешивается и начальство, английская артиллерия. С жутким гулом альпийского поезда в темную ночь, когда путнику из долины виден только светящийся хвост его, едет величественно, наперерез по небу над вашими головами огневая комета и разрывается на турецкой горе, потом другая – и хоть вы догадываетесь, что это все по расписанию, но солдатам говорите, что это все для нас. Грохот продолжается полчаса: потом становится тихо, вы ползете дальше и добираетесь до лагеря, где ждут вас с огромным кипящим чайником сладкого чаю.
Второе опасное место было Абуэйн. Село это принадлежало к нашим линиям только потому, что не принадлежало к турецким. Но на самом деле находилось оно в ничьей полосе – "No man's Land". Если спуститься с нашей вершины в сторону турок, вы наткнетесь, футах в трехстах ниже, на выступ той же горы вроде огромной террасы или, вернее, громадного стола, и на этом столе арабы выстроили деревню, около полусотни хат. Абуэйн значит по-арабски "два отца"; может быть, два патриарха – насколько знаю, деревня эта не упомянута ни в Библии, ни в Талмуде. Но это была, очевидно, не бедная деревня, судя даже по развалинам, которые от нее остались. Каждую неделю ее занимал другой взвод и оставался там семь дней. Днем сообщение между этим взводом и остальным батальоном было возможно только по телефону, по которому из десяти слов едва доходило до вас одно. Через эту тонкую нить цивилизации мы заказывали из Абуэйна в батальон все, что нужно было: спички, табак, хинин, бинты, амуницию, почтовую бумагу; и по ночам приходила с горы партия солдат с шестью белыми осликами и привозили наш заказ (т. е. в той форме, в какой понял его батальонный телефонист) и цинковый ящик с дезинфицированной водой.
У меня дома осталось несколько писем моих из Абуэйна – привожу отрывки:
"Вероятно, у каждого бывают в детстве те же две мечты. Первая – стать хоть на неделю царем или по крайней мере губернатором. Вторая – не смею сказать пожить в гареме, но хоть посмотреть изнутри на подлинный гарем. У меня сбылись обе мечты. На целую неделю я назначен самодержцем этой деревни, могу повелеть и запретить, что мне угодно, могу даже разрушить все село (только на восьмой день за это потащат на военный суд); а живу я в самом настоящем гареме, где окна забиты ажурными деревянными ставнями. Несколько портит мою радость то обстоятельство, что в гареме нет ни одной из его законных обитательниц, а во всей моей сатрапии ни одного штатского подданного – все население состоит из солдат моего взвода; тем не менее приятно отметить, что и мечты иногда сбываются".
По-настоящему живем мы тут только ночью. Едва стемнеет, мы расставляем стражу в трех пунктах, с которых видны разные части долины; при этом четверть часа приходится читать нотацию горячему капралу Соломону, начальнику поста № 2, что если он опять услышит шум внизу, то не надо сразу палить из пулемета, а надо раньше выяснить, не есть ли это наш собственный патруль на пути домой. После этого начинается, как выражаются интеллигенты из наших солдат, строительство Палестины, батальоновник распорядился починить проволочные заграждения, поврежденные турецкими снарядами, а также подвести на аршин выше каменный забор, за которым днем прячутся наши солдаты, когда идут из казармы, т. е. из других комнат моего гарема, в обсервационный пункт. Я созываю тех из солдат, что свободны от стражи и от малярии, и вместе мы всю ночь напролет "строим Палестину" в арабской деревне".
"Ура! Мы победили малярию. Когда я в прошлый раз писал, что в моем царстве нет населения, я имел в виду только население двуногое. Зато осталось шестиногое: в миллиардах! В жизни я не воображал, что на свете есть столько комаров. Еще до захода солнца мы обвязываем тряпками голые колени, а в лицо, руки и шею втираем какую-то мазь; но комарам именно эта мазь, по-видимому, нравится, и они работают с таким энтузиазмом, что руки устают чесаться. Результат: на второе же утро два случая малярии. Я устроил военный совет со своим сержантом (он живет тоже в моем гареме), и мы решили и эту часть населения эвакуировать. Мы по телефону "заказали" в батальоне две жестянки керосину, а капрала Стукалина (это – один из лучших наших "героев") и капрала Израэля (он только что вернулся, отсидев две недели за избиение военного полицейского в пивной) отправили обыскать деревню и найти комариные гнезда, т. е. стоячую воду. При все уважении к нашим "портным", которых я все больше начинаю ценить, такое ответственное дело я все же не решился поручить никому другому, как только бывшим галлиполийцам. К вечеру они вернулись, запыленные и замурзанные до самых глаз (обыск они делали ползком), и доставили три адреса: одна лужа, один колодезь и одна разрушенная баня. Ночью пришли милые белые ослики и принесли жестянки: слава Богу, телефон на этот раз не подвел. С великим церемониалом мы щедро полили все три неприятельские позиции керосином, и колодезь еще в придачу завалили камнями, причем неприятель ответил такой контратакой, что я еще весь искусан, а ведь уже прошло три дня. Зато сегодня к вечеру у нас комаров не осталось больше ни одного взвода, да и те летают поодиночке, уныло, почти без песен и не проявляют аппетита не только к нашей крови, но даже к той мази".
"А портных наших я ценю с каждым днем все больше. Вот один эпизод. Колонисты Ришона прислали нам гостинцев: виноград, фиги, штрудель с миндалем – я подозреваю, что было и вино, но ирландский элемент на верхах батальона, должно быть, решил, что это было бы нездорово для жителей "ничьей полосы". Около второго часа пополудни, когда взвод выспался, сержант раздал им эту роскошь. Живем мы все в одном доме: я с сержантом в верхнем этаже, солдаты – внизу в трех больших комнатах, выходящих во двор. Туркам видна только наша крыша, так что солдаты день проводят во дворе. Играют обычно в карты: хочу надеяться, что не на деньги, – это запрещено. На этот раз они тоже расселись по углам двора, с виноградом, штруделем и засаленными колодами, как вдруг турки начали пушечную симфонию. Хоть это и редко случается днем, но мы привыкли; да и стреляют они всегда куда-то вбок. Я продолжал читать, солдаты играли и беседовали – но через пять минут вошел ко мне сержант и сказал:
– Сэр, это звучит как-то иначе – боюсь, они нащупывают нас.
В самом деле, следующий снаряд разорвался почти в самой деревне. Я высунулся в окно и закричал солдатам: "По комнатам – живо!" Они послушались, хотя совсем не "живо", – очень уж душно в этих арабских пещерах.
Мы ждем. Через каждые пять минут – снаряд, то справа от деревни, то слева. "Наводчики у них неважные," – говорит сержант; он все еще стоит у окна. Вдруг он улыбается и делает мне знак. Я подхожу, выглядываю во двор: четверо из наших лондонцев опять сидят под открытым небом, едят штрудель и тасуют карты; они только выбрали угол, где из моего окна их не сразу заметишь, и говорили шепотом. Один поднял голову и сказал на идише: "офицер". И как раз в эту секунду разрывается граната, теперь уже явно у нас в деревне, не дальше ста шагов от нас. Трое из них подымают головы, но не трогаются с места; но четвертый даже не оглядывается, бьет с размаху какую-то карту и говорит тем специальным тоном, которым "приговаривают" увлеченные игроки: Hob ich in dr'end.
Это могло относиться и к "офицеру", но я предпочитаю думать, что относилось к снаряду.
Я их, конечно, опять разогнал[465]465
«Слово о полку», стр. 240–241.
[Закрыть].
Дисциплинирован ли еврейский солдат? Трудный это вопрос! Вот тебе пример. Английские и австралийские солдаты сожгли столько деревьев (к несчастью, и из нашего Герцлевского леса), что был издан приказ, запрещающий рубку деревьев под страхом большого штрафа. Здесь вокруг Абуэйна стоит высокий лес, и нам нужны дрова для готовки. Но нашим солдатам и в голову не приходит рубить лес. Они прекрасно знают, что я не стану расспрашивать, откуда дрова. Наша жизнь "на ничейной стороне" достаточно тяжела.
Но они, горожане, выросли с пониманием, что деревья – общественная собственность, которую лучше не трогать так же, как не разрушают памятник.
Откуда берется для них топливо? Используются двери, окна, или разбирают они крышу какой-нибудь избы и собирают прутья и корни, из которых феллахи делают свои крыши. Но деревья? Боже упаси".