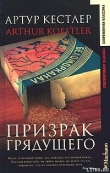Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 53 страниц)
Конечно, существовало множество оснований сомневаться в честности комиссии, и некоторые из них назвал доктор Эдер. Что касается просвещения общественности – ни Сионистская организация, ни лично господин Стайн не выступили публично на эту тему. Господин Янг пишет в своем отчете о разговоре с доктором Соломоном, что тот "выразил серьезную обеспокоенность суровостью пятнадцатилетнего приговора Жаботинскому, о котором он высказался как о Гарибальди еврейского движения". Требований он не предъявлял; он просил только об информации: "Он был чрезвычайно заинтересован в вопросе, входят ли приговоры военного суда в компетенцию комиссии по расследованию". В письме от 16 апреля, через девять дней после ареста Жаботинского, Сионистская организация упоминает, что евреям было "запрещено формировать" организацию самообороны, описывает обыск в квартире Вейцмана как "скандал" и требует извинения; она протестует против согласия Больса с требованиями арабов. Она даже не упоминает арест Жаботинского, не то что опротестовывает его, не говоря уже о требовании освободить.
В отдельном документе, названном "Дело господина Жаботинского", Сионистская организация приготовила меморандум, суммировавший события в Иерусалиме для правительства. Он начинается с антиеврейских демонстраций 21 февраля и 8 марта и описывает, как "4 марта, ожидая больших неприятностей, Жаботинский начал организацию еврейской самообороны". Затем описывается погром и арест Жаботинского: "Жаботинский был в помещении Сионистской комиссии, когда туда прибыл офицер допросить ее членов по вопросу об организации самообороны. Господин Жаботинский немедленно признал, что является ее организатором. Ему было заявлено, что он должен считать себя под арестом"[754]754
«Джуиш кроникл», 4 июня 1920 г.
[Закрыть].
Нигде не было и намека на то, что отряд самообороны не являлся личной "армией Жаботинского" и что арест Жаботинского подрывал право еврейской общины на самозащиту. Не содержалось и требования его освободить.
Реакция еврейских общин была единогласной. Состоялись митинги протеста во многих европейских столицах. На конференции Английской сионистской федерации в Лондоне повсюду висели призывы: "Свободу Жаботинскому"; была принята резолюция, предложенная Вейцманом, почтительно призывавшая британское правительство немедленно освободить Жаботинского и его коллег[755]755
30 апреля 1920 г.
[Закрыть].
В Соединенных Штатах, в "Новой Палестине", был опубликован понимающий комментарий:
"Лондонские газеты пишут о Жаботинском как о еврейском Гарибальди. Он заслуживает эту честь и с честью будет ее нести. Последствия своих действий он переносит без жалоб, без нытья, с удовлетворением, что был движим желанием служить, спасти! Мы надеемся, что вмешательство еврейства будет достойным его собственного достоинства. Никто не отреагирует с раздражением больше Жаботинского на ноющую мольбу, чтобы его простили, потому что он "это сделал непреднамеренно" и что его из жалости следует спасти от тягот заключения. Его следует освободить, потому что он был прав"[756]756
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5118/Е 3156, стр. 46, 4 мая 1920 г.
[Закрыть]. Реакция американцев была такой сильной, что британский посол, сэр Окланд Геддес, счел необходимым телеграфировать в Иностранный отдел (прежде, чем узнал, что срок уменьшили): сообщение о том, что Жаботинский, «которого здесь считают национальным героем», отпущен на свободу или срок ему снижен до одного года, будет иметь здесь «отличный эффект»[757]757
«Маккабеян», июнь 1920 г.
[Закрыть].
На следующей неделе чрезвычайный съезд Американской сионистской организации в Нью-Йорке единогласно "провозгласил себя сторонником дела еврейской самообороны в Палестине, воплощенного в лейтенанте Владимире Жаботинском". Съезд "приветствует доблестные усилия лейтенанта Жаботинского и с нетерпением ждет его полнейшего оправдания и скорого возобновления активного участия в обновлении Палестины"[758]758
Письма Вейцмана к Вере, том IX, № 300, 29 марта 1920 г.
[Закрыть].
Особенно достойной внимания была реакция Вейцмана. Из Палестины, после визита в Каир, он отправился в Сан-Ремо, в Италию. Там 25 апреля Союзный совет утвердил предоставление Великобритании мандата на Палестину и включение Декларации Бальфура в проект мирного соглашения с Турцией. Разительным контрастом являлось то, что декларация была опасно унижена в самой Палестине. Заключение членов еврейской самообороны в Палестине казалось издевкой над резолюциями в Сан-Ремо.
События в Палестине в тот апрель поразительно соответствовали сетованию самого Вейцмана, записавшего всего за несколько дней до погрома:
"Поведение англичан по отношению к нам шокирует, и все обещания, данные нам ими у себя дома, здесь звучат горькой иронией"[759]759
«Манчестер Гардиан», 26 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Теперь же, в интервью в Сан-Ремо, осуждая палестинскую администрацию как антисионистскую, он утешился тем, что "британское правительство согласилось сформировать администрацию в Палестине, которая будет вести дела в духе Декларации Бальфура и на которую можно будет положиться".
Он действительно подверг резкой критике приговор Жаботинскому – но при этом подчеркнул тонко и безошибочно, что Жаботинский, сам по себе достойный всяческого восхищения, несет полную ответственность за отряд по самообороне. Он охарактеризовал его покровительственно, как "этот молодой человек", который "многое сделал во время войны для дела Британии, как своим пером, влиявшим на позицию мирового еврейства в интересах Антанты, так и своей организацией еврейских батальонов и службой в их рядах офицером в Палестине".
И он признал обоснованность вынесения администрацией приговора Жаботинскому пятнадцать лет.
"Формально, – писал Вейцман, – он, без сомнения, виновен”[760]760
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5124/Е 13741.
[Закрыть].
Резким контрастом к поверхностному, вредному суждению Вейцмана было заключение ведущего юриста британской армии. Генеральный судейский адвокат, изучив официальный протокол судейского дела спустя семь месяцев, поддержал требование Жаботинского об аннулировании приговора. Он представил военному министерству свое мнение о судебном процессе с четкой правовой аргументацией.
Из него очевидно, что он сожалел о невозможности аннулирования также и обвинения, что во владении Жаботинского был тот самый знаменитый револьвер.
Он пишет: "Положение за номером 57, согласно которому сформулировано обвинение, не предъявлено как доказательство и не подсоединено к делу. В свидетельстве обвинения признается, что револьвер был сдан до объявления военного положения". К сожалению, Жаботинский признал, что знал и до объявления военного положения, что не должен носить оружие.
Тем не менее главной мишенью генерального адвоката стали обвинения 3 и 4, сформулированные по Оттоманскому уголовному кодексу:
"Ничто в ходе расследования не демонстрирует, каким образом сформулировано обвинение военного суда в нарушении Оттоманского уголовного кодекса, и не представлено свидетельство ни одного правового эксперта, что собой представляет закон Оттоманского уголовного кодекса. Более того, статьи обвинения сформулированы взаимоисключающе и очень туманным и неопределенным языком, но постольку предоставленные мне материалы позволяют вынести мнение, – по моему мнению, приобретение оружия в целях защиты от имеющего место или ожидаемого нападения не подлежит статьям Оттоманского уголовного кодекса, по которым вынесено обвинение, и соответственно для приговора нет достаточных оснований. Ничто в свидетельстве обвинения не противоречит утверждению защиты, что оружия было приобретено исключительно в целях защиты"[761]761
«Манчестер Гардиан», 3 мая 1920 г.
[Закрыть].
Тем не менее Жаботинскому предстоял длительный и трудный путь, прежде чем генеральный судейский адвокат вынес свое заключение.
Для вейцмановского "заключения" о Жаботинском не было оснований, конечно, даже и по формальным, "техническим" критериям. Он не был знаком с протоколами судебного заседания, ни с обвинениями, ни с защитой. Его покровительственный тон создавал впечатление о "молодом человеке", то есть, человеке, еще несколько незрелом, готовом в патриотическом и гражданском рвении нарушить закон – без полномочий от каких бы то ни было еврейских органов.
Безответственное суждение Вейцмана явно не убедило газету "Манчестер Гардиан", чья редакционная статья была опубликована спустя неделю. К тому времени сроки уже уменьшили. Охарактеризовав Жаботинского как "доблестного бойца, известного в этом качестве евреям всего мира, всегда готового отдать жизнь за свое дело, этакого еврейского Гарибальди", статья продолжала: "Огромное расхождение в двух приговорах само по себе создает тяжелое впечатление о военном суде, вынесшем первый. Но и так дело не разрешено. Даже если Жаботинский и был вооружен, организовал отряд самообороны и даже его использовал (что, тем не менее, он отрицает), наличествует prima facie доказательства, что у него на то были все основания из-за полной неспособности военных властей исполнять свои обязанности. Антиеврейский бунт, организованный местными арабами, в котором приняла, как говорят, участие арабская полиция, продолжался три дня; более 200 евреев были убиты и ранены; еврейские женщины поруганы (между прочим, вопиюще, что эти негодяи получили тот же срок, что и господин Жаботинский), дома и лавки евреев разгромлены и совершено прочее насилие. И все это время власти, предупрежденные заранее, что поднимается брожение, не сумели обеспечить необходимую безопасность еврейского населения. Так ли уж удивительно, что они попытались защитить себя сами? Так ли ужасно, в этих условиях, что кто-то из них попытался вооружиться? Было бы удивительно, если бы оно было пущено в ход для самозащиты? Требуется гораздо больше сведений, чтобы полностью судить об этом деле.
Но, безусловно, кажется, что отдать под суд военные власти, ответственные за события в Иерусалиме, стоит по меньшей мере не меньше, чем господина Жаботинского. И может быть, они вполне удовлетворительно обменяются местами"[762]762
Интервью Шехтмана с одним из студентов, Леви Бакстанским впоследствии секретарем Англо-Сионистской федерации (Шехтман, т. I, стр. 364).
[Закрыть].
В день, когда этот комментарий был опубликован, стали известны дополнительные меры, принятые администрацией после погрома. Помимо двух насильников, обвинение в подстрекательстве предъявили 6 арабам. Троих оправдали, одного приговорили к 2 годам заключения и штрафу в 120 лир. Остальные двое – известные верховоды, Хадж Амин, в заговоре с которым был Уотерс-Тэйлор, и Ареф эль-Ареф – были отпущены под залог.
Они немедленно бежали за Иордан.
В еврейской общине беспокойство не улеглось, поскольку в ней прекрасно осознавали: заточение Жаботинского и его соратников было атакой на фундаментальные права общины, а в контексте Декларации Бальфура поистине на еврейский народ в целом. Чувства общественности нашли отражение в решении группы учеников тель-авивской гимназии "Герцлия" организовать марш на тюрьму в Акре. Их инициатива была запрещена директором школы, после чего они начали забастовку. Забастовка продлилась несколько дней, – пока директор не убедил их, что марш не окажет никакого влияния на ход событий[763]763
Интервью Шехтмана с Йохананом Прогабинским, секретарем Ахад ха– ' Ама (Шехтман, том I, стр. 363).
[Закрыть].
Один из руководителей "а-Поэль а-Цаир", Иосиф Агаронович, предложил тель-авивскому муниципалитету переименовать улицу Алленби в улицу Жаботинского. Муниципалитет отказался. Агаронович с группой молодежи в одну ночь заменили все уличные таблички. На следующий день работники муниципалитета восстановили прежние таблички. Ночью их снова подменили.
История продолжалась несколько дней. Циркулировала байка, что полковник Сторрс, отправившись как-то вечером к приятелю, проживавшему по улице Алленби, провел в дороге полчаса, пока шофер безуспешно искал адрес. В конце концов он выяснил, что улица, описанная ему прохожими как улица Жаботинского, была на самом деле той, которую он искал[764]764
«а-Поэль а-Цаир», 20 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Впечатляюще проанализировал национальные последствия происшедшего "а-Поэль а-Цаир", орган партии, наименее расположенной к легиону:
"Мишенью для стрел интриги стали не Жаботинский-человек, но Жаботинский-символ, Жаботинский, бывший голосом и эмблемой наших надежд, наших желаний и наших требований. Жаботинский – новый еврей, не сгибаемый "реальностью", не идущий на компромиссы и не прячущийся за спины облеченных мимолетной властью. Он не мирится с невоспитанностью и ущемлением своих прав "политическим мышлением" – это теперь общая программа-минимум для нас всех, всех наших партий, всех, всех наших умственных течений, необходимая основа и условие всей работы по созиданию и возрождению.
Жаботинский – обладатель ясного зрения и ясного ума, не захваченный ни слепым и укачивающим энтузиазмом сторонников дипломатии за границей, ни бесплодным и лишенным воображения скептицизмом провинциальных педантов дома.
Он предупреждал против обоих: "Не надо преувеличивать!"
Кто-то из нас, обратясь к Лондону, не видел Иерусалима; кто-то – обратясь к Иерусалиму, не видел Лондона. Первых пьянили и ослепляли каждая дипломатическая "победа", каждое обещание и красивая фраза; вторых же повергали в пучины отчаяния и безнадежности каждое препятствие и камень преткновения. Жаботинский ни с теми, ни с другими. Ему видны препоны, но видится и путь вперед. Это и есть гарантия успеха в наших начинаниях"[765]765
«Кантрес», 5 ияра 5680 года или 23 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Это чувство отождествления с Жаботинским как воплощением духа и судьбы общины ярко выразилось и в газете соперничавшей рабочей группы "Ахдут а-Авода":
"Ишув осмелился требовать правосудия. Мщение – вместо правосудия – пало на Жаботинского, на Хагану, на весь ишув, осмелившийся не согнуть спину перед его убийцами и мучителями".
Журнал опубликовал призыв исполнительного комитета "Ахдут а-Авода" к избирателям на близящихся выборах в Национальную ассамблею:
"Провинность" Жаботинского – наша общая провинность. Пусть каждый избиратель поставит во главе своего списка кандидатов в выборную Ассамблею имя Зеева Жаботинского"[766]766
«Сефер Тольдот =а Хагана», том I, стр. 925–927.
[Закрыть].
Напряжение и протесты не утихали, рана не затягивалась.
Следующий шаг предпринял раввинат. 26 апреля он объявил днем поста и траура и прекращения всей трудовой активности.
Странная трещина расползлась по общине в этот день. Все до последнего отозвались на призыв раввинов. Повсюду прекратились все работы и занятия, в синагогах читали особые молитвы. Потом, после полудня Сионистская комиссия выступила с призывом, распространенным в Иерусалиме лично Усышкиным, сменить траур празднованиями: Союзный совет в Сан-Ремо постановил вручить мандат на Палестину Великобритании. В Яффо и Тель-Авиве призывом комиссии пренебрегли. Там забастовка продолжалась, и лидеры всех политических партий, как и раввины, выступили с речами. В Иерусалиме и поселениях, однако, община подчинилась: и разыгрался странный спектакль перехода по мановению ока траура в празднество.
Более того, в сообщении из Иерусалима, полном удовлетворенности и поздравлений от обещаний в Сан-Ремо, не содержалось ни слова о горькой реальности в Палестине.
Когда в Акре стало известно об этой метаморфозе, заключенных охватили отчаяние и гнев. Жаботинский не меньше Вейцмана понимал значимость постановления в Сан-Ремо с его подтверждением международного признания прав еврейской нации на Палестину и ознаменованием начала серьезного труда по преобразованию. И все же – как бы ни было сладко это обещание – как мог народ праздновать безоглядно, когда левая рука Великобритании превращала в грубую профанацию то, что подписывала правая рука в Сан-Ремо?
Жаботинский не сомневался, что нормальная реакция ишува должна, наряду с выражением удовлетворения постановлением в Сан-Ремо, дать ясно понять, что евреи Палестины не могут ликовать, пока позор и вероломство, связанные с Акрой, продолжаются.
Еще больше омрачала настроение пленников дошедшая до них информация, что руководство выступило с призывами "успокоить" население и воздержаться от проявлений гнева на администрацию.
Ощущение, что община прекращает борьбу, углубило гнев и разочарование арестантов. 6 мая они обратились с письмом, подписанным всеми, к общинным организациям и политическим партиям.
В письме выражена опечаленность арестантов поведением общины после известий из Сан-Ремо и прекращением всех мер протеста, поскольку это было приказано Сионистской комиссией.
Более того, даже снижение их сроков и улучшение их бытовых условий, включая разрешение на получение продуктов и других подарков, были использованы как предлог для "усыпления общественности". Их личная судьба была частным делом, писали они, но "лишение свободы членов Хаганы символизирует зло, нанесенное всему народу.
Поэтому мы считали, что борющиеся группы сплотятся вокруг этого символа, что от Земли Израиля до Нью-Йорка поднимется великая атака на лжецов и подстрекателей, ответственных за беспорядки, превратившие Иерусалим в Кишинев и насмеявшихся над Декларацией Бальфура"[767]767
Там же, стр. 925–927.
[Закрыть].
Если же община была не готова продолжать борьбу, пленники просили только их не беспокоить. Они не желали и не нуждались в подарках и попечительстве. "Мы проводили ночи на земле, мы ели тюремную корку, и мы готовы нести нашу ношу до конца. Мы найдем иные методы, если за нас не поведут борьбу".
Письмо заканчивалось призывом, чтобы выборная Ассамблея, которой предстояло созвать первое заседание, протестовала против британских правителей, "организовавших погром, лгавших на родине так же, как и нам". Наконец, они настаивали, чтобы протесты направлялись от палестинской общественности не в Сионистскую организацию, а непосредственно британскому правительству, а также другим правительствам и газетам Европы и Америки. "Помните наше предсказание, – добавляли они, – не отправленные напрямую, они не дойдут. Те, кто хочет нас усыпить, не станут тормошителями"[768]768
Центральный сионистский архив, С4/160333, Эдер Вейцману, 14 мая 1920 г.
[Закрыть].
Может быть, встревоженный этим письмом, Эдер телеграфировал Вейцману, прося, чтобы "им сообщали, были ли и какие митинги протеста по делу Жаботинского; какие были приняты меры", – но ответа не последовало.
Тогда он навестил Акру и, как он сообщил Вейцману, "долго беседовал с Жаботинским", которого не видел со дня погрома. Он, естественно, не мог удовлетворительно объяснить поведение сионистского руководства с того дня, когда они поручили Жаботинскому создать организацию национальной самообороны. И все же он поразился гневу Жаботинского. В своем отчете Вейцману он четко описывает отношение Жаботинского:
"Жаботинский особенно негодует, что в телеграммах и речах о Сан-Ремо ничего не было сказано о погроме и тех, кто находится в заключении.
Это относится и к телеграммам, посланным отсюда, и поступившим из Лондона, и прочих. Пока эти двадцать один в заключении, погром продолжается, и администрация торжествует!
Государственные деятели использовали бы погром и заточение участников самообороны, чтобы избавиться от администрации.
Ишув подчинился Сионистской комиссии и Сионистской организации в своей тактике. Английское правительство устраивает, что здесь тихо. Мандат в Сан-Ремо, в конце концов, всего лишь обещание, и уж наверное наш опыт в прошедшие несколько лет должен был бы научить, чего эти обещания стоят".
В продолжении отчета атака на администрацию самого Эдера не уступает в ярости и даже придает еще большую убедительность взгляду Жаботинского:
"Теперь администрация безоглядна и ни перед чем не остановится. Они хотят оставить опасное наследие Герберту Сэмюэлу. Они хотят сделать его положение как можно более сложным. Они хотят, чтобы он явился тогда, когда они подготовят наибольшие неприятности".
Это серьезное обвинение с мрачным предсказанием на будущее неожиданно поддержало именно беспокойные предупреждения, выносимые Жаботинским в течение почти двух лет – что действия военной администрации не только не забудутся с водворением гражданского режима, а, напротив, представят собой прецеденты и возведутся в его структуру.
Более того, анализ Эдера подчеркнул логику критики Жаботинским пассивности, царящей в сионистском руководстве. Эдер, тем не менее, никаких выводов не сделал и не обещал изменений в политике Вейцмана.
Но его следует рассматривать в его истинном свете. Он представлял собой человека, разрываемого на части стремлением к лояльности. Когда – как он обнародовал позже – он выступал свидетелем в комиссии по расследованию действий администрации за закрытыми дверями, он, не колеблясь, подтверждал, что Жаботинский возглавил Хагану от имени Сионистской комиссии.
Однако из верности Вейцману он продолжал придерживаться официальной линии, что дело Жаботинского не касается Сионистской комиссии, а его заключение не отражается в политических соображениях. Его затруднения, тем не менее, не оправдывают его реакцию на критику Жаботинского, обоснованную, как видно, личным раздражением. В тексте того же отчета Вейцману он пишет, что Жаботинский "опасен. Он находится в патологическом состоянии, и я поистине опасаюсь за его умственное состояние. Он чрезвычайно возбужден и доводит себя до постоянно нарастающего возбуждения"[769]769
Письма Вейцмана, том IX, № 351, 20 июня 1920 г. (русский оригинал недоступен. Перевод с английского).
[Закрыть].
Это было особенно безответственным заявлением, учитывая, что Эдер был одним из первых психиатров.
Ничто, содержащееся даже в его собственном донесении, не носило характера более, чем нормальной реакции на события и поведение окружающих. Но его замечание, тем не менее, зажило собственной жизнью. Оно, как видно, стало в кругу Вейцмана предметом сплетен.
Сам Вейцман пишет Белле Берлин:
"Я убежден, что Жаботинский ненормален. Я глубоко это сожалею, но видит Бог, я сделал все возможное чтобы сохранить с ним добрые отношения и возвратить его к созидательной деятельности; что-то его гложет постоянно и он становится невозможным. Между прочим, я убежден, что если это продолжится, от него отвернутся все его товарищи"[770]770
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5122.
[Закрыть].
Несмотря на теплые отношения Вейцмана с Беллой, он по-видимому счел излишним признаться ей в том, что Жаботинский сидел в тюрьме за выполнение национальной миссии, возложенной на него самим Вейцманом и его коллегами. Более того, ему было прекрасно известно из событий в Палестине, что смехотворно полагать, будто кто-нибудь отвернется от Жаботинского.
В Сионистской организации обвинение Эдера было в скором времени опровергнуто официально. Секретарь организации Сэмюэл Ланцман, отправленный срочно в Палестину, долго беседовал с Жаботинским 22 июля и впоследствии доложил:
"Я нашел его в состоянии величайшего раздражения на Сионистскую комиссию, которая, по его словам, обошлась с ним чрезвычайно дурно. Его просили организовать Еврейскую самооборону, и он считал, что подача в отставку членов комиссии в знак протеста против его несправедливого приговора, было их безоговорочным долгом. Он говорит с особенной горечью о М. Усышкине и, в меньшей степени, о докторе Вейцмане, чья умеренная и многотерпеливая политика в период военной администрации представляет, в глазах Жаботинского, огромную политическую ошибку.
Все его сотоварищи-арестанты, за одним исключением (И.Н. Эпштейн) разделяют его мнение. Из разговоров в Иерусалиме у меня сложилось впечатление, что состояние психики Жаботинского граничит с мегаломанией. Нахожу это весьма преувеличенным. Учитывая нелегкие обстоятельства и его убеждение, что его заключение необоснованно, его умственное состояние совершенно нормально"[771]771
Там же 371/5120, стр. 127, 22 июня 1920 г.
[Закрыть].
Тем не менее сплетники не сдерживались даже в беседах с друзьями-англичанами. Слухи дошли до полковника Уиндама Дидса, проявившего симпатию и сочувствие еврейскому делу во время его службы в Палестине и бывшего с Жаботинским на дружеской ноге. Судя по корреспонденции Вейцмана, он, находясь теперь в Лондоне, поддерживал регулярный контакт с Вейцманом.
"Информацию" о Жаботинском он передал в Иностранный отдел. И таким образом, получив известие, что генерал Алленби отказал в апелляции приговора Жаботинскому, старший чиновник, сэр Джон Тилли, записывает теперь уже приукрашенную версию: "Полковник Дидс утверждает, что Жаботинский настоящий безумец и должен находиться под медицинским наблюдением. Выпущенный на свободу в Палестине, он наверняка причинит беспокойство".
К чести Иностранного отдела, его начальник лорд Хардинг, развенчал эту историю. Он прямо записал: "Этим заявлениям я мало верю". И все же Тилли пишет Сэмюэлу, бывшему уже в пути в Палестину, предостерегая его о Жаботинском: "Дидс придерживается мнения, что Жаботинского ни в коем случае нельзя освобождать и что он не отвечает за свои действия". Однако он добавляет: "Мы за точность этого мнения не отвечаем". Хардинг позволил отправить это письмо с таким добавлением, проинструктировав Тилли не рассылать копии[772]772
Институт Жаботинского, папка 4/12/4, К1, Алкалай и Хагилади профессору Иосифу Недаве, январь 1976 г.
[Закрыть].
Спустя сорок пять лет после рассекречивания этих документов все трое оставшихся в живых товарищей Жаботинского по заключению, которым была предоставлена возможность прокомментировать, презрительно отмели мнение Эдера. Они разошлись во мнении только о мотивах Эдера. Арье Алкалай посчитал, что Эдер намеренно заискивал перед недругами Жаботинского. Элиягу Хагилади видел в Эдере человека, неспособного понять гнев пророка[773]773
Институт Жаботинского, папка 2/12/4 К1, 3 июня 1975 г.
[Закрыть]. Элиас Гильнер представил вдумчивый и аналитический ответ: "В течение трех с лишним месяцев (апрель, май и июнь 1920 г.) в Московии и форте Акра у меня была возможность наблюдать, слышать и беседовать с Зеевом Жаботинским в разное время дня и ночи; позволю себе категорически заявить, что ни в одном случае он не был «чрезвычайно возбужден» и не доводил себя до «постоянно нарастающего возбуждения». Короче, не было ни одного случая, чтобы он проявил признаки, подходящие под описание «патологическое состояние». Наоборот, принимая во внимание характер событий, в которых он участвовал, и причиненные ему унижения и разочарования, он вел себя с необычайным спокойствием и самодисциплиной и самоконтролем, руководя заключенными, части которых требовалась отеческая опека. Чтобы рассеять случавшееся плохое настроение некоторых из заключенных, Жаботинский был способен на шутку и рассказы. На более высоком уровне он проявлял необычайные аналитические способности, рассматривая текущие события, и – ретроспективно – политическую зоркость. Его самообладание и ясное мышление видно и по тому, как, несмотря на неблагоприятную атмосферу и обстановку в форте, Жаботинский был способен сосредоточиться и сконцентрироваться на творческой работе, а именно – переводить произведения Данте Алигьери с итальянского на иврит. Если в этой ситуации и присутствовал патологический элемент, это было прислужническое и ненормальное отношение Эдера и его коллег в сионистском исполнительном комитете к преступным действиям палестинской администрации – подстрекательству к погрому и аресту бойцов самообороны.
Замалчивание информации о преступных действиях антисионистской клики предвосхищало тупую и катастрофическую сионистскую политику и вызывало негодование Жаботинского. Это-то негодование и было воспринято близоруким Эдером как "патологическое"[774]774
Гильнер, стр. 386–387.
[Закрыть].
С точки зрения физической положение заключенных было сносным. Гильнер живо описал их жилищные условия:
"Вход был через большую комнату охранников с окнами во двор форта. Зарешеченная дверь между ней и нашим отсеком позволяла охранникам нас видеть; все они были британскими солдатами под командой офицера. Нашей центральной комнатой был большой, темный и сырой зал с высоким кафедральным потолком и неровным коричневым полом из камня. Мебель состояла из длинного деревянного стола, длинных скамеек и маленькой керосиновой лампы. На стене висел список правил и распоряжений. Одно из этих правил требовало от наших охранников по отношению к нам вежливости, но, в случае беспорядков, стрелять по нашим "конечностям". Шесть бездверных проемов открывались в шесть комнат, в пяти из которых были зарешеченные проемы окон, без рам. Шестая комната, как и центральный зал, была без окна. Высоко над нами виднелись остатки совиных гнезд и гнезд летучих мышей; не было недостатка и в насекомых и ползучей твари. Но по сравнению с московским подземельем форт был "дворцом".
Три комнаты выходили на Средиземное море. Самая маленькая из них была отдана Жаботинскому. Две комнаты чуть большего размера использовались как кухня и ванная. Некоторое время двух держали в центральном зале.
Зелиг Вайкман организовал маленький комитет по заботе о нуждах пленников. Они получали еду три раза в день; у них были полотенца, тазы для мытья, мыло, тарелки, стаканы, посудные полотенца и несколько больших чанов с водой. "Затем мы распределили обязанности. Жаботинский был главным; я – его заместителем. Каждый из нас, без исключения, по очереди обслуживал столы, мыл посуду и пол. Эту работу каждый день выполняли двое; было предложено добровольное напарничество. Жаботинский и я составили знатную пару посудомоек. Мы не разбили ни одной тарелки"[775]775
Эри Жаботинский, стр. 63–67.
[Закрыть].
Госпожа Жаботинская получила разрешение на получасовые визиты к мужу два раза в неделю. Но вскоре она переехала из Иерусалима в Хайфу, поселилась в отеле "Герцлия" и приезжала в Акру каждый день, а иногда и дважды в день. Так ей удавалось уделить материнское внимание самым молодым из заключенных, и ее можно было, как правило, застать с иголкой в руках, зашивающей где рубашку, где свитер одного из ребят или выполняющей мелкие покупки по просьбе одного из них.
Эри вначале представлял затруднение. Точнее, его тетка Тамар, – которую он описывает как семейного педагога, – опасаясь, что заключение отца его расстроит, убедила его мать не извещать его, а сказать, что отец уехал в Тель-Авив. Эри вспоминает, что его даже забрали из школы и отправили жить с друзьями, семьей Этингер. Он утверждает, что и здесь, несмотря на то что героизм Хаганы был популярной темой для детей, от него скрывали, что возглавлял организацию его отец. Лишь однажды мать увела его в сторону и сказала, что должна рассказать о чем-то очень серьезном. Тогда Эри узнал чудесную, жуткую правду.
Она затем взяла его в Хайфу, и впоследствии он навещал отца каждый день. Тот, волнуясь о перерыве в образовании Эри, взялся с ним заниматься и давал ему урок ежедневно. Он не придерживался школьной программы, и Эри помнит только, что познакомился с историей Древнего Рима и что отец безуспешно пытался научить его писать стихи[776]776
Сообщение Шварца, стр. 107.
[Закрыть].
У Жаботинского вскоре появился и другой ученик. Один из самых молодых заключенных, Мататьягу Хейз, был еще школьником, и его отец, торговец в Иерусалиме, посетовал Жаботинскому на перерыв в его занятиях. Когда он упомянул, что больше всего нужны занятия по английскому, Жаботинский стал давать ему регулярные уроки, с результатами, по свидетельству отца, весьма удовлетворительными[777]777
Интервью с Шехтманом, том I, стр. 360.
[Закрыть].
Жаботинский был очень занят. Он организовал "комитет по культуре" и сам проводил беседы на разные темы: Герцль, идеи Ахад ха-’Ама (которые он характеризовал как сионизм "разбавленного молока"), безвыходное положение в Ирландии, проблемы негров в США, место Горького и Чехова в русской литературе. Он анализировал текущие события, особенно ситуацию в сионизме и недостатки Вейцмана и Усышкина.
Каждый день заключенные посвящали пару часов гимнастике и развлечению: ходьбе, физическим упражнениям, футболу и, по вечерам, пению на иврите, идиш, русском и английском. Да и посетителей хватало. Они приезжали из самых отдаленных уголков, и его это не особенно радовало. Он жаловался своему племяннику Джонни: "Навещать меня стало модой в палестинском обществе"[778]778
2 6 февраля 1930 г.
[Закрыть]. Все свободное время Жаботинский работал в своей маленькой комнате. Помимо собственной «Песни пленников Акры», он сосредоточился на переводах. Он начал работать над «Рубайатом Омара Хайяма» (с английского варианта Фицджеральда), он перевел ряд рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе – искренне стараясь предоставить ивритской молодежи приключенческие истории, наполненные действием и основанные на логическом мышлении. И что важнее всего, он продолжал работу над переводом «Ада» Данте – откуда он опубликовал несколько строф в газете «Гаарец» за неделю до погрома. Жаботинский возвращался к Данте несколько раз и позднее. Он находил эту работу трудной задачей, однажды даже выразил сомнение, сумеет ли закончить перевод, хотя для него это было «удовольствие в жизни». «Открою тебе шепотом, – пишет он Зальцману, – я провел два месяца, составляя список слов для размера; трудился с величайшим упорством и думал, что удастся это легко, но не вышло. Может, когда-нибудь даст Бог извлечь из этой работы удовольствие и закончить ее»[779]779
«Ха'ткуфа», том 19, 24, 26, 27, 29; полностью в томе «Ширим» в «Ктавим» (1947 г.)
[Закрыть].