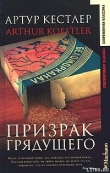Текст книги "Одинокий волк. Жизнь Жаботинского. Том 1"
Автор книги: Шмуэль Кац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 53 страниц)
Вскоре Жаботинского и остальных вызвали явиться к военному магистрату в здании, капитану-австралийцу. Поскольку не все арестованные владели английским, был вызван переводить чиновник-араб; но Жаботинский отказался отвечать на вопросы без еврейского переводчика. Остальные последовали его примеру. Магистрат сдался. Через 2–3 часа прибыл сержант из Еврейского легиона заменить переводчика-араба.
У чиновников была своя логика. Поскольку Жаботинского не было в здании, где было найдено оружие, его освободили. Что касается остальных, было сказано: если один из них возьмет на себя вину за оружие, остальных освободят. Гинзбург тогда предложил взять вину на себя, но его товарищи заявили, что виноваты одинаково.
Их вернули в камеру. Жаботинского освободили, но не надолго. Как видно, он отправился домой отдохнуть, в чем очень нуждался. Тем временем капитан Янсен прибыл в помещение Сионистской комиссии и там заявил, что в Раввакии ему было сказано, что три ружья и два револьвера принадлежат Сионистской комиссии. Так ли это?
Здесь стоит замедлить повествование. Наступил критический момент, имевший далеко идущие последствия.
В сложившейся ситуации, такой мрачной и уродливой, надлежало дать ответ непреклонно правдивый: оружие действительно принадлежало Сионистской комиссии. Этот хорошо известный властям факт не содержал ничего запретного.
Комиссия, посланная британским правительством, была возмущена поведением администрации так же, как и еврейская община, так же, как возмутился бы народ Великобритании, если бы ему стала известна правда. Речь шла о чиновниках, допустивших возмутительные события и демонстративно не предпринявших шагов по предотвращению их или подавлению. Они оставили евреев Старого города без защиты и помешали защите извне.
Оружие принадлежало комиссии.
Доктор Вейцман и его коллеги сожалели только, что администрация помешала его применению.
При такой позиции администрация не осмелилась бы арестовать Вейцмана – это можно утверждать с уверенностью. Его личное вмешательство, скорее всего, вызвало бы смятение заговорщиков. Несомненно, конфликт между Вейцманом и британскими властями немедленно привел бы к всеобщему негодованию в Великобритании и мог спровоцировать расследование поведения властей на протяжении предшествующих полутора лет.
Вейцман и его коллеги дали иной ответ.
Как показывал на суде над Жаботинским Янсен, ему было "дано понять лицами, контактировавшими с комиссией, что оружие принадлежало Хагане под командованием Жаботинского". Для Сторрса и его коллег это означало одно: Вейцман снова отмежевывался от Жаботинского. После того как Янсен отбыл с этим ответом, Жаботинского вызвали в здание комиссии и там, по его словам, заявили: "Ответственность несу только я; что я и сделал, с известными вам результатами"[722]722
Майнерцхаген, стр. 82, от 26 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Результат не заставил себя ждать: Янсен возвратился в комиссию и сказал Жаботинскому:
– Я пришел выяснить, кто является командующим группами обороны в Иерусалиме.
– Я, – отвечал Жаботинский.
– У меня есть ордер на ваш арест.
Жаботинский спокойно ответил:
– Мне необходимо позаботиться о неотложных личных делах дома. Могу ли я явиться в ваш участок сегодня в два?
– Вы даете мне в этом слово чести?
– Да.
Перед Жаботинским стояла мучительная задача. Его старушка-мать и сестра наконец прибыли с охваченной погромом Украины, всего за три недели до описываемых событий и после двухлетнего напряженного ожидания. Несмотря на всю радость воссоединения, его мучила мысль об обстоятельствах, в которые их забросила судьба: от одних погромов в другие. Его собственная поминутная занятость в те дни – организация Хаганы и ежедневная работа в газете – оставляла для них мало времени. И теперь ему предстояло обрушить на мать неожиданное и необъяснимое: бремя его ареста.
Он решил ей не говорить. Анна и его сестра позаботятся о том, чтобы никто другой не принес ей эти известия. После ожидаемого им короткого отсутствия ему будет несложно посмеяться над своим арестом как странным инцидентом в мире, перевернутом вверх тормашками. Теперь же он сказал дома, что должен ненадолго уехать в Яффо. Анна собрала небольшой чемодан, и Жаботинский пунктуально прибыл в участок на встречу с капитаном Янсеном.
Его немедленно перевезли в тюрьму и поместили в отдельную от девятнадцати камеру. Тем не менее еду принесли кошерную из близлежащего отеля "Амдурски", и через их официанта Жаботинский передал инструкцию своим товарищам: если будут спрашивать, признать, что они члены Хаганы, но в подробности не вдаваться.
Известия об арестах разнеслись по Иерусалиму на следующий день и практически парализовали общину, но 380 членов Хаганы подписали декларацию, требуя освобождения соратников или ареста всех остальных.
Пятница была последним днем Пасхи, днем-праздником, но не было в синагогах веселья. Собравшихся, однако, ожидал сюрприз. В главной синагоге главный раввин Палестины Авраам Ицхак а-Коэн Кук выступил с заявлением: "Пока наши сыны, защитники женщин и детей, находятся под арестом, под арестом все мы". Он взял ручку и, нарушив строгий библейский запрет, поставил свою подпись под декларацией солидарности с арестованными, протестующей против их ареста и требующей освобождения. Он призвал последовать его примеру. Примеру последовали другие раввины и 25.000 членов других синагог. Британцы петицией пренебрегли.
Майнерцхаген сообщал Керзону: "Через два дня после погромов Уотерс-Тэйлор вызвал мэра Иерусалима, Мусу Казим-пашу, и заявил: "Я предоставил тебе прекрасную возможность; пять часов в Иерусалиме не было военной охраны; я надеялся, что ты воспользуешься этой возможностью, но ты проиграл"[723]723
Французские документы иностранного департамента, Левант/Палестина, том IV, стр. 167, 7 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Он добавляет, что этой информацией снабдили два разных источника.
Точку зрения Уотерс-Тэйлора арабская знать не разделяла. Согласно его донесениям, преобладающим тоном на совещаниях знати, включая Арефа эль Арефа, одного из главных агитаторов, была удовлетворенность жертвами и уроном, нанесенными евреям, и признательность за помощь британским властям.
Тем не менее свой арсенал администрация еще не исчерпала. По завершении физического погрома она приступила к политической фазе, следуя классической формуле: обвинить жертвы и лишить их голоса. Вся ивритская пресса подверглась жестокой цензуре. Арабские газеты продолжали печатать поджигательные статьи. Телеграммы с сообщениями о происходящем не выпускались из страны или искажались перед отправкой.
Две телеграммы Вейцмана Ллойд Джорджу были принесены в Бейрут и отправлены оттуда. К распространению разрешались только официальные сообщения от администрации.
Версия эта, подхваченная за границей агентством Рейтер, заключалась в том, что "сцепились" арабы и евреи, и что администрация восстановила порядок.
Арабские сообщения, опубликованные в Египте, утверждали, что стычки были вызваны провокациями молодых евреев по отношению к арабам, праздновавшим день Неби Мусса, и что еврейские легионеры атаковали мирных арабских жителей.
И французы не замедлили воспользоваться выдавшейся возможностью. Генерал Гуро доложил в Париж арабскую версию: вооруженные евреи напали на безоружных арабов, которых разоружили англичане[724]724
Письма Вейцмана, том IX, № 306, 19 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Просмотрев после погромов египетскую и европейскую прессу, Вейцман в письме Вере восклицает: "Газетам не верь. Они врут"[725]725
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5117/96241/Е3158.
[Закрыть].
Генералу Больсу преподнесли длинную докладную от арабов. Ее основные пункты заключались в том, что арабов разоружили, в то время как евреям разрешили воспользоваться оружием, что евреи напали на мирную праздничную процессию и вырубили большое число христианских и мусульманских мужчин, женщин и детей.
Они признали, что было ранено 258 евреев, но утверждали, что раны они нанесли себе сами. И выдвинули требование, помимо прочего, чтобы Еврейский легион был распущен и чтобы Сионистская комиссия, "центр революционных движений в стране", была выслана из Палестины.
Взяв на вооружение эти требования и подкрепив их обвинением "еврейских частей" в атаке дома главного иерусалимского муфти, генерал Больс отправил Алленби докладную, рекомендуя "расформирование Комиссии и роспуск Еврейского батальона". Алленби ответил, что эти предложения рассматриваться не могут. Но все же переслал их в Военный отдел.
Те же требования передал генерал Конгрив, правда, несколько изменив: он писал лишь об ограничении деятельности комиссии. И к тем, и к другим в Иностранном отделе отнеслись презрительно, поскольку тотчас узнали, что генерал Больс попросту дает ход арабской пропаганде. Один старший чин заметил: "Похоже, пора генерала Больса убрать"[726]726
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5118/56264, 14 апреля 1920 г.; также Центральный сионистский архив Z4/568.
[Закрыть].
Лондону не пришлось долго оставаться в неведении. Сообщения Майнерцхагена Керзону в преддверии погрома подготовили его и его сотрудников к безобразным подробностям поведения и политики администрации. 14 апреля Майнерцхаген отослал подкрепляющий материал, ставший, по записям одного из старших чинов, "очень серьезным обвинительным документом против военной администрации в Палестине".
Заявив, что "офицеры в составе администрации все почти без исключения антисионистски настроены", он, как мог, обосновывал свои обвинения: "В то время как ни один из членов настоящей администрации не возражал активно против позиции правительства Его Величества в отношении к сионизму, общее антисионистское расположение в администрации отразилось, по моему убеждению, на арабах в Палестине, и привело к уверенности, что администрация поддерживает их. Подспудное, возможно, подсознательное влияние, таким образом, на общественную атмосферу в Палестине имело деморализующий и опасный эффект. Среди сионистов оно культивировало всеобщее недоверие к британской администрации и чувство раздражения от неприятного вывода, что Лондон разделяет ее позицию: царит всеобщая уверенность в том, что наша администрация в Палестине проводит попытки доказать британскому правительству безнадежность и грядущий провал сионизма. Среди антисионистов это вызвало осознание силы и вдохновило оппозицию, которая в противном случае могла быть смягчена". Он описывает иерусалимские события и продолжает: "Эти события в Иерусалиме представляют собой в миниатюре точное воспроизведение погрома. В контексте Иерусалима и британской администрации это безобразное слово. Я был свидетелем погрома в Одессе, и сходятся все основные признаки. Осознание всеми участниками, что атмосфера нагнетается, ощущение натянутой струны надвигающихся беспорядков предшествовали всем резням; евреи были в тревоге и предупредили власти; арабы тверды в решении чинить беспорядки и окрылены убежденностью, что правительство на их стороне. Присутствовали все необходимые черты погрома".
И результат этих событий, писал он, был характерным: Больс взял на вооружение требование ведущих антисионистов-мусульман.
И Майнерцхаген заключает: "Я высказался свободно и, признаться, не без предубеждения, но верю, что Ваше Сиятельство простит свободно выраженную критику, исходящую от того, кто один среди офицеров-христиан экспедиционных сил верит в сионистскую политику правительства Его Величества"[727]727
Центральный сионистский архив, протокол от 15 апреля 1920 г.
[Закрыть]. Легко представить растерянность еврейской общины, гнев и ощущение подлого предательства. Евреи не обманывались. Они хорошо понимали, на ком лежала ответственность. Атака арабов не была непредвиденной. Но поведение англичан превзошло все проявления враждебности, до сих пор ожидаемые. Большинство в конце концов отказывалось почти до последнего верить предостережениям Жаботинского, который единственный – по горькому признанию Мордехая Бен-Гилеля а-Коэна – предвидел, что произойдет.
Оба еженедельника рабочих партий не сдерживали своего негодования. "Кровь останется Каиновой печатью на лбу государственных чиновников, – писал 12 апреля "а-Поэль а-Цаир", – которые могли предотвратить, но не предотвратили, могли защитить и не стали, и не позволили евреям защитить самих себя. Это были не волнения, не случайный взрыв черни, но подготовленное нападение, продолжение действий римских консулов в Иудее, желающих превратить Иерусалим в Элию Капитолину; политическая интрига, организованная талантливыми умами, начавшаяся антисионистскими демонстрациями с разрешения правительства и заключившаяся избиением иерусалимских евреев".
Поначалу общину охватили мрачные предчувствия, но через несколько дней к ним примешалась новая эйфория, выразившаяся в многочисленных проявлениях любви к Жаботинскому. Его фотографии распространились по всему городу и появились в магазинах (где и были конфискованы в большом количестве британской полицией).
Не только сама личность Жаботинского произвела эффект на общественность. Он стал символом противостояния, рельефно выраженным в одиночном заключении. Евреи видели в нем вдохновителя самообороны, обеспечившей порядок в Новом городе, даже если им и помешали войти в Старый. В какой-то мере это помогало притушить горечь от погрома. Даже отказ администрации в разрешении на публичные похороны шести убитых евреев не погасил неожиданного чувства внутренней силы.
На заседании исполкома Временного комитета через неделю после погрома выступавшие как один употребляли выражение "хитромемут руах" (подъем духа), описывая настроение общественности.
Один из членов комитета накануне навестил Старый город и обнаружил, что никогда прежде не сталкивался с подобной приподнятостью. Приподнятость, однако, искала выхода в действии. Нарастало движение за демонстрацию по стране. На объединенном заседании Сионистской комиссии и Временного комитета было решено немедленно организовать долго откладываемые выборы в национальную ассамблею, которые послужили бы выражением, по заявлению одного из участников, неразрушимой связи между еврейским народом и землей Израиля[728]728
Письма Вейцмана, том IX, № 303, 10 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Немедленная реакция сионистов на погром выразилась в двух практически одинаковых телеграммах Вейцмана Ллойд Джорджу. Они были отправлены через три дня после ареста Жаботинского. Текст более развернутой из них:
"В результате давно дозволенной ядовитой агитации и поджигательных выступлений в шовинистической прессе и политики администрации, способствующей антисионистскому движению, 4 апреля в Иерусалиме были развязаны насильственные антиеврейские беспорядки, продолжавшиеся три дня. Шесть погибших, женщины поруганы, 200 ранены, синагоги и священные свитки подверглись надругательствам и сожжены, имущество разрушено, в основном в пределах Старого города. Полиция приняла участие в бесчинствах.
Еврейское общественное мнение единодушно считает, что взрыв мог быть предотвращен, или, по крайней мере, беспорядки могли быть предотвращены или, в любом случае, подавлены немедленно после начала.
Требую комиссию по расследованию для установления ответственности. Это беспрецедентное преступление в истории Иерусалима.
Потребуются многие столетия, чтобы восстановилось доверие населения к британскому правительству.
Необходимо, чтобы вы убедили администрацию в огромной важности и необходимости мер по предупреждению дальнейших беспорядков"[729]729
Письма Вейцмана, том IX, № 304, 19 апреля 1920 г.
[Закрыть].
При внимательном прочтении возникает странное опущение. Обвиняя администрацию в попустительстве и отсутствии предупредительных мер, Вейцман не упоминает об активном участии администрации в нападении. Ему могло быть неизвестно о прямом подстрекательстве Уотерс-Тэйлора и Сторрса, но общеизвестный отвод войск до и во время погрома, последовавшие затем обыски в еврейских домах и учреждениях, – включая и его собственный, членов комиссии и больницу "Хадасса", – и тем более, арест руководителя и нескольких членов организации самообороны, неопровержимо свидетельствовали против администрации. Более того, в момент отправки телеграммы в городе уже все стихло, но заключительный погромный акт – наказание жертв – еще был свежей раной общины. Всего за 24 часа до отправки телеграммы в синагогах Иерусалима переживалась серьезность заключения Жаботинского и его товарищей.
В тот же день Вейцман отправил свою телеграмму Американской сионистской организации; описание погрома в ней было идентичным, за исключением двух дополнений: "Хадасса", – пишет он, – работала отлично, спасая, заботясь о раненых"; и "самооборона не была допущена в Город". И снова никакого упоминания о завершающем оскорблении – аресте оборонцев[730]730
Отдел парламентских документов, Иностранный отдел 371/5117, 11 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Ничто в источниках не позволяет предположить, что за два дня между арестом Жаботинского и отъездом Вейцмана в Каир, Вейцман предпринял что-либо для протеста против их ареста или потребовал освободить заключенных. Конечно, обсуждать это с Больсом или Сторрсом было бы бессмысленно.
То же, как казалось, относилось и к Алленби, с которым у Вейцмана состоялась резкая беседа меньше, чем за три недели до всех событий. Тем не менее он принял решение повидать Алленби. Эта встреча несла высокий потенциальный накал – встреча между главой виновной администрации и вождем ее жертв, шестеро из которых погибли, многие были поруганы, более 250 ранено и 21 арестован за попытку защитить общину.
Происшедшее при этой встрече Вейцман, по-видимому, не счел достаточно важным, чтобы представить официальный отчет или упомянуть в письме жене. Алленби же сообщает в Лондон: "Утром у меня состоялась беседа с Вейцманом. Он был в большом нервном напряжении, на грани слез, обвиняя палестинскую администрацию в антисионизме и называя недавние бунты погромом"[731]731
Письма Вейцмана, том IX, № 306, 21 апреля 1920 г.
[Закрыть]. Требование освободить арестованных упомянуто не было.
В свете этих фактов утверждение Вейцмана в письме Вере из Италии десять дней спустя, что "конечно, я сделал все возможное, чтоб освободить Жаботинского, но ты же знаешь, как медленно работает весь аппарат"[732]732
Шехтман (интервью), том I, стр. 331.
[Закрыть], представляется весьма странным.
Некоторые из арабских агитаторов, арестованных после погрома, были размещены в Государственном доме, не бывшем тюрьмой, и вскоре освобождены без следствия. Жаботинский, как и остальные девятнадцать, просидел в тюрьме 12 дней после ареста. Его тщательно отделили от девятнадцати; даже время для ежедневной гимнастики не совпадало.
Жена, сестра и мать навестили его. Он был против визита матери, не желая огорчать ее и неприступным видом тюрьмы, и многочисленными ступенями, ведущими к его камере. Но ее это не испугало. С ним виделся также его друг доктор Шломо Перельман, редактор газеты "Гаарец", позднее описавший Жаботинского как "лишенного эмоций". Однако, сказал он, Жаботинский не унывает, полон жизни и смеха от души[733]733
«Гансард», парламентские выступления, 14 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Он предстал перед судом после полудня 12 апреля.
Когда, два месяца спустя, каирская фирма Девоншира, Гольдинга и Александра подала на пересмотр дела его и его товарищей, они отметили ошеломляющую поспешность в арестах, судах и вынесении приговоров, которые они характеризовали как беспрецедентные в истории английского законодательства.
Поистине весь ход процессов станет уникальным в истории демократических государств, управляемых законодательным кодексом. Официальный протокол остается недоступным.
Но молодой юрист доктор Мордехай Эльяш вел протокол из зала заседания.
По прибытии Жаботинского в суд в три часа дня, ему предъявили пять страниц обвинений. Первым было владение огнестрельным оружием -3 ружьями, 250 патронами и двумя револьверами, "найденными в определенном доме".
Параграф в) на первой странице обвинял его во владении револьвером – тем самым, который он отдал Сторрсу в первый день беспорядков.
В отношении ружей и револьверов ему предъявили обвинение во владении "государственной собственностью". До сих пор обвинения были, по крайней мере, объяснимы. Далее же они несомненно перешли в область фантастики. Следовало, что:
3. В нарушение статей 45 и 56 Оттоманского уголовного кодекса, он вооружил граждан Оттоманского района друг против друга со злостным намерением спровоцировать насилие, грабеж, разорение страны, взаимные убийства и т. п., и беспорядки произошли как результат сего;
4. В нарушение 58 статьи Оттоманского уголовного кодекса он вступил в заговор с более чем двумя людьми с предосудительным замыслом и злостным намерением совершить преступления, упомянутые в обвинении
5. В нарушение статьи 58 Оттоманского уголовного кодекса он, будучи информирован о ношении разрушительных предметов в Иерусалиме, то есть, трех ружей и двух револьверов, не проинформировал непосредственно или косвенно власти, злонамеренно и без убедительного объяснения.
Ознакомясь с этой странной галиматьей, Жаботинский обратился с просьбой об отсрочке на день для подготовки защиты, консультации с адвокатом и опроса свидетелей.
Было отказано во всем. Судопроизводство началось на следующее утро, и Жаботинскому пришлось вести свою собственную защиту. В конце концов, он получил в России диплом юриста, и таким образом, и с помощью Эльяша, повел дело профессионально. Немедленно поднял вопрос, касавшийся двух элементарных правил военной процедуры. Согласно правилам, его звание почетного лейтенанта должно быть упомянуто в обвинении, но не упоминалось; ему должно было быть предоставлено право отвести кандидатуру кого-то из судей, что тоже не было соблюдено. Это имело значение в особенности потому, что у него были возражения против одного из них, члена администрации по оккупированным вражеским территориям, которая имела заинтересованность в его деле.
Ему отказали по обеим статьям.
Когда он заявил, что всякий обвиняемый вправе знать, по каким правилам его судят, судьи заявили, что этот процесс не подлежит никаким процедурным правилам. Тогда Эльяш процитировал приказ администрации по оккупированным территориям, что военные судьи должны следовать правилам военного трибунала. Судьи согласились внести опущенные факты в протокол, но продолжали отказывать Жаботинскому в правах.
Жаботинский утверждал, что невиновен и что магистрат уже оправдал его по первому и второму обвинениям, относящимся к оружию, найденному в Равакии. После длительной дискуссии судьи согласились признать это оправдание.
Капитан Янсен был первым свидетелем обвинения. Он рассказал об обысках и аресте Жаботинского после его признания, что он возглавлял организацию по самообороне. Председатель суда капитан Кермок этим не довольствовался. Он спросил Янсена, считает ли он, что оружие в руках самообороны могло "помешать военным и усугубить беспорядки". Янсен ответил: "Конечно". Но после многочисленных вопросов Жаботинского он все же признал, что в районе, где было обнаружено оружие, беспорядков не было, а в районе, где происходили беспорядки, в Старом городе, отсутствовало оружие.
Главным свидетелем обвинения стал Сторрс. Он должен был обосновать обвинение, что причиной беспорядков послужили действия Жаботинского, что группа самообороны была сформирована конспиративно и что Жаботинским двигала "злонамеренность", упомянутая в обвинительном заключении. То ли оттого, что ему изменили решимость и изобретательность лицом к лицу с Жаботинским, то ли потому, что была ясна предопределенность решения суда, впечатления в качестве свидетеля обвинения он никакого не произвел. Он попытался доказать, что не был осведомлен о формировании самообороны. Относительно их оружия он "не помнил точно", что сказал ему Жаботинский, но вынужден был признать, что Жаботинский предложил ему использовать сформированную группу. Он признал также "открытость", с которой Жаботинский обсуждал с ним ситуацию, и тот факт, что "существовали свидетели, когда обвиняемый заговорил о своих "ребятах" и высказал свое предложение". Более того, он "никогда не думал о заговорах". Он подтвердил, что знал и от Жаботинского, и от доктора Эдера, что предложение Жаботинского вооружать иерусалимскую молодежь было выдвинуто с ведома Сионистской комиссии; и что он, Сторрс, "возможно заметил, полушутя, доктору де Сола Полю, что на днях встретился с "армией Жаботинского".
Таким образом, поскольку оружие – три ружья, 250 патронов и 2 револьвера – пущено в ход не было, вряд ли оно послужило причиной беспорядков; и поскольку Жаботинский проделал всю работу в открытую и даже обсуждал ее со Сторрсом, провалилось обвинение в заговоре.
Оставалось обвинение в "злонамеренности". Жаботинский процитировал обвинительный документ и спросил Сторрса, считает ли тот его способным на приписанные ему намерения (вызвать "насилие, грабежи, разорение страны и взаимные убийства"). Сторрс немедленно отмел эти обвинения. Нет, он знаком с обвиняемым полтора года и "не считает его лично способным специально стремиться к злостным целям, описанным в обвинении".
Но он, тем не менее, "считал его способным предпринять действия, могущие к этому привести"; и в подтверждение этого мнения процитировал слова Жаботинского, когда тот просил вооружить евреев, чтобы "в случае, если в этой стране будут убивать евреев, у них была возможность рассчитаться с нападающими".
Жаботинский призвал его признать разницу между "злонамеренностью" и решимостью "не допустить безответной бойни евреев". Сторрс ничего на это не ответил, но повторил, что не станет приписывать Жаботинскому "злонамеренность".
На вопросы Жаботинского он признал, что после введения военного положения дал Жаботинскому возможность въезжать и выезжать из города свободно, поскольку полагался на его способности и намерение успокоить население. Он также "поддержал заявление обвиняемого, что тот специально тренировал своих людей не поддаваться на провокации. Он знал, что обвиняемый учил их выслушивать оскорбления, не отвечая, и избегать стычек насколько это возможно". И тем не менее он продолжал отрицать, что знал о существовании дружины самообороны – чему немедленно вслед за этим противоречили показания его собственного начальника полиции, капитана Хауза. Несмотря на давление суда, Хауз настаивал, что во время встречи Сторрса с Жаботинским, на которой он присутствовал, "еврейская дружина самообороны обсуждалась как нечто уже существующее" и ему самому "было о ней известно по долгу службы". Более того, "ему было известно, что целью самообороны была защита евреев от нападения арабов" Об их методах он был осведомлен только, что "они проводили учения".
Так закончилась обвинительная часть.
Теперь Жаботинскому разрешалось вызвать свидетелей.
Первый из них, доктор Рубинов, подтвердил свидетельство Хауза, что Жаботинский и Рутенберг сказали Сторрсу в его присутствии, что просят вооружить дружину самообороны. Он рассказал, что в ходе этой беседы просил обеспечить охрану больницы, поскольку арабы атаковали ее во время демонстраций. Хауз отвечал, что ему не хватает полицейских даже в мирные дни, не говоря уж о таком случае. Рубинов добавил, что ему снова и снова заявляли в тот день, что нехватка людей не позволяет обеспечить охрану для медсестер и других учреждений.
Он рассказал суду о деятельности Жаботинского во время войны по мобилизации общественного мнения в пользу выдачи мандата и изменения еврейского общественного мнения в России в пользу союзников. Он считал, что Жаботинский – "один из величайших мужей, данных нам как поэт и писатель и человек, готовый рисковать жизнью за дело, в которое верит".
Главным свидетелем защиты стал полковник Уотерс-Тэйлор. Вызванный свидетелем Жаботинского, он помог разгромить последние крохи правдоподобия в показаниях Сторрса. Он показал, что был осведомлен за три недели о формировании дружины самообороны Рутенбергом, по просьбе Жаботинского.
Как и Сторрс, он категорически утверждал, что не верит, что Жаботинский "мог создать организацию с намерением привести к насилию, разбою и пр., как утверждает обвинительный акт". Он добавил, что, по логике вещей, "если бы он видел в обвиняемом человека, способного на это, он бы давно арестовал его". Он также отметил военные заслуги Жаботинского и добавил, что посетил несколько его лекций.
В этот момент Жаботинский предъявил два документа и просил Уотерс-Тэйлора подтвердить, что это были конфиденциальные телеграммы, отправленные администрацией в Генеральный штаб армии. В них содержалась официальная версия погрома.
Уотерс-Тэйлор был ошеломлен. Телеграммы могли быть отправлены, заявил он, только им самим или Больсом. Судьи заметно растерялись, но разрешили дилемму, отказавшись принять телеграммы в качестве доказательств и призвав Уотерс-Тэйлора не разглашать их содержания. Их содержание было предъявлено в тот же день в Лондоне кабинет-министром Бонаром Лоу обеспокоенной Палате представителей:
"Антиеврейские беспорядки были спровоцированы, по-видимому, при трансформации чисто религиозной процессии в носящую политический характер благодаря подстрекательским речам. Полицию стало необходимо подкрепить военной помощью. Полицейские, по-видимому, приняли сторону своих единоверцев и в конце концов были разоружены"[734]734
20 апреля 1920 г.
[Закрыть].
Судьи, настойчиво отрицавшие существование этих телеграмм, теперь стали прилагать значительные усилия и время, оказывая давление на Жаботинского, чтобы тот рассказал, каким образом телеграммы попали в его распоряжение. Капитан Кермак заметил, что "человек, способный использовать как свидетельство в суде украденные документы, способен еще на очень многое".
Жаботинский хладнокровно заметил, что у суда нет доказательств, что документы выкрадены или что ему было известно, что они засекречены. По правде, сказал он, он получил их от господина Эльяша.
Наступила очередь Жаботинского произнести защитительную речь. Трудности это не представляло. В спешке, с которой его отдали под суд, администрация не успела сфабриковать даже фасад фальшивых доказательств, необходимых при подобных псевдорасследовательских конспирациях. Не было батареи лжесвидетелей, готовых показать, что слышали или видели, как Жаботинский готовил чудовищные преступления, занесенные с такой легкостью в предъявленные обвинения. Какой бы вред ни нанесли Жаботинскому показания Сторрса, они были обезврежены свидетельством и Хауза, и Уотерс-Тэйлора, не говоря уже о разрушительном эффекте телеграмм.
Жаботинский с легкостью опроверг все пункты обвинения. Одно из них, пятое, не фигурировало в процессе, и он продемонстрировал, что даже его текст оказался фальшивкой.
Как утверждалось в обвинении, пятый пункт статьи 58 относится конкретно к "динамиту или бомбам, или разрушительному оружию родственного свойства в какой бы то ни было форме, способному одновременно убивать или ранить большое число людей или разрушить и уничтожить здания, убежища, корабли, средства транспорта или общественные магистрали". Каждый, кому станет известно о "ношении или применении подобных разрушительных материалов, обязуется впредь сообщать об этом властям лично или опосредованно". Такая статья, немногословно подчеркнул Жаботинский, вряд ли относится к "трем ружьям и двум револьверам, обнаруженным в известном доме, недонесение о которых было введено обвинителями в состав преступления, предъявленного Жаботинскому. Таким образом, из всех предъявленных ему обвинений оставалось только одно – обвинение, что 4 апреля в распоряжении Жаботинского находился револьвер, который он сдал Сторрсу.