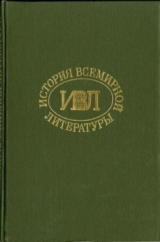
Текст книги "История всемирной литературы Т.8"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 101 страниц)
В статьях из сборника «Подмостки Арлекина» и предисловии к роману «Или Цезарь, или ничто» (1910) автор объяснял, почему именно теория Ницше кажется ему столь важной и нужной именно для Испании: «кроме личной, индивидуальной энергии, ничто в Испании не может противостоять омертвевшим традициям и пошлой, иллюзорной, мещанской демократии».
Однако Бароха не был слепым апологетом активизма; уже в ранней своей статье «Успех Ницше» он предупреждал, что Ницше может стать кумиром не только поэтов и философов, ненавидящих буржуазную посредственность, но и вульгарных эгоистов и даже бандитов, которые вы́читают из его книг лозунг «все позволено». И все же Бароха снова и снова возвращался к ницшеанству, к «философии жизни», надеясь, что уничтожение «всяких заслонов эгоизму» превратит апатично-однообразное мещанское существование в яркую, энергичную, насыщенную борьбой жизнь.
В романе «Путь к совершенству» (1902) активизм еще не связывается Барохой с программой общественного переустройства – речь идет только об усовершенствовании личности. В этом романе Бароха ближе всего к «философии жизни». Вдали от современного общества с его иссушающей суетой, ханжеской религиозностью, лицемерием здесь течет естественная жизнь, не знающая ни норм, ни социальных или религиозных ограничений. Герой, Фернандо, женится на глупой Долорес, именно потому, что видит в ней «протожизнь», средоточие плодовитости и здоровья. Однако уже здесь, в этом раннем романе, Бароха разрушает монолитность своего персонажа-тезиса, вводя мотивы совести и сострадания, чуждые тому бестиальному здоровому своеволию, которое должен воплощать Фернандо. Испытывая «естественное» влечение к невинной Аделе, он все-таки отказывается воспользоваться ее беззащитностью. Здесь торжествует сознание человеческой ответственности. Для Барохи, хоть и пропагандирующего безраздельный активизм, оно сильнее естественного права.
В определяющей для первого этапа творчества Барохи романной трилогии «Борьба за жизнь» («Промыслы», «Сорняки», «Алая заря», 1904—1905) идею активизма воплощает новый герой, Роберто Хастинг, бедный студент, поставивший себе целью разбогатеть, жениться на девушке из знатной семьи, занять высокое положение в обществе. Роберто – не банальный Растиньяк. Он одержим желанием доказать на практике осуществимость своей идеи, которая вовсе не сводится к достижению личного благосостояния. Он развивает целую концепцию человека и общества, основанную на положениях социального дарвинизма. «На самом деле есть только одно средство, и притом индивидуальное, – действие, – рассуждает Роберто в связи с разговором об упадке испанского общества. – Все звери, а человек лишь один из них, непрерывно воюют. Твое пропитание, твою женщину, твою славу ты должен оспаривать у других, а они оспаривают это у тебя. Раз закон нашей жизни – война, примем его не с отчаянием, а с радостью. Действовать – вот жизнь, вот наслаждение. Превратить статичную жизнь в динамичную – вот проблема. Борьба всегда, до последней минуты. Борьба за что? Да за что угодно».
Но и Роберто у Барохи связан моральными соображениями. Он остерегается таких поступков, которые могли бы вызвать угрызения совести. Предлагая идею индивидуального действия как средство исцеления общества, автор не призывает к обращению людей в извергов и каннибалов – он сознает, что это привело бы не к исцелению, а к самоистреблению человечества.
Бароха довольно легко спасался от внутренней опасности, заложенной в идеологии активизма. Он просто всегда показывал апологетов активизма – Роберто в трилогии, Итурриоса из романа «Древо познания» (1911), Сесара Монкаду из романа «Или Цезарь, или ничто» хорошими людьми, противниками жестокости, людьми, которые в силу своей натуры не стараются добиться своего, перегрызая ближнему горло. Однако это условное допущение подчеркивает и обнажает экспериментальный характер построений Барохи.
Роберто Хастинг в трилогии «Борьба за жизнь» полностью выполняет свою программу. Тем не менее к концу трилогии мы видим его зашедшим в тупик и даже растерянным, что не вяжется с прежними его победительно-воинственными заявлениями. Перед ним неожиданно встал новый вопрос: за что теперь бороться? Ведь человек – не слепая жизненная сила, которая жаждет только расширения своего могущества. Неминуемо возникает проблема идеала, цели этой борьбы.
Так итог одного испытания становится отправным пунктом следующего. Поэтому Сесар Монкада, герой романа «Или Цезарь, или ничто», уже не рассуждает, подобно Роберто Хастингу, в духе элементарного социального дарвинизма. Сесар не только не станет бороться «за что угодно», но все – личный успех, богатство, власть – он рассматривает как средство осуществления великой мечты: стать благодетелем родины, своего народа. В этом романе максимально разворачивается, раскрывается общественный потенциал идеи активизма. Ни автор, ни герои не верят в классовую борьбу. Только воля сильного человека, «Цезаря», может, по их мнению, преобразить современный мир, и в особенности – затхлое испанское общество.
В этом романе активизм терпит поражение. Искусственно избавленный от внутренних противоречий, он должен был бы победить в битве с вялым, «неактивным» обществом. Однако оказывается, что личная энергия – даже самая активная, укрепленная продуманной программой – бессильна против энергии социальной. Признав, что усилия сверхчеловека не могут перестроить общество, Бароха проявил интеллектуальную честность – проследил привлекавшую его идею вплоть до ее закономерного краха. На смену увлеченности активизмом пришел саркастический скептицизм второй фазы его романного творчества (1912—1920).
Но и впоследствии отношение Барохи к идее активизма оставалось достаточно сложным. В 1912 г., после романов «Или Цезарь, или ничто» и «Древо познания», Бароха начинает работу над многотомным историческим циклом «Воспоминания человека действия» (1913—1928). Герой цикла – Эухенио Авиранета, либерал, участник войны с Наполеоном, нескольких революций и политических заговоров (Авиранета – исторически существовавшее лицо, дальний родственник Барохи; при работе над романами писатель использовал бумаги из семейного архива). В образе Авиранеты активизм представлен по-новому – смягчен, освобожден от аморализма, облагорожен личностью героя. Активизм Авиранеты – неутомимого человека действия – напоминает скорее античный стоицизм, чем ницшеанскую волю к власти.
«Я прославлял средство от жизненного зла – активность. Это средство старо, как мир, и так же бессмысленно, как любое другое. Все это значит, что никакого средства от жизненного зла нет», – пишет в 1917 г. Бароха, переживающий трагический жизненный кризис. Это означало окончательную утрату веры в идеологию активизма применительно к текущей исторической эпохе. Лишь в минувших веках, полагает Бароха, существовали условия, частично оправдывающие активное отношение к жизни. Поэтому Бароха помещает своего героя Авиранету в эпоху карлистских войн; в эту же эпоху поместил своих деятельных героев другой ведущий романист «поколения», Рамон де Валье-Инклан.
Однако и пережив период увлечения активизмом («период бури и натиска», по собственному определению Барохи), писатель продолжал выступать за роман действия, написанный кратким, точным, ясным языком, против герметичного, философски-многословного «романа диалогов». Бароха был столь ярым противником рефлекторного искусства, что заявлял, будто проза должна расти «как трава» и что сознательное достижение какого-либо литературного результата невозможно. Писателем нельзя стать, им нужно родиться, точно так же и роман рождается у писателя, как ребенок. Роман, в представлении Барохи, – «мешок, куда свалено все»: единственный вид сознательной работы романиста – наблюдение за жизнью. У любого творчества, и в первую очередь у его собственного, по убеждению Барохи, лишь два истинных источника – личностные воспоминания (детство, юность, опыт души) и воспоминания о внешнем мире – то, что Бароха называл «репортаж».
Эти наблюдения над жизнью, как правило, совершенно безрадостны и ведут к болезненному скептицизму. Осознав ужас окружающей действительности, приходит к самоубийству герой романа «Древо познания» Андрес Уртадо (наряду с Пием Сидом и Антонио Асорином, это эмблематичный герой романистики «поколения»). Через скептицизм «Древа познания» и всеобъемлющий пессимизм романа «Мир таков» (1912) Бароха постепенно приближается к главной идее третьего, завершающего периода своего творчества (с 1918 г.) – к идее равновесия, достижимого лишь за счет сурового самоограничения, практически отказа от жизни.
Несходство теоретической литературной программы Барохи с ее реализацией сказалось, в частности, в том, что, невзирая на многократно прокламируемое отталкивание писателя от романа, построенного из диалогов, в его лучших – переломных – книгах «Город в тумане» (1909), «Древо познания», «Мир таков» диалог безусловно преобладает над действием. Здесь ярче всего заметен типичный для Барохи (хотя и не вошедший в его теорию) симбиоз двух типов повествования: романа о социальной среде и романа о духовных исканиях героев. Удельный вес каждого из двух повествовательных элементов варьируется от книги к книге. Один из первых романов Барохи «Похождения, изобретения и мистификации Сильвестра Парадокса» (1901) и первые две части трилогии «Борьба за существование» ближе «чистому» роману о среде. В «Алой заре», «Страннице», «Или Цезарь, или ничто», «Древе познания» достигнуто равновесие. Каждый из двух повествовательных элементов представляет особый тип романа и генетически восходит к особой традиции.
Традиция, питающая первый тип – романа о среде, была указана писателем Х. Валерой в рецензии на роман Барохи «Похождения... Сильвестра Парадокса». Х. Валера отметил, что «молодой прозаик обновил, как только возможно обновить в наши дни, новыми костюмами, обычаями, нравами и склонностями наш старинный плутовской роман». Высочайший образец романа второго типа – полифонического по своей сути – Бароха нашел для себя в творчестве Достоевского. Своеобразие художественного метода Барохи состоит в соединении двух этих типов, в сращении двух традиций.
УНАМУНО
Крупнейший писатель и мыслитель Мигель де Унамуно-и-Хуго (1864—1934) играл в литературной истории «поколения» двойственную роль: разведчика новых форм и в то же время противника формотворчества. В серии статей: «Слоновокостебашнизм» (1900), «Модернизм» (1907), «Искусство и космополитизм» (1912), «О пузырях на коленях» (1913) и др. – он восстает против культуры европейского декаданса. В 1907 г. он выпускает свой первый сборник стихов, в котором бросает вызов поэтической моде дня. Но в эти же 900—10-е годы Унамуно пишет романы, озадачивающие публику и критиков принципиальным новаторством, понятые и оцененные лишь позднее, когда условность и подчеркнуто экспериментальная форма повествования в европейских литературах стали привычными.
Однако для самого Унамуно противоречия между следованием традиции и новаторством не существовало. Поиск новаторской формы не был для него самоцелью. Для полного раскрытия личности следовало создать новую форму, опираясь и на традицию, и на эксперимент, обильно используя реминисценции, прямые и скрытые цитаты. Чужое у Унамуно мгновенно превращается в личное, пережитое.
Унамуно не обладал даром художественной объективизации, который дает произведению возможность полноправно существовать независимо от личности его творца. Все его романы, повести, новеллы, драмы и даже стихи остаются как бы осколками его личности и воспринимаются скорее как фрагменты духовной автобиографии. Унамуно принадлежал к тому типу людей, которым, по выражению Достоевского, важнее всего в жизни «мысль разрешить». В теоретических заявлениях, в письмах Унамуно повторял: «Я думаю чувством, а чувствую мыслью», «я осмыслил чувство, я прочувствовал смысл». В его личности нераздельны эмоциональное и интеллектуальное, душевное и духовное.
«Истина – это то, во что верят от всего сердца и от всей души», – писал он. Утверждение личного характера философской истины ставит Унамуно в ряд провозвестников европейского экзистенциализма. Он предложил понятие «идея-человек»: только человек, выстрадавший свою идею, вдыхает в нее жизнь, нельзя принимать идею умозрительно, не пережив и не перечувствовав духовный опыт ее творца. В философии Унамуно главной ценностью мироздания выступает уникальность каждой личности, коренной проблемой философии и искусства – отношение личности к другим людям, к обществу в целом, к времени и космосу, к знанию и вере.
Слушая в середине 80-х годов курс в Мадридском университете, Унамуно участвовал в последних попытках «краузизма» примирить разум с верой. Сознание бесперспективности этого пути было причиной тяжелейшего личностного кризиса молодого писателя. Последствия этого кризиса сказались на всем последующем творчестве Унамуно.
В конце 90-х годов Унамуно вновь переживает период сильнейшего душевного смятения, который биографы называют «религиозный кризис 1897 г.». Внезапно заболевает менингитом маленький сын, и писателю представляется, будто бог карает его за измену вере. Но хотеть поверить – не значит верить. Чистая и непосредственная, как в детстве, вера уже не воскреснет в Унамуно. Об этом он многократно говорит в своих письмах и эссе. Однако и мысли о вере и неверии, о смерти и бессмертии уже не отпускают его.
Вряд ли поворот к религиозно-философским размышлениям объясняется только этим душевным кризисом. Само по себе истолкование болезни ребенка как кары за неверие могло сложиться лишь на почве напряженных раздумий о науке и религии, о научном объяснении тайн жизни и смерти. Болезнь сына придала этих раздумьям оттенок трагического исступления. Отсвет трагедии остался в болезненно-страстной окраске самых отвлеченных рассуждений Унамуно.

Мигель де Унамуно
Портрет работы Х. Эчеверрии
Философско-этическая концепция Унамуно, изложенная им в книгах «Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно» (1905), «Трагическое ощущение жизни» (1913), «Агония христианства» (1924) и во всех мелких эссе, написанных после 1900 г., многими узами связана с идеями Льва Толстого («Толстой – одна из тех душ, что произвели переворот в моей душе, его произведения глубоко отпечатались во мне», – писал Унамуно). В «Исповеди» Толстой сформулировал вопрос, на который будет затем пытаться ответить и Унамуно: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» Включив идею смерти в философскую доктрину, Унамуно опередил экзистенциалистов. Однако в его творческом миросозерцании присутствует протест, намерение бороться: «Примем Ничто, которое, может быть, нас ждет, как несправедливость, будем сражаться с судьбой, даже не надеясь на победу, будем сражаться с ней по-донкихотски». Именно нотой протеста философия Унамуно привлекла такого человека с абсолютным этическим слухом, как великий испанский поэт Антонио Мачадо. Познакомившись уже в начале 30-х годов с учением Хайдеггера, Мачадо сразу же отметил: «Унамуно... извлекает из нашей тоски перед образом смерти утешение в протесте, этическая ценность которого неоспорима. Там, где Хайдеггер говорит безоговорочно смиренное „да“, наш дон Мигель отвечает почти богохульственным „нет“ идее смерти, которую, однако, признает неизбежной».
Миросозерцание Унамуно было, безусловно, трагическим, но пессимистическим его назвать нельзя. Пессимизму нет места там, где есть бунт, сопротивление, напряжение всех душевных сил. Подлинная жизнь начинается для Унамуно не тогда, когда личность в ужасе сознает абсурдность своего краткого существования, а лишь тогда, когда личность побеждает страх и живет «по-донкихотски». Человеческий идеал Унамуно – «агонист», человек, ведущий даже во время агонии «постоянный бой с умственным отчаянием».
Эта философски-этическая концепция наряду со своеобразным историзмом определяет основные идеи унамуновской эссеистики. В ней предлагается не столько система суждений, сколько художественный образ конкретного человеческого сознания, образ субъективного восприятия мира. Унамуно искал в эссе все новые образные возможности, чтобы «овеществить» в слове непрерывную текучесть внутренней жизни. Он писал эссе то в форме письма («Вглубь!», «Путь к гробу Дон Кихота»), то в форме размышлений над прочитанной книгой «Испанская зависть»). Стержнем эссе могла быть полемика («Антиполитики») или комментарий на злобу дня. Но особенно характерны для Унамуновых эссе две формы: размышление над пейзажем и размышление над произведением искусства. «Я хочу рассуждать о философии языком, каким просят чашку шоколада и говорят об урожае или других домашних делах», – писал Унамуно другу.
Первые эссе Унамуно появились в 1895—1896 гг. («Об искренности», «Возрождение испанского театра», «Человеческое достоинство», «Кризис патриотизма» и др.). Их темы – разложение правящей верхушки Испании, кастовые и националистические предрассудки, сервильность интеллигенции – страстное обличение «современного маразма Испании».
До 1897 г. Унамуно считал себя социалистом и активно сотрудничал в социалистических изданиях. «Социализм и коммунизм, – записывает он в дневнике. – Святой коммунизм... Причастие духа...» Испанские социалисты не разделяли подобного морального пафоса, и уже в 1896 г. Унамуно жалуется в письмах на их фанатизм и мечтает, чтобы «для социализма существовало, кроме экономической стороны дела, еще хоть что-нибудь». Но и отойдя от социалистов, Унамуно продолжал считать, что лишь социализм сможет накормить всех голодных и установить социальную справедливость. Он усомнился лишь в том, что социальной справедливости и «сытости» будет достаточно для удовлетворения духовных потребностей человека, для обретения внутренней гармонии. Не оставляя забот о возрождении Испании, о выходе ее из «современного маразма», Унамуно с 1898 г. видел путь к возрождению прежде всего в духовном обновлении личности.
Углубившись в проблематику индивидуального сознания, Унамуно отнюдь не утратил интереса к общественной жизни. Он верил, что сумеет изменить судьбу Испании, проповедуя свой этический идеал и воздействуя на общественную нравственность современников. В эссе «Путь к гробу Дон Кихота» (1906) Унамуно констатирует, что причиной жалкого состояния страны является духовный тонус буржуазного общества, его мелкая, убогая, своекорыстная мораль. Философ призывает соотечественников отправиться в новый крестовый поход, чтобы освободить могилу Дон Кихота из-под власти священников и бакалавров, захвативших ее. Унамуно пропагандирует своего рода культ «исторического действия». Только донкихотское безумие, вера в идеал (любой!) может возродить Испанию, погрязшую в филистерстве и заботах о пошлом благополучии.
Унамуно, конечно, не предполагал, и, скорее всего, не допускал античеловеческой направленности того коллективного безумия, которое он считал целебным для омещанившегося общества. Однако история показала, что и такая возможность не исключена: в умах «сильных людей» созревают далеко не обязательно возвышенные и человеческие идеи. Тут завязь противоречия, грозное, но не замеченное тогда философом предвестие будущего.
Унамуно на этапе этом не изменил сложившемуся еще в юности демократизму. Будущее Испании, пишет он в том же эссе, зависит от Санчо – народа; только в Санчо может возродиться Дон Кихот. Но как и при каких условиях может произойти «кихотизация» Санчо? И как узнать, как определить идеал Санчо, идеал народа? Ведь не извне, не из книг получит народ возвышенный идеал, а выносит – уже вынашивает – его сам. Особый духовный склад испанского народа, лелеемый народной душой идеал, возможности и условия исторической реализации этого идеала – таковы проблемы, над которыми непрерывно размышлял Унамуно в 10—20-е годы, которым он посвятил множество страниц эссе и серию полемических выступлений.
Большой резонанс имела полемика с Бенедетто Кроче, с сожалением отозвавшимся об отсталости и невежестве испанского народа, и с Хосе Ортегой-и-Гасетом, назвавшим испанцев «самым анормальным народом Европы» и сокрушавшимся, что в библиотеке Дон Кихота не было «какого-нибудь трактата по математике». Унамуно отвергает мысль, что нормой для народа может почитаться научный или экономический прогресс. У испанского народа своя норма – духовное, а не экономическое развитие, размышление над эстетическими вопросами, поиски справедливости. «Мудрость, вера, справедливость, терпение, доброта – это одно, а математика – это другое». Испанский ум преимущественно занят первым, второе оставляет его равнодушным.
На основании подобных деклараций Унамуно обычно причисляют к выразителям испанского «мессианства». Однако национализм Унамуно никогда не принимал реакционного, мракобесного характера. Мессианство Унамуно сводилось, собственно, к утверждению, что испанская нация обладает огромными духовными богатствами и это позволяет ей не только не чувствовать себя униженной из-за экономической отсталости, но, напротив, способной еще поделиться богатством с другими, чересчур практичными народами, забывающими, что «не хлебом единым...» Унамуно был озабочен тем, чтобы испанцы не с пустыми руками пришли на всемирный рынок, чтобы их ценности были замечены и взяты в обмен на те блага цивилизации, которыми испанцы – Унамуно настаивал на этой оговорке, – конечно, тоже будут пользоваться. Другие народы смогут облагородиться от прикосновения к испанскому гению, а испанский народ лишь в этом случае обретет независимость и уверенность в себе, которых пока ему катастрофически не хватает. В так называемом мессианстве Унамуно дышит мечта о создании новой цивилизации, гармонически соединяющей «изобретения» и «дух», математику и доброту, материальный прогресс и стремление к нравственному совершенству.
В своих ранних романах Унамуно, занятый духовной проблематикой индивидуума, не касается проблем социальной несправедливости, бедности, притеснений в деревне и застоя в национальной экономике. В те годы, все, что касалось социальной действительности, Унамуно определял как «обманчивый внешний реализм» и тяготел к исследованию «внутреннего реализма» личности, «внутренней истории» народа. Стремление противопоставить традиционным, лживым и не оправдавшим себя методам научного и художественного анализа действительности свой правдивый метод и толкало его к поиску новых литературных форм, высшим выражением чего стало изобретение особого жанра «румана» (nivola) взамен романа (novela).
Книги Унамуно входят важной частью в комплекс романистики «поколения 1898 г.». Как и другие романы этой группы, они строятся вокруг центральной идеологической фигуры, подобной Пию Сиду, Антонио Асорину и Андресу Уртадо. Но некоторые черты выделяют роман Унамуно из общей массы. Во-первых, подчеркнутая условность повествования – сам автор называл это свойство «интрареалистичностью». Во-вторых – синкретизм жанра, находящегося на полдороге между «правильным» романом и философским эссе.
Первый же роман Унамуно «Мир во время войны» (1897), повествующий о событиях карлистской войны, написанный безо всякого формального новаторства и во вполне реалистической манере под сильным влиянием Льва Толстого, тем не менее входит в число ключевых романов «поколения 1898 г.» единственно из-за характера главного героя, Пачико Сабальбиде. Это «второе я» автора, обуреваемый экзистенциальной тревогой «агонист», «Дон Кихот», борющийся с метафизической безысходностью.
Роман «Мир во время войны» основывается на разработанной Унамуно в конце века концепции «интраистории» – «внутренней истории народной жизни». Люди трудятся, любят, смеются, умирают, идут на войну, повинуясь своим представлениям о справедливости и дедовским заветам и не имея понятия о «внешней истории» – о государственной политике, которой вызвана гражданская война.
Идя по следам Толстого, Унамуно ввел в испанский исторический роман голос автора, чей кругозор значительно шире кругозора героев. Автор приводит документы, размышляет, комментирует, философствует. Он пытается, как и Толстой, «описать и уловить кажущуюся неуловимой жизнь народа». Но толстовская идея очищающей силы такого тяжелого для всей нации испытания, как война, в романе Унамуно заметно мельчает. Здесь очищение войной не означает духовного перерождения, приобщения к народной судьбе, но сулит лишь более острое и благодарное понимание радости обыденной жизни.
Однако определяющий после 1897 г. все творческие действия Унамуно трагический скептицизм не позволял ему рассматривать проблему возрождения личности в положительном смысле. Спасительный выход он находит в иронии. Романы «Любовь и педагогика» (1902) и «Туман» (1914) открыто экспериментальны. Откровенную параболичность романа выдает и шутовской тон автора в прологах и эпилогах, и самоирония, самопародия. Роман «Любовь и педагогика» представляет собой сатирическую фантазию, сюжет его неправдоподобен: в нем описывается крушение жизнестроительской деятельности позитивиста-неокантианца Авито Карраскаля, который помешан на всемогуществе естественных и социальных наук. Роман направлен не против науки как таковой, а против сциентизма, против претензий науки все разъять, развинтить. Карраскаль, намеревается, еще будучи холостяком, «по науке» выбрать себе жену, затем «научно» воспитать ребенка – и ребенок неминуемо станет гением. На протяжении всей книги Унамуно остроумно показывает, что рациональные расчеты бессильны перед такими природными импульсами, как любовь, страх и пр. Все предприятия Карраскаля обречены на неуспех; к примеру, решив, что мать будущего ребенка, должна быть долихоцефальной блондинкой, он немедленно влюбляется в брахицефальную брюнетку. Став женой Карраскаля и матерью его ребенка, Мариана по велению материнского инстинкта невольно саботирует все его педагогические начинания.
Важное место в романе отведено и прямым философским рассуждениям – это эссе в диалогах, развивающее и поясняющее основную ироническую параболу. Диалоги дона Авито Карраскаля с доном Фульхенсио Энтрамбосмаресом – двойником Унамуно – обнимают фактически весь круг идей, вошедших впоследствии в эссе «Трагическое ощущение жизни»:
о несочетаемости рациональности с благополучием, о свободе воли, о смерти и бессмертии.
Затрагиваемые мировоззренческие и философские вопросы, должно быть, для Унамуно настолько серьезны, что он не способен заниматься ими «прямо», без прикрытия иронии. И оканчивается цепь его рассуждений совершенно пародийно, в том духе, что накормить способна только логика, живешь только поевши, мыслишь только живя, а свободно мыслить – значит пренебрегать логикой... Пародийным приемом было и присовокупление к первому изданию книги трактата о котологии, сочиненного доном Фульхенсио.
Читающая публика не приняла подчеркнутой ироничности романа Унамуно. Рецензенты писали: «Это не роман». В ответ Унамуно охотно согласился назвать свои литературные труды каким угодно словом: хотя бы «руман» (nivona).
Однако после неуспеха «Любви и педагогики» в течение двенадцати лет Унамуно не пишет романов. Кроме исполнения обширных обязанностей ректора Саламанкского университета и преподавания там же греческого языка много сил он отдаёт эссеистике, выпускает две большие философские книги: «Житие Дон Кихота и Санчо» (1905) и «Трагическое ощущение жизни...». В этот же период написано много стихотворений и рассказов, вошедших в сборник «Зеркало смерти» (1913).
Книга «Туман», которую автор, «чтобы никого не вводить в заблуждение», сразу же определил как «руман», пародийна еще в большей степени, чем «Любовь и педагогика». И снова здесь решаются серьезные философские вопросы – такие, как проблема свободы воли. При этом автор исходит из положения, что «существование предшествует сущности»: т. е., как и в «Любви и педагогике», доказывается, что подлинная личность рождается в результате выбора. В эссе «Житие Дон Кихота и Санчо» Унамуно цитировал испанскую пословицу о том, что человек – дитя своих трудов, и утверждал, что Алонсо Кихано вообще не существовал, пока не решился (сознательно) быть Дон Кихотом. В «Тумане» ситуация выбора человеком своей судьбы вынесена на уровень сюжета: за советом, как ему жить, герой едет в Саламанку, к выдумавшему его Мигелю де Унамуно. Ситуация усложняется еще и наличием «альтернативного творца», повествователя Виктора Готи, противостоящего автору – Унамуно. Он учит героя, как ему переспорить создавшего его Унамуно. Этим автор подчеркивает особую трагическую неоднозначность и почти невозможность экзистенциального выбора.
В дневнике Унамуно сохранилась запись: «Говорят, что Бог нас создал, и что же – мы теперь должны благодарить его, хотя нам предстоит вернуться в ничто, из которого он нас извлек? Говорят, что мы должны славить его деяния – почему и за что?» Для героя романа «Туман», узнавшего, что он фантом, выдуманное существо, которое автор властен убить, – важнее всего отстоять свое право на самоубийство. На свой лад он повторяет декларацию героя Достоевского: «Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою».
После «Тумана» в творчестве Унамуно наступает следующий период – период поиска самой сути экзистенции, выяснения, что есть личность и возможно ли судить о ней как о единстве.
В эти годы Унамуно разрабатывает новый прозаический тип произведения, отказываясь от подчеркнутой параболичности и условности повествования. Еще в одном из писем 1902 г. он рассказывает о замысле повести, в которой нельзя не узнать будущую «Тетю Тулу» (1921), и замечает: «Я знаю такой случай». Очевидно, параллельно с художественно-философским конструированием Унамуно накапливает наблюдения над повседневными людскими драмами. Эти «случаи», истолкованные Унамуно, как подлинно состоявшиеся агонии человеческого духа, требовали от художника воплощения. Уже в рассказах из сборника «Зеркало смерти», а затем в романах «Авель Санчес» (1917) и «Тетя Тула» (1921), в «Трех назидательных новеллах» (1920) действующими лицами становятся не фиктивные персонажи, не марионетки, которых автор открыто дергает за ниточки, а обычные люди, живущие бок о бок с автором, люди, которым можно попытаться заглянуть в душу.
В прологе к «Трем назидательным новеллам» писатель излагает свое понимание художественного метода. Художник имеет дело с реальностью, но для него важна не материальная, бытовая реальность – это лишь фон, лишь первичное условие истинной драмы, – а внутренняя реальность: воображение, воля, страсть. Поэтому реализм «в высшем смысле», считает Унамуно, должен состоять не в точности изображения обстановки, среды и пр., а в раскрытии внутренней жизни каждого человеческого «я». Унамуно вряд ли знал тогда утверждение Достоевского: «...я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой», – но свой творческий идеал он определял подобным же образом.








