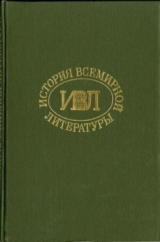
Текст книги "История всемирной литературы Т.8"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 101 страниц)
Вместе с тем писатель и в эту пору своего творчества сохраняет пристальный интерес к человеку, отколовшемуся от целого. Личности, нашедшей себя среди людей, постоянно сопутствует в его произведениях отчужденная индивидуальность; цельному или влекущемуся к цельности характеру – «пестрая» (как любил повторять Горький), раздвоенная человеческая душа. В повествованиях конца 900-х и 10-х годов о широкой народной Руси вновь появляются давно знакомые персонажи – люди, вырванные из своего окружения, разнообразные «пленники русской страсти к бродяжеству». Писатель бывает теперь еще более строг к ним, когда их разрыв со средой влечет за собою только анархическое отщепенство. Но одновременно еще более усложняет их духовную жизнь, вызывающую мысли о нереализованном внутреннем богатстве. «Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать – по фигурности мысли и чувства, русский народ – самый благодарный материал для художника», – читаем в послесловии к циклу «Заметки из дневника. Воспоминания» (1924).
Сказав о Достоевском как о гениальном изобразителе национальных духовных болезней (в статьях 1913 г. «О „карамазовщине„», «Еще о „карамазовщине“» и др.), Горький проницательно ощутил разрушительное начало в его творчестве и совсем не ощутил начало идеальное. А между тем в их соединении – тайна лучших образов писателя. И знаменательно, что (вопреки односторонним публицистическим суждениям) этому великому опыту художественного исследования сложно-двойственного сознания был многим обязан и сам Горький, резко споривший с Достоевским по вопросам идейно-философским.
Иным духовным строем – внутренне гармоничным – автор «Матери» наделил своего революционного героя. Его образ в нашем литературоведении долгие годы считали эталонным у Горького – и тем самым нарушали шкалу ценностей. Фигура пролетарского революционера в творчестве писателя, несомненно, отличается новизной замысла. И однако, заметно уступает в художественной яркости, органичности другим характерам, о которых шла речь только что. Высшим творческим достижением Горького был все-таки образ человека «пестрой души», созданный в «окуровских» повестях и автобиографических сочинениях 10-х годов (как и в произведениях советского времени).
Предоктябрьские годы в целом – это наиболее зрелый и плодоносный этап дореволюционного пути писателя. Горький остается, по существу, так же идеологичен, как прежде, так же верен своему миропониманию (вопреки мнению ряда тогдашних критиков). Но оно приобретает бо́льшую трезвость и одновременно бо́льшую сложность, освобождается от ригористического налета, глубже укореняется в действительности, теснее смыкается с традициями. В автобиографических вещах 10-х годов связи с заветами русской классики достигают, пожалуй, высшей прочности по отношению к предшествующей деятельности писателя. В публицистических суждениях Горького подчас излишне педалировалось несогласие с гуманизмом прошлого, преувеличивалась его пассивность («жалость, унижающая человека»). А в художественных произведениях тех лет происходило существенное сближение с этим «сострадательным» гуманизмом, сильными его сторонами.
«Расширение мира» в горьковском творчестве 10-х годов означало дальнейшее нарастание эпической тенденции, которое сказывалось и в видоизменении жанровых форм.
Примечательна эволюция рассказа. В раннем творчестве писателя форма сюжетной новеллы, построенной на острой ситуации, на «исключительном факте» (название одного из рассказов), согласуется с преимущественным вниманием писателя к судьбе личности и ее порой резко конфликтным отношениям со своим окружением.
В последующие годы мир горьковской новеллы становится все более объемным. Следуя урокам Чехова, Горький, как и другие крупные мастера русского реализма начала века, раздвигает рамки «малой прозы». В сборнике «По Руси» писатель желает воплотить «нечто „коренное русской жизни“ – русской психики». Отсюда панорамность, многослойность рассказов, вошедших в эту книгу. Повествование насыщается деталями фона, населяется эпизодическими персонажами. Личность значительно глубже, чем ранее, вписана в картину всего уклада жизни.
Широта и одновременно концентрированность обобщений свойственна в горьковском творчестве конца 900-х и 10-х годов и большой прозаической форме, в том числе одному из самых масштабных сочинений – «Жизни Матвея Кожемякина». Роль основного действующего лица подчеркнута уже «личностным» заглавием книги. Но оно и «точно», и «неточно». В «Жизни Матвея Кожемякина» (как позднее – и еще более явственно – в «Жизни Клима Самгина») не совсем обычны отношения между главным героем и фигурами фона. По существу, это последнее понятие в значительной мере условно здесь, ибо слишком крупным планом изображено то, что привычно именуется фоном. Резко повышается значение картин, сцен, эпизодов жизни, «внешней» герою. Ему меньше доверено, чем в традиционном типе личностного повествования, хотя он в высшей степени представителен.
Вместе с тем сама картина общей жизни – в духе художественных поисков времени – обладает особой емкостью. Перед нами – обширное повествование, однако строго замкнутое в пространственных границах, целиком сосредоточенное на жизни городка Окурова. Но, ограниченное лишь одним повествовательным планом, оно заключает в себе потенциальную многоплановость (о жанровых решениях этого рода см. в предшествующем разделе этой главы). Известные (и уже приводимые) слова Горького о «Деревне» Бунина (не менее замкнутой в своих тематических пределах) как произведении не столько о «мужике», сколько о «России – как о целом» – слова, указывающие на широту эпического замысла этого произведения, сравнительно узкого по своему «материалу», – можно с полным основанием отнести и к структурным особенностям обоих сочинений.
При этом писатель остается верен общему типу своего творчества: исторически конкретные обобщения возводятся к философским. Образ «исторического» народа, скованного тяжкими противоречиями, освещен мыслью о его неискоренимой духовной субстанции, о народе – «первом по времени, красоте и гениальности творчества философе и поэте», как сказано в известной статье 1909 г. «Разрушение личности». Миф, героический эпос и другие создания устного творчества являются «гениальными символами», «гигантскими обобщениями» потому, что в них с позиций социального опыта народа решаются «вечные» вопросы бытия – жизнь и смерть, человек и природа,
личность и коллектив. Память о древнем мифе и эпосе, проникающем их мотиве бессмертия творящей силы народной явственна и в художественных сочинениях писателя (и в ранней романтике, и в последующем творчестве – «Фоме Гордееве», «Сказках об Италии», «Жизни Матвея Кожемякина» и др.). В искусстве XX в. обращение к мифу имело различные последствия и эстетические результаты. У Горького оно стало одним из путей философского осмысления социальной истории народа.
Общей эволюции творческого метода писателя соответствовала – в своем тяготении к сложной цельности – эволюция его поэтического языка. Еще на раннем этапе пути наметилось соприкосновение различных стилевых начал – изобразительно-конкретного и символически условного, объективного и личностного, реалистического и романтического.
Стилевая романтическая краска и позже очень заметна в горьковском искусстве. Поэтизация героического характера, эмоциональная насыщенность художественного строя, отличающегося резкой контрастностью света и тени (от буйно-восторженной патетики до сатирического гротеска), лирической открытостью авторской речи, влечением к образу-символу – все эти черты свойственны творчеству писателя в годы первой русской революции: и роману «Мать», и очеркам цикла «В Америке», и произведениям, вошедшим в цикл «Мои интервью», и маленьким притчам («Мудрец», «Собака», «Старик»), и рассказам из цикла «Солдаты». Роль «романтического» реализма Горького в историко-литературном процессе была значительной: он способствовал общей активизации художественных средств в литературе XX в.
Но с конца 900-х – начала 10-х гг. в поэтическом языке писателя совершаются изменения, связанные с приоритетом традиционной, «объективной» формы реализма и обогащением ее возможностей (это художественное движение интересно очерчено в работах Е. Б. Тагера о горьковском стиле). Процесс этот не был однолинейным. В 10-е годы появляются, например, романтически окрашенные «Сказки об Италии», а в предшествующий период писались и чисто реалистические вещи. Но общая закономерность (вызывающая немало аналогий с эволюцией стиля всей русской реалистической прозы начала века) именно такова. В произведениях Горького этих лет предметно точная стихия языка решительно преобладает над субъективно-лирической. Однако при этом сохраняется интенсивная оценочность авторской позиции. Чувственная конкретность описаний – бытовых, пейзажных, портретных – постоянно соединяется со своеобразной символикой. Образная речь зрелого Горького уже не двойственна, как в ранних произведениях, а двуедина.
Вот пример из сборника «По Руси»: «Сажен на двадцать ниже ледорезов матросы и босяки скалывают лед вокруг барж; хряско бьют пешни, разрушая рыхлую, серую корку реки... плещет вода; с песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры... и во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнующий душу. Кажется, что серый день всею своею работою служит акафист весне, призывая ее на землю» («Ледоход»).
В стилевых обретениях писателя также подтверждалась синтетическая природа его творчества.
В России предоктябрьских десятилетий возникают и другие явления социалистической литературы. При всей несоизмеримости с горьковским творчеством они позволяют говорить о некоторых типологически сходных чертах.
По пути нового искусства шел Александр Серафимович Серафимович (А. С. Попов, 1863—1949).
С момента публикации первого рассказа «На льдине» (1889) писателя волнует судьба труженика. В многочисленных рассказах и очерках 90-х годов, где особенно выделяется пролетарская тема («Под землей», «На заводе», «Маленький шахтер», «Стрелочник», «Под уклон», «Сцепщик» и т. д.), выразительно обрисованы жесточайшее попирание труда, элементарных прав и потребностей рабочего человека, безмерно тяжкие условия его существования. Типичные герои Серафимовича – пассивные жертвы социальной несправедливости.
Перелом в его творчестве наступает в годы первой русской революции. Почти все написанное им в ту пору – картины народной жизни, так или иначе связанные с революционным движением и его судьбами. Только теперь открывается писателю значение народной массы как субъекта истории («Бомбы», «Похоронный марш», «На Пресне», «Среди ночи», «На площади» и др.).
В последующие годы новое качество заметно обогащается. Давно работающий в литературе писатель создает внушительное художественное обобщение – повествование эпического плана. Это – роман «Город в степи», опубликованный в 1912 г. Как и эпос Горького 10-х годов, он укрупнял масштабы нового искусства. Книга, запечатлевшая характерные типы буржуазной эпохи, важнейшие социальные конфликты времени, проникнута мыслью о неизбежной гибели существующего уклада. Литератор, привлекавший в первую очередь талантом бытописания,
достоверным изображением условий труда, предстает здесь и художником-психологом.
Это относится и к рассказам конца 900-х и 10-х годов, живописующим гнетуще мрачную жизнь, содержание которой – распад и опустошение. «Время уходит бесплодно и без возврата..» («Пески»); «Бегут годы... И чем дальше, тем больше давил роковой, неизбежный... выход» («Дочь»); «Все было впереди, ждало его и манило, и разом, без предупреждения, он – старик... Уходил день за днем...» («Качающийся фонарь»). Эти мотивы навязчиво кочуют из рассказа в рассказ. Они воспринимаются подчас фатально, философично, как некая истина о всей жизни человека. И в самом деле, эта мысль присутствует в произведениях Серафимовича, но в качестве объекта для скрытого спора, для того, чтобы опровергнуть ее притязания на всеобщность. Героиня известного рассказа «Пески» (1907), высоко оцененного Львом Толстым, продала молодость, красоту за богатство и благополучие, поменяла живую жизнь на «мертвый взгляд вещей». И с тех пор стала добычей сил, действующих с неумолимостью рока, которые сжили ее со свету. В «Песках» ясно намечается одна из ведущих тем творчества Серафимовича той поры – тема социального фатума. Зловещая неотвратимость, роковая порабощенность судьбы человеческой – закон мира собственников. Даже внешне непритязательные бытовые вещи писателя часто тяготеют к этому обобщающему итогу.
Отсюда – соединение реалистической конкретности, бытовой живописи с символико-экспрессивной образностью. И хотя в ней немало издержек, чисто художнических, примечательно само устремление к образно-смысловому синтезу. Здесь опять протянулись нити между Серафимовичем и Горьким.
Революционно-пролетарская поэзия возникает в России в 90-е годы. В конце 90-х – начале 900-х годов создаются наиболее яркие образцы песенного жанра (русские переводы польских революционных гимнов: «Варшавянка», «Красное знамя», «Беснуйтесь, тираны», русский перевод «Интернационала», оригинальные произведения Л. П. Радина, А. Я. Коца, А. А. Богданова, ряда безымянных авторов, большой цикл «майских» песен и др.). Новая поэзия, преемственно связанная с традициями русского гражданского искусства XIX в., демонстративно выявляет свое особое, пролетарское содержание.
В период первой русской революции и затем революционного подъема 1911—1914 гг. пролетарское стихотворчество приобретает особенное распространение и популярность в массах. В произведениях 10-х годов Демьяна Бедного, А. И. Маширова, М. П. Герасимова, А. Н. Поморского, И. И. Садофьева, А. К. Гастева, И. Г. Филипченко и других кругозор молодой литературы расширяется, она стремится выявить целостный характер нового миросозерцания. В ней развиваются наряду с устойчивой темой революционной борьбы темы просвещения, науки, искусства, мотивы пейзажные и лирические.
В творчестве некоторых пролетарских поэтов общая тенденция к укрупнению масштабов по-своему выразилась в пристрастии к планетарной, космической образности. Поэмы в прозе самобытного художника Алексея Капитоновича Гастева (1882—1941), написанные между 1913 и 1917 гг. («Гудки», «Башня», «Рельсы», «Балки», «Мы посягнули», «Экспресс» и др.), проникнуты ощущением близости технической революции. Гастев провидит исполинские башни, возведенные к небу, города, построенные из бетона и металла, землю, сдвинутую людьми с ее орбиты. Будущая вселенная – «новая машина, где космос впервые найдет свое собственное сердце, свое биение».
Вместе с обогащением содержательной стороны молодой поэзии становится многообразнее и ее стилевой диапазон. Но незрелость начинающих авторов, недостаток общей и художественной культуры приводили к несоответствию между новизной содержания и выразительными средствами. Чрезмерная «всеобщность» и декларативность поэтического языка, стилевой эклектизм и подражательность предвещали характерные противоречия и крайности пролеткультовского литературного движения первых послереволюционных лет.
В пролетарской поэзии развивалось и другое течение, представленное прежде всего Демьяном Бедным (Ефимом Алексеевичем Придворовым, 1883—1945). В начальный период своей литературной работы (1908—1910) поэт «рыдающего напева», гражданский лирик школы поэта-народника П. Ф. Якубовича, Д. Бедный переходит вскоре на совсем иные идейные и творческие позиции, формируется как художник-эпик (никогда, впрочем, не оставляя лирики). Главным писательским оружием его становится сатира, излюбленным жанром – басня, а самым близким в русской поэтической классике – наследие Крылова, Некрасова, поэтов-сатириков 60-х годов. В пролетарской поэзии этих лет именно Д. Бедный всего полнее выразил тенденцию к широкому охвату социальной жизни. Его басни, фельетоны, стихи, собранные вместе, – картина страны, расколотой глубокими противоречиями, в революционном кипении города и деревни, в противоборстве классов, групп, партий, со множеством отрицательных социальных типов – фабриканта, помещика, кулака, попа, буржуазного литератора, разномастных политических деятелей, которым противостоит лагерь трудового народа («Сынок», «Хозяин», «Благодетель», «Кукушка», «Трибун», «Лапоть и сапог», «Муравьи», «Рабочим», «Наш путь» и др.). Преемственно связанная с романтической патетикой и агитационной призывностью раннего пролетарского искусства, поэзия Д. Бедного еще более прочно опиралась на другую традицию – реалистической изобразительности, разговорного языка, фольклорного стиля. Обе эти традиции соединились в повести в стихах «Про землю, про волю, про рабочую долю» (начатой в годы первой мировой войны, завершенной после Октября) – первом крупном эпическом произведении пролетарской поэзии, запечатлевшем важнейшие события политической истории России того времени.
В поэзии Д. Бедного были очевидные слабости. Его произведения грешили «заземленностью». Постоянная агитационная установка оборачивалась нередкими упрощениями и в содержании, и в форме его стихов, значительно ограничивала возможности поэта. Это продолжало сказываться и в послереволюционное время. Но в лучших своих образцах творчество Д. Бедного стало заметным явлением дооктябрьской пролетарской поэзии.
МЕЖДУ РЕАЛИЗМОМ И МОДЕРНИЗМОМ
В русском литературном процессе конца XIX – начала XX в. особое место занимают переходные, промежуточные – на границе между реализмом и нереалистическими течениями – явления. Они представляют не только конкретный историко-литературный интерес, но и значительно более широкий, историко-типологический, ибо связанная с ними проблематика выходит далеко за границы национального литературного опыта.
Пограничные литературные состояния, порожденные чрезвычайной полиморфностью художественного развития, явились одной из примет искусства слова конца XIX – начала XX столетия, возникли в литературе разных стран. При всей глубине различий между писателями, причастными к этой линии, различий между конкретным образным строем их творчества, особыми в каждом случае национально-художественными традициями, они заметно соприкасались с точки зрения широко понятой общности.

Леонид Андреев
Фотография 1909 г.
Примечателен, к примеру, путь двух выдающихся писателей: шведского литератора Ю. А. Стриндберга и итальянского – Л. Пиранделло. Творчество каждого из них поначалу развивалось в русле реалистических традиций, но затем обрело новое качество художественной мысли, отмеченное несравненно большей противоречивостью. Ведущая идейно-художественная проблематика их произведений стала ареной спора между противоположными воззрениями – детерминистским и индетерминистским. Каждый из литераторов по-своему выразил черты переходного типа художественного мышления, в котором раскрылись определенные закономерности искусства порубежной эпохи.
Пожалуй, наиболее красноречивым в этом смысле примером не только в русской, но и всемирной литературе явилось творчество Леонида Николаевича Андреева (1871—1919). Черты характерного комплекса умонастроений и художественных представлений, отметивших русскую литературу той эпохи, – напряженно драматическое переживание времени, обостренное чувство личности, мотивы протеста, бунта, отход от позитивистских (в духе натурализма) методов познания мира, поиски путей обновления и активизации образного слова – предстали весьма выразительно в произведениях писателя. Но предстали вместе с тем особенно сложным образом, многим отделяя Андреева и от круга реалистических художников, и от их основных художественных оппонентов. «Кто я? – писал он Горькому в декабре 1912 г. – Для благороднорожденных декадентов – презренный реалист; для наследственных реалистов – подозрительный символист».
В русле гуманистических традиций русской классики начинал свой путь писатель. Его произведения 90-х – начала 900-х годов поведали об участи «униженных и оскорбленных», о драмах «маленького человека». Многие темы, жанровые и стилевые черты андреевских рассказов и очерков той поры, изобразивших жизнь городских низов, особенно близки литературе демократического шестидесятничества, творчеству Глеба Успенского, автора «Растеряевой улицы». Но очень скоро центральный для произведений Андреева мотив социальной обездоленности приобретает весьма расширительный смысл, становясь мотивом всеобщей человеческой отчужденности.
Уже в ранних сочинениях писателя, когда он близок реалистам-«знаниевцам», возникают противоречия в его творчестве – метания между чувством протеста и чувством отчаяния, верой в человека и мистическими страхами. Образная система раннего Андреева, соединяющая «традиционно» реалистический и сгущенно-экспрессивный поэтический язык, тоже заключает разные возможности, которым суждено развиться в искусстве XX в., – возможность обогащения реализма путем лирической экспрессии стиля и возможность перевоплощения этой тенденции в иное, нереалистическое, качество. Самые характерные произведения писателя первой половины 900-х годов (повесть «Жизнь Василия Фивейского», рассказы «Стена», «Вор» и др.) отличаются чрезвычайной конфликтностью воссозданного бытия, катастрофическим восприятием мира. По-своему глубоко и сильно передано в этих сочинениях, лишенных внешних примет общественно-политической действительности, ощущение драматизма текущей истории в преддверии революции («...Что везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях, – это я знал... еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне „Жизнь Василия Фивейского“...» – вспоминал А. А. Блок в 1919 г.). Но одновременно передано и другое – ощущение метафизической драмы личности, которое предвещает экзистенциалистскую концепцию в ее позднейшем атеистическом варианте (А. Камю, Ж.-П. Сартр); предвещает характерным соединением героического и фаталистического мотивов, мятежного пафоса с идеей метафизического зла.
Писателя неотступно влечет трагическая проблема одинокого «я». Нескончаемо презирая массовидность, безличную мещанскую посредственность, Андреев, однако, не приемлет индивидуальность в духе философии Ницше и философии своего современника и соотечественника Льва Шестова (автора книг «Достоевский и Ницше. Философия трагедии», 1903; «Апофеоз беспочвенности», 1905). Шестов утверждает человека в состоянии духовной изоляции как непререкаемого условия свободы, оправданной в своих самых крайних, эгоцентрических выражениях. А у Андреева разобщение людей, предоставленных только самим себе, невозможность проникнуть в истинную сущность чувств и помыслов ближнего – это проклятие («Большой шлем», «Город», «Ложь», «Смех» и другие рассказы 900-х годов). Человеку «так страшно узнать и найти себя в каком-то безличном „он“, о котором говорят посторонние незнакомые люди» («Вор»).
Отсюда и особенности характерологии. В произведениях писателя явственно различаются два личностных начала, два «индивидуализма». Эгоцентрики, исповедующие мизантропическую философию, считая ее спасительным для себя прибежищем, вызывают неприязнь у автора – все равно, проистекает ли такое отношение к жизни от отчаяния затравленного, запуганного, загнанного в угол «маленького человека», как в рассказе «У окна» (1899), или, напротив, от своеволия личности, которой все дозволено, как в повести «Мысль» (1902). Но есть и иные герои. Бунтари из «Жизни Василия Фивейского» (1904), из рассказа «В темную даль» (1900) протестуют во имя попранного человека. Они тоже индивидуалисты, но поневоле, и одиночество свое несут как тяжкое бремя. Однако с представлением о началах, связующих людей в социальной жизни, и разоблачительной критикой общественного порядка, попирающего эти начала, соседствует у писателя идея трансцендентного одиночества человека.
Сложно двойственна и другая важнейшая проблема андреевского творчества – проблема мысли. На протяжении почти всего пути писателя – от ранних рассказов и повести «Мысль» через повесть «Мои записки» (1908) и драму «Анатэма» (1909) до незавершенной повести «Дневник Сатаны» (1918—1919), последнего крупного произведения Андреева, – в его творчестве проходит тема изначального несовершенства человеческого разума, бессильного проникнуть в сущностные тайны бытия. Но андреевская «критика разума» имеет и другую, социально значительную, нравственно гуманистическую сторону, связанную с устойчивой традицией русской литературы (Достоевский – особенно), традицией последовательного неприятия буржуазно-индивидуалистического рационализма.
Годы первой русской революции внесли существенно новые черты в творчество Андреева. Широкие нравственно-философские проблемы соединились с остросоциальными вопросами времени в повести «Красный смех» (написанной на пороге революции, в конце 1904 г., под впечатлениями русско-японской войны) и последовавших за ней повести «Губернатор» (1905), пьесе «К звездам» (1905) и некоторых других произведениях, проникнутых глубоким сочувствием к народной борьбе. Писатель стремится приглушить зловещую метафизику в своих произведениях. В пьесе «К звездам» он предпринимает самую решительную из своих попыток переоценить скептическое отношение к разуму, осмыслить человека в его связях с историей.
Но за первыми поражениями революции последовал «обрыв» и в творчестве Андреева. Поиски обнадеживающих социально-философских истин теснятся теперь метафизическими мотивами рабства истории у вселенского зла, фатального противостояния человека неотвратимому (пьесы «Жизнь Человека», 1906; «Царь-Голод», 1907; рассказ «Елеазар», 1906; повести «Иуда Искариот», 1907; «Тьма», 1907).
Герой известной пьесы «Жизнь Человека» выключен из исторического контекста, но сохраняет черты человека революционного времени – мятежность, творческий дух, преклонение перед мыслью. От начала и до конца он непримирим и к мещанско-собственническому миру, и к мистическому злу. И тем не менее в пьесе нет прямого конфликта Человека с его противниками, хотя они присутствуют на протяжении всего действия («родственники» в сцене рождения, «враги» и «гости» в сцене бала, «наследники» во втором варианте сцены смерти Человека). Социальная коллизия последовательно вытесняется экзистенциалистской «борьбой с непреложным». Столкновение Человека и Некоего в сером сводит на нет в конечном счете конфликт Человека с другими людьми, перечеркивая все его замыслы и свершения, через все взлеты и падения ведя его к трагическому концу. Андреев сохраняет пиетет перед бунтарской гордыней героя, но в своих созидательных устремлениях его миссия обречена.
Художественные искания писателя тех лет содержат немало перспективного, и прежде всего – в области драматургии. Пьесы «Жизнь Человека» и «Царь-Голод», циклически связанные, явились опытом создания драмы-«представления» (в отличие от реалистической драмы «переживания» с ее иллюзией живой жизни), отдаленной от индивидуально характерного, обращенной к субстанциальным основам бытия, рассчитанной не на эмоциональное сопереживание, а на умственное «созерцание». Драматург пытается достичь цели средствами условной поэтики, основанной прежде всего на гротеске, «преувеличениях», доводящих «определенные типы, свойства до крайнего развития» (из письма Андреева К. С. Станиславскому, 1907). В ряде существенных сторон эта поэтика близка экспрессионистской, но не укладывается в ее границы. Искания Андреева предвещали разные пути, по которым пойдет драматургия. Они вели и к современному модернистскому театру. (Любопытно сходство давних адреевских мыслей по поводу новой драмы с суждениями Э. Ионеско об эстетике театра абсурда: «Все должно быть преувеличенно, чрезмерно, карикатурно...»; «Главное, не бояться быть неестественным... Избегать психологии или, вернее, придавать ей метафизическое измерение»). Но вели также (в отдельных решениях и замыслах) к драматургической эстетике Б. Брехта с ее принципом «очуждения» и критикой театра перевоплощения.
В последующие годы Андреев начинает искать выход из духовного кризиса, стремясь «повернуть», как писал он Горькому в феврале 1908 г., от «отрицания жизни... к утверждению ее». В 1908 г. появился его знаменитый «Рассказ о семи повешенных», сомкнувшийся в своем гневном протесте против политической реакции с характерными мотивами демократической литературы тех лет. При всех противоречиях герои-революционеры в этом произведении окружены ореолом духовной значительности и нравственной красоты. В дальнейшем движении творчества писателя (конец 900-х – 10-е годы) постепенно и трудно складывается новое качество мысли. Позади остается доверие к историческому разуму (в годы первой революции). Тому свидетельство – роман «Сашка Жегулев» (1911), последнее обращение Андреева к русской революционной истории. Но остается позади и гнетущая философская концепция «Жизни Человека» и «Царя-Голода».
В письме Вл. И. Немировичу-Данченко 1913 г Андреев характеризовал замысел своей пьесы «Мысль» как произведения, в котором «носителю голой индивидуальной мысли» противостоят «твердые и бесспорные начала коллективной, почти мировой жизни». В творчестве писателя 10-х годов происходит своеобразное оправдание бытия в конечной его субстанции. Проблема отчужденного «я» в широком философском смысле, по существу, снимается. Но как проблема текущего бытия она продолжает сохранять для Андреева всю свою мучительность и трагичность. Философски обнадеживающая мысль (например, рассказ «Полет»), чаще всего не проецируется на социальную современность. Отвлеченно понятому сущностному добру противостоит – в общественной жизни – лишь зло. В пьесах тех лет оно явлено в сатирически-гротескных картинах дворянского вырождения («Не убий»), в образах низменной буржуазной толпы («Тот, кто получает пощечины»), опустошенности интеллигентского круга («Екатерина Ивановна»), в изображенном по-достоевски тупике жизни «маленького человека» («Милые призраки»). Что же до истинных ценностей бытия, то они часто мыслятся ценностями неисторического ряда, духовными феноменами, обнаруживающимися лишь во внутреннем мире личности. Это и выразилось в ряде названных пьес, которые частично осуществляли вынашиваемую драматургом идею театра «пан-психэ» – попытка синтезировать условную пьесу «сущностей» с психологической драмой. Дуализм мысли и двойственность художественного строя по-прежнему отличали творческий мир писателя.








