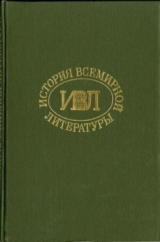
Текст книги "История всемирной литературы Т.8"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 101 страниц)
В бунинском «вечном» отсутствовало, однако, мятежное начало. В то бурное время именно это в первую очередь отличало писателя от других реалистов – прежде всего «знаниевского» круга. В годы первой русской революции расхождение между ними и Буниным, уехавшим путешествовать по Востоку и открыто подчас декларировавшим свою общественную индифферентность, становится, казалось бы, еще более разительным. На самом деле в его творчестве – уже в преддверии революции – подспудно и медленно зреют новые качества.
Примечательны многие его стихи на мотивы из Корана, которые увидели свет в 1906 г. Не собственно религиозным содержанием, но и не только поэтической силой приковал Коран Бунина. В его «подражаниях Корану» (вспомним название знаменитого пушкинского цикла) – и мысль о неких универсальных началах людского общежития, справедливых и мудрых, и пафос героического деяния:
Прах, на который пала кровь
Погибших в битве за свободу,
Благоговенье и любовь
Внушает мудрому народу.
Прильни к нему, благослови
Миг созерцания святыни —
И в битву мести и любви
Восстань, как ураган пустыни.
(«Священный прах»)
В 1906 г. написано известное стихотворение «Джордано Бруно», в герое которого возвышенное созерцание слито с жаждой борьбы.
Однако гораздо органичнее, устойчивее, чем пафос борения, оказалось другое бунинское приобретение революционного времени – устремленность к пристальному художественному исследованию общественной действительности. Отныне сочинения Бунина вовлекают читателя в круг углубленных размышлений над историей России, ее народа, над судьбами русской революции.
В известном деревенском цикле писателя (повести «Деревня» и «Суходол», 1910—1912; ряд рассказов 1911—1914 гг.) Бунина-лирика сменил суровый реалист и эпик, жесткий социальный аналитик. Воровский писал в 1911 г. о «талантливой», «архиреальной... пахнущей перегноем и прелыми лаптями» повести «Деревня» – «яркой и правдивой» в «картине быта падающей, нищающей деревни, старой деревни» и односторонней, неправдивой в запечатлении деревни новой, возрождающейся, в которой писатель усмотрел «только упадок и вырождение». Бунин своеобразно продолжает традицию трезво-критического воссоздания народного бытия в духе литературного шестидесятничества, нацеливая ее, в частности, против неославянофильских тенденций, но при этом чрезмерно сгущает мрачные краски. Поднимая одну из важнейших в литературе этой эпохи проблему национального характера, он подменяет порою социально-исторические обобщения национальными. Запечатлев с социальной зоркостью, психологическим проникновением облик нового деревенского хозяина и драму народного интеллигента (братья Красовы), писатель вместе с тем склонен объяснить эти столь разные характеры лишь тяжелым общим наследием национальной психики – «азиатчиной».
Следующая большая повесть Бунина, «Суходол», обращена к прошлому, истолковывающему настоящее, – к историческим судьбам дворянской России. С великолепной подлинностью рассказал писатель об упадке близкого ему социального мира, оказавшегося неспособным «ни к труду, ни к общежитию». Но и здесь социальные категории смещаются в сторону общенациональных.
В конце 1910 г. Горький писал автору «Деревни»: «...так глубоко, так исторически деревню никто не брал», – замечая здесь же, что «Деревня» заставляет задуматься не только о «мужике», но «о России – как о целом». Суждения Горького более приподняты, чем высказывания Воровского, но не противоречат им. Объективная художественная логика произведения шире авторского замысла. Жестко-реальное изображение пассивности, косности, непросветленного инстинкта в народной массе сообщало «Деревне» достоинства «своего рода исследования о причинах памятных неудач» (Воровский), т. е. о причинах поражения первой русской революции. Но одновременно внушало мысль об исторической обреченности российского социального захолустья. Это и обеспечило повести выдающееся место в литературе начала века как одному из самых беспощадных произведений о судьбах патриархального уклада в истории нового времени.
Написанные вслед за «Деревней» рассказы Бунина 1911—1914 гг. рисуют более многоцветную картину народной жизни, хотя и сохраняют общий сумрачный колорит. В них сближаются исторические и национальные представления писателя; возникают, по собственному признанию автора, «новые» – сравнительно с повестью – «черты нашей души, новые типы, новые настроения». Бунин поведал и здесь о русской «азиатчине» – первобытно-примитивной психике, пассивности, жестокости слепого инстинкта, явлениях «юродства» («Сто восемь», «Ночной разговор», «Игнат», «Иоанн Рыдалец» и др.). Но особенно важны положительные народные типы, демонстрирующие огромные, но невыявленные возможности национального характера, привлекательного добротою, нравственной стойкостью, глубокой духовностью, талантом («Захар Воробьев», «Веселый двор», «Худая трава», «Лирник Родион», «Сверчок» и др.).
Наряду с деревенской прозой в 1907—1911 гг. писался цикл своеобразных путевых очерков, проникнутых просветленной философской мыслью, – «Тень птицы» (названы по заглавию первого из них). Перед нами – рассказ о встречах с тенями прошедших эпох, исчезнувших цивилизаций, который навеян впечатлениями от путешествий Бунина в Константинополь, Грецию, Египет, Иудею. Отправившись путешествовать, он взял с собой книгу великого Саади. Саади – высокий образец для Бунина, «усладительнейший из писателей», который положил «жизнь свою на то, чтобы обозреть Красоту Мира». Автор «Тени птицы» знает, разумеется, о страданиях, жертвах, крови, насилиях, которыми сопровождался путь человечества. Он скорбит о невозвратимой утрате великих культурных ценностей, о бренности сущего. Но рядом с гибелью – всегда рождение, «жизнь творит неустанно», накопления веков формируют опыт поколений. Величавое зрелище – египетские пирамиды – рождает ликующие слова: «...исчезают века, тысячелетия, – и вот, братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни». В современном Константинополе, с его «терпимостью ко всем языкам, ко всем обычаям, ко всем верам», хочет видеть Бунин признаки возрождения универсальной культуры, черты которой он усматривал, например, в древней Александрии, куда «когда-то стеклись чуть не все древние религии и цивилизации...». Мысль о непрерывной духовной преемственности в человеческом развитии – главная в «Тени птицы» – по-своему спорит с национально-историческими представлениями, отразившимися в деревенском цикле.
Накануне первой мировой войны начинается, по существу, новый этап бунинского творчества. В нем углубляется эпическое качество. Писатель остался чужд шовинистическим настроениям, проникавшим в литературную среду. Его социальное ви́дение становится еще более проницательным и критическим. И одновременно противоречиво осложняется общефилософское мирочувствие, приобретая черты трагедийности и катастрофичности.
Очень широкое обобщение заключают рассказы «Братья» (1914) и «Господин из Сан-Франциско» (1915) – шедевры прозы Бунина и важные вехи в его творчестве. О колониальном порабощении во всесветном масштабе, о «земле древнейшего человечества», «жадно ограбляемой», о «цветных людях, обращенных... в скотов» поведали «Братья». Глобальный образ буржуазной цивилизации, с ее вопиющими контрастами раба и господина, отталкивающей бездуховностью, угождением чреву, искусственностью и фальшью, создан в «Господине из Сан-Франциско». Современный мир ужасает не только масштабами социальной эксплуатации, но и – что не менее важно для писателя – полным отчуждением от изначальных сил бытия. Социально разоблачительная проблематика возвышается до философской мысли, но заметно изменившейся по сравнению с «Тенью птицы». Обречена не только нынешняя тлетворная цивилизация. От века обречены усилия человека, гибельны его деяния. Удел всякого человеческого общества – роковое отчуждение от законов бытия. На произведения писателя ложится явственный отсвет «ужасающего в своей непреложной мудрости» учения (рассказ «Соотечественник», 1916), как толковал Бунин увлекшую его в те годы философию буддизма.
Однако пессимистическая философская идея, усиленная впечатлениями войны, не исчерпывает бунинского взгляда на мир. Мрачной метафизике противятся другие мысли. Искусственной цивилизации, отчужденной от стихии жизни, порою противостоит естественная человечность народного сознания, слитого с этой стихией (англичанин, человек «нового железного века», и рикши-сингалезы – в «Братьях»; «господин» из Сан-Франциско и простые люди на Капри).
Значительное содержание, трагическое и просветленное, заключают образы любви в произведениях Бунина 10-х годов («Братья», «Грамматика любви», «Легкое дыхание», «Сын», «Сны Чанга»). Высокое чувство изображено в большинстве из них как начало сопереживания, способность жить внеличным, оберегающая внутреннюю связанность человека с миром и тогда, когда рушатся внешние связи (любовь – это «жажда вместить в свое сердце весь... мир и вновь отдать его кому-то» – «Братья»).
В произведениях Бунина тех лет сложно переплетаются социальная трагедийность, мрачно-катастрофическая философия истории со светло-«пантеистической»
философией природы и с поиском освобождающей, «третьей правды» («Сны Чанга») – правды приобщения человека к миру, вопреки неизбежным страданиям.
Именно в предреволюционное десятилетие бунинское творчество приобретает масштабы, возвышающие его до явления всемирной литературы. Правда, широкое зарубежное признание начинается несколько позже, с первой половины 20-х годов, когда во Франции, где поселяется писатель, оказавшийся в эмиграции, появляются три сборника его произведений, куда вошли лучшие дооктябрьские сочинения.
По выходе в 1921 г. первого из них, «Господин из Сан-Франциско», рецензент газеты «Ревю де л’эпок» («Обозрение эпохи») писал: «Господин Бунин... прибавил еще одно имя, мало известное во Франции, к ...самым большим русским писателям». Сохранились восторженные отзывы о его творчестве крупнейших литераторов Запада (впервые опубликованные на русском языке в 1973 г.). В их суждениях (при всех разноречиях художественных позиций) сказано, по существу, о главном в произведениях Бунина – об изобразительной силе его реализма, интенсивных нравственно-философских исканиях, углубленном познании человека, удивительном чувстве природы.
20 мая 1922 г. Ромен Роллан писал своей корреспондентке Луизе Круппи об антидемократичности, пессимизме Бунина и одновременно восхищался его дарованием: «Но какой гениальный художник! И, несмотря ни на что, о каком новом возрождении русской литературы он свидетельствует!» Роллана, пристально интересовавшегося в ту пору индийской религиозно-нравственной философией, особенно привлекли проникнутые «духом необъятной, непостижимой Азии» рассказы «Братья» и «Соотечественник». В столь же высоких тонах он делился и с самим автором своими впечатлениями от его произведений. Тогда же, в 1922 г., Роллан выдвинул его на Нобелевскую премию (которой, однако, Бунин был увенчан много позже, в 1933 г.).
К 1926 г. относится отзыв Т. Манна о рассказе «Господин из Сан-Франциско», «который по своей нравственной мощи и строгой пластичности может быть поставлен рядом с некоторыми из наиболее значительных произведений Толстого – с „Поликушкой“, со „Смертью Ивана Ильича“». «Захватывающую силу» увидел Т. Манн и в «Деревне» – «этом необычайно скорбном романе из крестьянской жизни». В 20-е годы был покорен Буниным Р. М. Рильке. О «насыщенности и глубине», «изобразительной мощи», «таинственной и неуловимой власти» бунинского искусства писал в 1924 г. на страницах парижской газеты «Фигаро» Анри де Ренье. В других, более ранних отзывах он предпочел прославленному, переведенному на ряд языков рассказу «Господин из Сан-Франциско» произведения о «России вчерашнего дня», имея в виду и «прекрасный роман» «Деревня», и отдельные крестьянские рассказы с их «трагической и своеобразной красотой».
Разумеется, бунинские сочинения, опиравшиеся на богатую традицию отечественной литературы, не впервые открывали Западу русский деревенский мир. И вместе с тем несли в себе много нового и во взгляде, и в художественных красках. И это было уловлено. «Его „Деревня“ удивительна», – записал 27 июля 1922 г. в своем дневнике Андре Жид, сохранивший на долгие годы пиетет перед Буниным. О своей «глубокой симпатии» к его творчеству, вопреки столь же глубоким расхождениям «в области идей», во «вкусах», «пристрастиях», Жид написал Бунину уже на глубоком склоне его дней, 23 октября 1950 г.: «Я не знаю произведений, где внешний мир так тесно сливался бы с миром иным, миром внутренним, где ощущения были бы выбраны так точно, что их невозможно заменить другими, а слова были бы так естественны и вместе с тем неожиданны».
Все эти признания относятся к прозе Бунина. Его поэзия не имела, да и не могла иметь, столь же широкий резонанс. Это, несомненно, значительно более скромная часть наследия писателя, однако тоже превосходная. Обидные упреки во вторичности, традиционализме, даже эпигонстве, нередко адресовавшиеся ей, конечно, несправедливы. Бунин-поэт не только подхватил традиции. Он обновил и усовершенствовал возможности русского классического стиха – особенно в сфере изобразительной пластики.
К тому же поэзия Бунина нерасторжимо связана с общим содержанием его творчества, с основными путями его классической прозы.
В раннюю пору писательства проза Бунина испытала заметное воздействие его лирики. В творчестве второй половины 900-х и 10-х годов ощутимее, сильнее влияние обратное. Начиная с лет революции ширится эпический мир бунинской поэзии: быт усадебный, крестьянский, старомосковский («Наследство», «Сенокос», «Игроки» и др.); мотивы отечественной истории, величавой и трагической от самых истоков ее, со своими героями, мучениками и праведниками («Пустошь», «Святой Прокопий», «Руслан» и др.); чужие страны – их нынешняя жизнь, увиденная жадно-внимательным взором неутомимого путешественника («Венеция», «Цейлон»), и тени их незапамятного прошлого, ожившего в воображении («Стамбул»,
«Иерусалим», «Храм Солнца» и др.). В стихах Бунина нередко возникают прозаически-повествовательные интонации. Свободно обрабатываются сюжеты русских былин, летописных преданий, народные притчи, библейские легенды и суры из Корана, восточные мифы и апокрифы – египетские, сирийские, иранские, халдейские («Святогор и Илья», «Князь Всеслав»; «О Петре-разбойнике», «Александр в Египте», «Тора», «Потоп», «Источник звезды» и т. д.). Поэт еще более щедр, чем раньше, на подробности внешней жизни, и еще более точными, дробными, вещественными становятся они.
Это не означает, что Бунин-поэт переходит теперь в какое-то другое качество. Лишь некоторые из его вещей можно целиком отнести к эпически-стихотворному роду. В целом же бунинская поэзия остается чисто лирической. Подробно-описательная стихия подчиняется в ней (и в этом, в частности, ее оригинальность) исповедально-философскому содержанию. Философский стержень многих стихов Бунина – «я», личность и жизнь мира. Разные «правды» о нем и здесь вступают в напряженный диалог.
...Мы и земле и богу далеки...
В гробах трясин родятся огоньки...
Во тьме родится свет... Мы – огоньки болота.
(«Трясина»)
Или:
Прекрасна ты, душа людская! Небу,
Бездонному, спокойному, ночному,
Мерцанью звезд подобна ты порой!
(«Летняя ночь»)
Поэт пронзительно и скорбно чуток к обреченности, свойственной каждой отдельной форме существования. И только чувство «соприкасанья со всем живущим», умножающее связи «я» с миром, возможность слияния духовного опыта современного человека с опытом всего пройденного человечеством пути способны умерить эту боль:
Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
– Нет в мире разных душ, и времени в нем нет.
(«В горах»)
В стихах Бунина встретится и «акмеистское» любование вещными частностями:
Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет.
(«Просыпаюсь в полумраке...»)
Однако эстетизированный мир поэта – не камерный мир. В конечном счете частность одушевлена в его поэзии именно потому, что она не обособлена, не замкнута:
И соловьи всю ночь поют из дымных гнезд
В дурмане голубом дымящего навоза,
В серебряной пыли туманно-ярких звезд...
(«Холодная весна»)
Характерны и для других стихов такие ряды явлений, в которых «низкое», малое тянется к высокому, огромному («дымящий навоз» и «пыль звезд»). Нелегкое утверждение просветленно-философского ощущения мира происходит и в поэзии Бунина.
В творчестве ряда других реалистических художников конца 900-х и 10-х годов социально-критическая беспощадность тоже соединяется со своеобразным созерцательно-гуманистическим складом мысли.
Так, например, в прозе Куприна. Повесть «Яма» (1909—1915) – наиболее крупное его произведение тех лет. В достаточно узкой тематической сфере – изображение проституции, быта и нравов «жертв общественного темперамента» – писатель стремится запечатлеть всю отрицаемую им общественную систему. Но именно в этой претензии на широту повесть Куприна как раз и уязвима, хотя есть в ней выразительные картины, детали, частности, обладающие острым социальным смыслом. Предчувствие «огромной, новой, светозарной жизни», что «уже у ворот» («Поединок»), сменяется в повести «Яма» представлением о почти непреоборимом социальном зле, которому если и суждено исчезнуть, то в очень далеком будущем. Полный благодарной памяти о прошедшей революции («Черная молния», 1913), писатель скептичен по отношению к близкому общественному будущему. В 10-е годы социальный запал Куприна бывает очень сильным. Непримиримо отрицается и русская действительность, и все современное общество, томящееся под властью капитала («Жидкое солнце», 1912). Но отрицается чаще всего лишь с позиций «естественного» человека (например, рассказ «Анафема», 1913). Автору «Олеси» не чужда мысль о золотом веке в прошлом, «когда так радостно и легко жили люди... свободные и мудрые, как звери». Герои очерков «Листригоны» (1907—1911), откуда взяты эти слова, – рыбаки из Балаклавы, «простые люди, мужественные сердца», в них «чувствуется... какая-то таинственная, древняя... кровь первобытных обитателей». С пафосом непреходящих, неискоренимых ценностей существования – природы, любви —
особенно тесно связываются устойчивые демократические симпатии писателя. Герои его известных рассказов о любви, стилизованной легенды «Суламифь» (1908) и «Гранатового браслета» (1911) – «бедная девушка из виноградника» и чиновник контрольной палаты со смешной фамилией Желтков. Именно в простых людях прежде всего видит Куприн носителей исконных и добрых начал бытия.
В 10-е годы начинается новая полоса творчества Шмелева. Оттачивается мастерство художника-реалиста, впечатляющее великолепным языком и безошибочной точностью детали. По-прежнему судьба простого человека больше всего волнует писателя, а критика буржуазного уклада нарастает (например, повести «Стена» и «Пугливая тишина», 1912). Но если в предшествующий период своей деятельности Шмелев был неумолим и к патриархальным формам российского бытия, то ныне процесс крушения устоев уже не вызывает у него былого сочувствия. Обращение к истории нередко сменяется тоской по «природному» состоянию (например, повесть «Росстани», 1913).
С началом империалистической войны вновь вспыхивает интерес Шмелева к истории. На первых порах писатель был захвачен бравурными «патриотическими» настроениями, выражавшимися в несвойственном ему выспреннем тоне. Но уже вскоре возобладала суровость. В большинстве произведений сборника «Суровые дни» (1916), в известном рассказе «Забавное приключение» (1916) и других сочинениях той поры он живописует горе и лишения народные в годы войны, с презрением клеймит торгашей и лавочников, которые на войне «морды натроили себе», крупных буржуазных дельцов, которым с «войной повезло». Однако победить страдания дано лишь извечным, возвышенным над смутой сего дня и вообще над социальной историей духовным началам, потаенная законосообразность которых не поддается рациональному исчислению. Это и есть «скрытый» до времени «Лик жизни», «направляющая мир Правда» (повесть «Лик скрытый», 1916).
Характерное жизнеощущение художников новой реалистической волны выразилось и у раннего Алексея Николаевича Толстого (1882—1945). Его творческая биография начинается в конце 900-х годов. Символистское веяние, заметно окрасившее его первые литературные опыты, оказалось неорганичным и непродолжительным. Признание молодому литератору принес полнокровный реализм ярких прозаических бытописаний, запечатлевших опустошение, окончательный тупик дворянской России: сборник «Заволжье», романы «Две жизни» (1911, позднейшее название «Чудаки») и «Хромой барин» (1912).
Правда, в тогдашней критике высказывались и упреки Толстому в бездумно-анекдотическом изображении действительности. Стихия юмора в самом деле пронизывает прозу писателя 10-х годов. Но она не противоречит «жестокой правдивости» (Горький), а, напротив, является важнейшим ее признаком. Именно в гротесковом анекдотизме ранних толстовских сочинений, многим обязанных гоголевской традиции, особенно выразился критический пафос писателя.
Иная, позитивная, линия его творчества сопряжена прежде всего с мотивами очистительной любви. И хотя чаще всего это любовь «под старыми липами», она не изнеженное усадебное дитя, а всечеловеческое начало, противящееся сословным перегородкам. Самое интимное и сокровенное из чувств становится одним из высших проявлений связанной с миром сущности («Любить тебя и все любить, потом, кажется, весь мир любить...» – исповедуется герой рассказа «Овражки» своей возлюбленной). Эта мысль привлекает широтой и гуманностью, хотя далека еще от непосредственно исторического содержания, а порой и противостоит ему.
В годы после первой русской революции входит в силу Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875—1958), который в иных критических отзывах тех лет аттестуется как надежда русской литературы. Уже в начале творчества у него возникают сложные отношения с декадентством (гораздо более трудные, чем у А. Толстого). И в ранних рассказах писателя начала 900-х годов, и даже в романе «Бабаев» (1906—1907), произведении социально значительном, рассказавшем о кровавом подавлении революции 1905 г., навязчивы мысли о зловещем роке, повелевающем жизнью, о фатальном одиночестве человека. Но раздумья о России, грустные и просветленные, о ее национально-исторических судьбах помогают изживанию декадентского искуса (повесть «Печаль полей», 1908—1909).
В 10-е годы в творчестве Ценского, уверенно обратившегося к реализму, значительно усиливается социально-критическая проблематика. В изображении писателя кризисность русской общественной действительности – всепроникающая. Он выдвигает важнейшую проблему времени – обреченность буржуазного дела (повести «Движения», «Наклонная Елена»), создает в отталкивающем образе полицейского пристава широкое обобщение российской самодержавной государственности (рассказ «Пристав Дерябин»), рисует распад вековой русской патриархальности (рассказ «Медвежонок»).
Но с драматизмом текущей истории, остро прочувствованным, соседствует в сочинениях Ценского философическая мысль, склонная к созерцательности, предпочитающая подчас «медленную мудрость» духа деятельным усилиям. На смену гнетущей мистике приходит «радостная уверенность» в светло-гармоничном таинстве существования («есть какая-то тайная согласованность неба, земли и всего, что есть на земле» – рассказ «Недра»). Именно в этом «космотворчестве» (слово Ценского) обретает писатель внутреннюю прочность миросозерцания, как и опору для своего общественного критицизма.
Еще одно яркое явление русского реализма предоктябрьского времени – творчество Михаила Михайловича Пришвина (1873—1954), вступившего в литературу в 1906 г. В ранних сочинениях писателя отдана дань религиозно-философским исканиям символизма, утопически-народническим мотивам, но сильнее всего – земное, здоровое ощущение национальной почвы. В книгах путевых очерков второй половины 900-х годов («В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Светлое озеро»), в рассказах 10-х годов («Черный араб», «Никон Староколенный» и др.) запечатлены и особое пришвинское ясновидение природы, и поиски «чистой, не испорченной рабством народной души». Все же в поэтическом мире художника субстанция «народной души» в значительной мере отдалена от социальных бурь времени. Много позднее Пришвин писал о своих настроениях той поры: «Законы истории не всегда совпадают с законами сердца».
Поиски истинного достояния народного духа свойственны и раннему творчеству Евгения Ивановича Замятина (1884—1937). Правда, в замятинском художественном мире меньше просветов, чем в пришвинском. Писатель – во власти мыслей о том в национальном бытии, что попрано, извращено. Его сочинения 10-х годов, в которых органично сплетаются традиции Гоголя, Достоевского, Лескова, – повесть «Уездное» (1913), первое крупное произведение, повести «Алатырь» и «На куличках», ряд рассказов – посвящены захолустной России, городской и деревенской. Их главная тема – засилье мещанско-анархической стихии, российской «азиатчины», губительной для живой жизни в стране. Но таятся в замятинской провинции и задатки силы доброй, стихийно-размашистой, и мучительные усилия дремучего ума найти тропу к правде и справедливости, и нерастраченное душевное тепло.
С привлекательно широкой позиции рассматривает Замятин современную ему действительность – сквозь призму вечных ценностей существования: изначально добрая сущность человека и ее драматические судьбы в окружающем мире. Но, как и у других реалистов новой волны, исторические и общечеловеческие начала не находят примирения в сознании писателя.
Нашей классической литературе XIX столетия свойственно пристально-внимательное отношение к общественным доктринам. В реализме конца XIX – начала XX в. – особенно на этапе, о котором речь, – эта устойчивая традиция нередко нарушается. Осознавая недостаточность общественных верований прошлого, многие писатели не находят дороги к новым, проникаются общим недоверием к «теориям» и «платформам». И однако, вопреки сложностям своего духовного пути, продолжают мыслить масштабно – категориями страны, нации, народа, мира. Отсюда особая смысловая емкость повествования, тесно связанная и с художественными исканиями рубежа веков.
Русский реализм со вниманием отнесся к преобразованиям жанровых структур в творчестве позднего Л. Толстого и Чехова. В этом смысле опять-таки примечателен опыт Бунина, размышлявшего над художественной формой, которая позволила бы предельно «концентрировать», «сжимать» мысль и одновременно дать «простор для широчайших обобщений». Бунинской прозе конца 900-х и 10-х годов свойственны два основных направления жанровой перестройки (о которых упоминалось в главе о Л. Толстом).
Это, во-первых, «сжатая» эпопея (повесть «Деревня»), по-своему развивающая жанровые открытия автора «Хаджи-Мурата». В «Хаджи-Мурате» сохраняется сюжетно многолинейная структура, свойственная эпическому повествованию прошлого века, но как бы под уменьшительным стеклом. Эпическое же по сути сочинение Бунина лишено панорамности, разветвленных сюжетных линий, характерных для канонического романного типа. Художественный материал вызывает ощущение некоей части обширного целого, но оно дает знать о себе по-иному, чем в «большом» эпосе, косвенно. Прямой объект художника замыкается определенной, подробно обрисованной социальной сферой (деревенской), которая, однако, постоянно соотносится с общеисторическим фоном, обрастает множеством лаконичных штрихов, намеков, ассоциаций, широко раздвигающих тематические пределы.
В соответствии со «сжатой эпопеей» «малая» проза Бунина 10-х годов тоже приобретает своеобразно эпические черты. В ряде его рассказов этого времени (особенно из деревенского цикла) фабула отступает перед описательно-характерологической стороной. Спокойное развертывание действия преобладает над динамическим. И даже острособытийные коллизии, протекающие напряженно и драматически («Игнат», например), вписываются в картину быта, уклада, которой тесны фабульные рамки. В характерном для Бунина рассказе-портрете изображен не фрагмент жизни человека, а порою (как и у Чехова) вся жизнь его или даже две-три жизни («Веселый двор», «Чаша жизни»).
Синтезирующая художественная тенденция нередко характеризует и поэтический язык реалистической прозы 10-х годов. Лирическая волна, влиятельная в реализме лет революции, отступает теперь перед предметно-изобразительным живописанием. Порой наблюдается возврат к дочеховским его формам – щедро описательному повествованию, соприкасающемуся с натуралистическим в своей избыточности. И однако, эта описательность не вытеснила субъективности, а лишь видоизменила ее.
Так, к концу 900-х годов решительно меняется (в ряде основных сочинений) стилевой тип бунинской прозы, в которой элементы традиционно описательного стиля нередко соединяются с обобщенно-экспрессивным началом. Из множественности мелких и дробных деталей, из мозаичной россыпи фактов возникает – путем усиленного нагнетания и подбора, кажется, бесстрастных подробностей – напряженно эмоциональный образ символического смысла.
Сходные тенденции соседствуют и в прозе Шмелева – предельно объективированном повествовании, в котором оценивающее и объясняющее авторское «я» почти целиком сливается с внешней картиной. Густо замешенная «материальная» жизнь запечатлена с великим множеством бытовых подробностей. Но при этом чисто бытовая образность постоянно укрупняется в своем значении, приобретает расширительное содержание, обращенное к субстанциональным основам народной жизни либо к извечным, «природным» ценностям бытия.
Характерное соединение двух начал – экспрессивного и описательного – свойственно и популярной в реалистической литературе 10-х годов форме сказа. В нем, в свою очередь, выделяются две линии: более объективная (И. С. Шмелев, К. А. Тренев, С. П. Подъячев и др.) и более условная, представленная, например, прозой раннего Замятина («Уездное», «На куличках» и др.) и предвещающая «орнаментальную» прозу 20-х годов.
Оригинальный смысловой и художественный сплав явило творчество Пришвина: своеобразно «пантеистическое» переживание мира рядом с точным знанием историка, этнографа, краеведа; лирико-символическая образность и строгость очеркового научно-художественного повествования.








